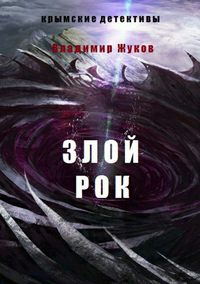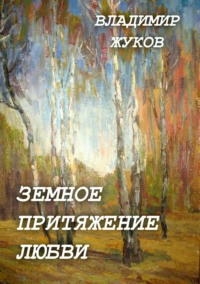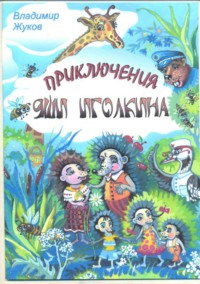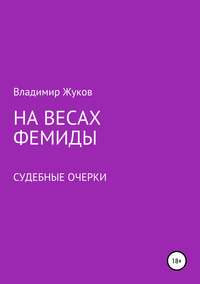полная версия
полная версияПолная версия
Сквозь пламя сражений
Все наши летчики без потерь на изрядно поврежденных самолетах возвратились на аэродром, где починкой крылатых машин занялись механики, техники.
Для нас главным принципом было, если самолет не нуждается в капремонте, то к утру он должен быть готов к вылету. Дорожили и людьми, и техникой. А Виктор Афанасьев после войны жил в Киеве. Влюбленный в небо, он долгие годы проработал в Бориспольском аэропорту. Стараюсь не терять связь с однополчанами, которых становится все меньше. Раны и годы уносят отважных летчиков в небеса.
ЗА ШТУРВАЛОМ МиГа
К моменту этой беседы Александру Михайловичу Лантареву было за восемьдесят лет. Тем не менее, был полон сил и возглавлял совет авиаторов в Керченском городском совете ветеранов войны. Военный летчик высшего класса, майор запаса, и в пору военного лихолетья, и в мирное время Александр Михайлович защищал и охранял родное небо, неся службу в Военно-воздушных силах Краснознаменного Черноморского флота. В совете авиаторов столь же мужественные ветераны: Григорий Васильевич Саворовский, Дмитрий Федотович Артамонов, Тамара Кирилловна Малышева, Владислав Донатович Пельник, Юрий Николаевич Рудаков и другие.
Чем дальше уходят в прошлое те суровые, огненные годы, тем чаще Александр Михайлович вспоминает боевую молодость и друзей однополчан.
Дорога на фронт
К началу Великой Отечественной войны Александру не исполнилось и восемнадцати. Он успел закончить учебу в Калининском индустриальном техникуме и курсы в аэроклубе.
–Овладев навыками полетов на По-2, я и мои ровесники с первых дней войны рвались на фронт, – вспоминает Александр Михайлович Лантарев. – Но меня и других выпускников аэроклуба отправили в г. Мелекес (ныне Димитровград) Ульяновской области, где мы трудились на одном из военных заводов, выпускавшем 130– и 135-миллиметровые орудия и другое вооружение. В феврале сорок второго прибыли в Саранск и были зачислены курсантами 1-го запасного военно-морского авиаполка. Строили аэродром, осваивали теорию и практику полетов и одолевали командиров просьбами-рапортами о направлении на фронт.
Теперь, с высоты прожитых лет, понимаю, что бывалые офицеры по-отечески оберегали нас, юнцов, «держали в резерве», ведь война разразилась не на один год. Летали, изучая тактику воздушных боев на истребителях ЛаГГ-3, Як-1, МиГ-3 и других типах крылатых машин. Занятия проходили по октябрь сорок третьего, а потом десятерых летчиков, в том числе и меня, направили в 7-й истребительный авиационный полк ВВС Черноморского флота. На истребителях МиГ-3 мы прикрывали с воздуха порты Поти и Батуми.
Морские коммуникации
За несколько дней до прилета Лантарева и его сослуживцев в станицу Лазаревскую, в которой базировался 62-й истребительный авиаполк, произошла трагедия. В Черном море были поражены врагом лидер «Ташкент» и два эсминца. По словам участников тех событий, экипажи наших кораблей регулярно огнем своих орудий удары по береговым укреплениям, наносили большой урон живой силе и бронетехнике противника. И на сей раз, выполнив боевое задание, возвращались на базу в Поти. С воздуха их прикрывали наши летчики-истребители на ЛаГГах-3 из 62-го авиаполка. Горючее было на исходе, его хватало только для того, чтобы дотянуть до аэродрома. И когда кораблям оставалось всего несколько десятков миль до базы, командование приказало летчикам следовать в Лазаревскую. Это было роковой ошибкой.
Вскоре над лидером и эсминцами появился немецкий гидросамолет-разведчик, а спустя несколько минут с аэродромов в Багерово и под Старым Крымом уже волна за волной налетали фашистские стервятники. Несколько наших летчиков возвратились на помощь и впоследствии с пустыми баками садились на мелководье у кавказского берега, но, увы, момент был упущен. Чтобы подобная трагедия не повторилась впредь, было решено оборудовать истребители дополнительными баками с горючим. Радиус действия тех же МиГ-3 значительно увеличился.
–Большие утраты, гибель однополчан неизбежны, – говорит Александр Михайлович. – Но настало время, когда превосходство фашистов в авиации и других видах вооружения, а главное в боевом мастерстве, остались в прошлом. Началось решительное наступление по освобождению Крыма. Я и мои однополчане участвовали в операциях, обеспечивая прикрытие бомбардировщиков на морских коммуникациях противника в Черном море, наносили удары по транспортным конвоям, кораблям охранения. Когда в апреле сорок четвертого фашисты были с суши блокированы в Крыму, их обеспечение с пополнением в живой силе, вооружении, продовольствии осуществлялось по морю. Под ударами Черноморского флота и авиации противник нес огромные потери. Наш полк участвовал и в массированных атаках на немецко-румынскую базу Констанца. Перебазировались на полевые аэродромы под Евпаторию и Саки, поближе к театру военных действий, а затем – в Альминскую долину в районе совхоза «Бурлюк».
В феврале сорок пятого состоялась Ялтинская конференция глав государств антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании. Мы прикрывали воздушное пространство и подступы к Ливадийскому дворцу, где проходили переговоры. Позже наш полк участвовал в освобождении Севастополя.
В опасной ситуации
В послевоенный период, в напряженные годы «холодной войны», Александр Михайлович не оставил штурвал. Вместе с однополчанами на истребителях охранял южные рубежи Отчизны. Однажды случилось то, о чем рассказал боевой листок, вышедший в феврале 1956 года. Вот небольшой фрагмент статьи под названием «Мужественный поступок капитана Лантарева»:
«Погода была сложная. Густые серые тучи низко ползли над землей, задевая вершины гор. Снежная пелена закрывала аэродром. Вдруг по взлетно-посадочной полосе стремительно промчалась могучая машина и через мгновенье, плавно отделившись от земли, растворилась в холодном зимнем воздухе. Ее уверенно повел на выполнение задания капитан Александр Михайлович Лантарев – летчик высокого класса, отлично владеющий полетами в сложных метеоусловиях. Когда была пробита плотная облачность, самолет находился в стратосфере, перестал действовать указатель скорости, остановился двигатель. Самолет начал терять высоту и снова входить в облачность. Но летчик не растерялся, принял смелое и правильное решение. Пилотируя самолет по другим навигационным приборам, он восстановил работу двигателя и благополучно возвратился базу…».
Запомнились Александру Михайловичу две встречи с прославленным воздушным асом – трижды Героем Советского Союза Александром Ивановичем Покрышкиным (в бытность его командования силами ПВО) в Киеве и городе Василькове. Александр Иванович добрыми словами напутствовал командира эскадрильи истребителей МИГ-15, удостоенного за ратные подвиги ордена Красной Звезды, медали «Победу над Германией» и других боевых наград.
В 1962 году в звании майора Лантарев уволился в запас, но как человек, влюбленный в небо, еще долгое время работал в гражданской авиации. В личной жизни у него все сложило удачно. В сорок четвертом году,в разгар воздушных сражений за Крым, повстречал свою Анну, служившую на пеленгаторе в авиачасти. Они вырастили и воспитали дочерей – Валентину и Людмилу, подаривших дедушке и бабушке троих внуков Александра, Егора и Михаила.
ОХРАНЯЛ РОДНОЕ НЕБО
В декабре 2000 года улица Солнечная в городе Балашове, что в Саратовской области была названа именем военного летчика Владимира Павловича Годыны, защищавшего родное небо от фашистских захватчиков, погибшего смертью храбрых. А спустя год такое же решение приняли и депутаты Керченского городского совета, переименовавшие улицу Патриса Лумумбы в честь своего отважного земляка. Впоследствии останки В. Годыны были с почестями перезахоронены на воинском кладбище в городе-герое Керчи, где он родился, провел детство и юность и впервые обрел серебряные крылья для недолгого, но отважного полета.
Этим событиям предшествовала напряженная работа активистов Энгельсского филиала ассоциации поисковых объединений «Поиск», в частности, сводного областного поискового отряда под руководством Валерия Ковляра, участвовавшего в экспедиции, и Народного союза по охране памяти о павших защитниках Отечества, действующих в Саратовской области.
23 июня 1943 года, летчик Владимир Годына возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. Управляемый им истребитель «Хоукер-Харрикейн» в ходе воздушного боя получил повреждение, из-за которого и произошла трагедия. Летчик не смог вывести самолет из пике и врезался в землю в одном из фруктовых садов села Козловки. Нашелся очевидец падения и взрыва истребителя Петр Дмитриев, которому в ту пору было двенадцать лет. Вместе с мальчишками он купался в реке Хопре. Увидели падающий самолет и устремились на улицу. Вскоре она была оцеплена военными. В большой воронке с уцелевшей рядом грушей догорали обломки самолета, передняя часть которого углубилась в землю…
После войны на месте гибели летчика был установлен скромный памятник. Узнавшие об этом сестры героя Александра и Валентина обратились с просьбой о перезахоронении погибшего на его родине – в Керчи. Но тогда решено было не беспокоить останки воина. И лишь в 1999 году, спустя пятьдесят шесть лет после гибели Владимира Годыны, властями Саратовской области было принято решение о поднятии самолета и останков летчика. Извлеченный из земли двигатель планировалось установить в Музее боевой техники под открытым небом на Соколиной горе, а останки захоронить в Керчи, где живет сестра Валентина Павловна.
Отряд поисковиков, состоящий из ребят четырнадцати и восемнадцатилетнего возраста, руководимый Валерием Ковляром, произвел раскопки самолета и останков летчика. По просьбе жителей Балашова, долгие годы бережно сохранявшими могилу, на месте падения остался обновленный, утопающий в цветах и зелени, памятник.
В июне 1999 года останки летчика были доставлены в Керчь и преданы земле с оружейным салютом. Поисковики выяснили, что по описанию боевых характеристик на истребителе «Хоукер-Харрикейн» английского производства установлен лишь один вид оружия, но на месте падения были обнаружены патроны и гильзы от трех видов, поэтому они взялись за решение этой загадки.
В июле 1999 года в Керчь правительством Саратовской области за подписью министра по делам молодежи, спорту и туризму С. Р. Ахмерова на имя В. П. Годыны было направлено письмо-благодарность: «Дорогая Валентина Павловна! Саратовцы помнят подвиг Вашего брата. В годы войны территория Саратовской области была прифронтовой. Фашистская авиация бомбила города Саратов, Балашов и Энгельс. В боях при защите города Балашова принимал участие и Ваш брат – младший лейтенант Годына Владимир Павлович, летчик 963-го истребительно го авиационного полка. Накануне наступления немецко-фашистских войск на Курской дуге участились случаи полетов немецкой авиационной разведки над территорией Саратовской области.
На перехват фашистских самолетов 23 июня 1943 года вылетел Годына В. П. на истребителе «Хоукер-Харрикейн» (бортовой № 728). Отбивая налет вражеских самолетов, он вел пулеметно-пушечный огонь и не позволил им произвести фотосъемку стратегических объектов г. Балашова. Но в бою его истребитель получил повреждения и при возвращении на базу после выполнения боевого задания от полученных пробоин самолет загорелся. Молодой летчик нашел в себе силы и мужество не покинуть горящую машину, отвел ее от города, чтобы не пострадали мирные жители.
Самолет упал на окраине села Козловки, а летчик-истребитель В. П. Годына погиб. В средней школе № 9 города Балашова создана комната Боевой славы Владимира Павловича, а на месте падения самолета установлен бюст героя. Его имя и подвиг навечно занесены в девятый том Саратовской Книги памяти. За беспримерный подвиг, совершенный Вашим братом, Правительство ходатайствует перед Президентом Российской Федерации о награждении орденом Отечественной войны первой степени (посмертно).
– Я искренне благодарна за добрую память о моем брате, – говорит Валентина Павловна. – Владимир родился в Керчи 21 января 1922 года. Семья у нас была многодетной, но жили дружно, в послушании родителям. Отец преждевременно скончался, мы в повседневных трудах и заботах помогали матери Агафье Спиридоновне. Володя часто ухаживал за огородом, который находился недалеко от аэродрома. Слушал гул моторов и с восторгом наблюдал за полетами стальных птиц. Возможно, тогда в его сознании и зародилась мечта стать летчиком. Он стал регулярно заниматься спортом и после успешного окончания в 1939 году керченской средней школы имени Шмидта поступил на учебу в аэроклуб. Занимался вечером, а в дневное время работал учеником слесаря в автохозяйстве. Через год с отличием окончил аэроклуб и в числе лучших выпускников был направлен в Качинскую военно-авиационную школу пилотов имени А. Ф. Мясникова.
В марте сорок второго Владимир сообщил о том, что «…теоретическую учебу закончил. Все зачеты сдал на «отлично». Вскоре он стал летчиком-истребителем 963-го истребительно го авиационного полка 144-й истребительной авиадивизии ПВО и, над территорией Саратовской области занимался патрулированием воздушного пространства, смело вступал в бои с неприятелем. К моменту гибели на его счету было 146 часов налета, в т. ч. на истребителе «Хоукер-Харрикейн» – более сорока. Не довелось брату встретить долгожданный День Победы, но веру в нее, как и любовь к Родине, он сохранил до конца, с честью исполнил присягу.
Валентина Павловна часто навещает могилу брата на воинском кладбище в Керчи, приносит живые цветы, мысленно разговаривает. Благодаря ее стараниям останки Владимира, пятьдесят лет находившиеся в кабине истребителя на месте его падения, обрели вечный покой на родной керченской земле.
ОТВАЖНЫЙ ЛЕТЧИК-АС
Всегда с большим интересом встречаюсь с ветеранами из военно-патриотического клуба «Побратим»: судьба, ратные подвиги каждого из них вызывают восхищение. Каждому есть о чем вспомнить, что поведать молодому поколению. Оно должно знать, какой огромной ценой завоевана Великая Победа. В книгу В. Д. Пельника, многие главы которой написаны, вошел и его рассказ об отважном однополчанине – летчике, Герое Советского Союза Викторе Николаевиче Куликове.
С задания – на «мессершмитте»
– Минуло много лет, но память сохранила имена однополчан, – говорит Владислав Донатович. – Среди них и старший лейтенант Виктор Куликов. В наш 18-й штурмовой авиаполк ВВС Черноморского флота, позже за боевые заслуги переименованный в 8-й гвардейский, он был переведен из истребительной авиации. Перед тем как сесть за штурвал Ил-2, Виктор успел обрести опыт воздушных боев с фашистами на истребителях И-16, Як-1 и других. Наш авиаполк базировался в Севастополе на мысе Херсонес, вблизи Казачьей бухты. Я вместе с другими военными техниками отвечал за вооружение, боевую часть штурмовиков, тщательно готовил их к вылетам.
Осенью сорок первого года фашисты, имея превосходство в живой силе и технике, стремились полностью завладеть Крымом. Упорные сражения развернулись в районе Перекопа, на Турецком валу и Ишуньских позициях. Именно туда, на помощь сухопутным войскам совершали боевые вылеты летчики нашего авиаполка. Огневая мощь Ил-2, который справедливо называли «воздушным танком», наносила ощутимый урон противнику, сдерживала его наступление. В этих вылетах в роли ведущего постоянно участвовал Куликов.
Однажды в октябре он вылетел на задание и, судя по времени, должен был уже возвратиться на родной аэродром. Но протекали минуты, часы и вместе с ними усиливалась тревога за судьбу летчика. И вдруг на низкой бреющей высоте со стороны Черного моря, обойдя наши зенитные орудия, на аэродром зашел и приземлился… «мессершмитт». Недолго раздумывая, дабы незваный гость не взмыл в воздух, командир авиаполка майор Алексей Губрий на машине помчался на взлетную полосу и остановился перед самолетом, преградив путь к взлету. Подоспевшие бойцы вскинули автоматы.
– Попался, Ганс! Сдавайся, руки вверх! – приказали они фашисту. А когда тот вылез из кабины, застыли от удивления. Перед ними, как ни в чем не бывало, предстал улыбающийся Куликов.
– Виктор, что же это такое? Улетел на Ил-2, а возвратился на «мессере»? – спросил озадаченный командир авиаполка. – Неужели в воздухе пересел? Настоящий циркач. Как это могло случиться? Живо докладывай!
Куликов подал из кабины китель фашистского летчика, документы и рассказал удивительную историю: После выполнения боевого задания – обстрела вражеских позиций на подступах к Турецкому валу – он взял обратный курс на Севастополь. Но его Ил-2, тогда штурмовик был одноместный, оказался подбитым незаметно подкравшимся с тыла «мессершмиттом». «От преследования не уйти и до аэродрома дотянуть не удастся» – подумал Виктор и, высмотрев внизу более-менее удобное место, посадил штурмовик на брюхо.
Выбрался из кабины и услышал над головой гул самолета. «мессер», сейчас добьет из пулемета, в живых не оставит», – промелькнула мысль. Но тот, кружа в воздухе, стал снижаться, что-то высматривая. Виктор сообразил, что фашист, видимо, полагая, что ранил русского летчика, решил взять его в плен в качестве «языка». К тому же такой «трофей» гарантировал ему повышение в звании, награду и славу.
Куликов прикинулся раненым. Распластал одну руку, а в другой зажал пистолет ТТ. Вскоре «мессершмитт» приземлился в нескольких десятках метров от подбитого штурмовика. Виктор, не подавая признаков жизни, краем глаза увидел приближающегося фашиста. И когда до него оставались считанные метры, вскинул руку и выстрелил. Сраженный метким выстрелом немец рухнул. Куликов быстро снял с него китель, взял парабеллум и, не мешкая, ведь могли появиться фашисты, побежал к «мессершмитту». Поднялся в небо и взял курс на родной аэродром. Летел низко над морем, чтобы не попасть под огонь своих зенитных орудий.
В правдивости, достоверности рассказа отважного аса ни командир авиаполка, ни однополчане не сомневались. Всем был памятен случай, когда Виктор на колесе Ил-2, не убирая шасси, перевез летчика-однополчанина с подбитого самолета через линию фронта, спас ему жизнь. А в другом случае расстрелял из поврежденного Ил-2, совершившего вынужденную посадку, приземлившийся впереди вражеский самолет. Эти и другие боевые эпизоды впоследствии вошли в сюжет кинофильма «В бой идут одни «старики». И в иных боевых ситуациях Куликов проявлял мастерство и смекалку, выходя победителем из опасных ситуаций.
Услышав рассказ, все искренне поздравили Виктора с удачей. Но вместо награды чрезмерно бдительный офицер из контрразведки Смерша («Смерть шпионам») до выяснения обстоятельств отстранил Куликова от полетов. Ему предстояло доказать свою правоту, опровергнуть подозрения в предательстве.
Золотая звезда Героя
Однажды Виктор появился на аэродроме в бодром, веселом настроении.
– Мне разрешили боевые вылеты, – сообщил он.
– Ни на миг не сомневался в твоей честности, отваге, – по-отечески похлопал его плечу Алексей Губрий, напутствуя на выполнение боевого задания.
Во время следствия события развивались так. По приказу офицера НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) два самолета У-2 вылетали на место происшествия, но тело фашистского летчика не обнаружили. Очевидно, к тому времени враги успели его подобрать. Подозрения в отношении Куликова лишь усилились. Он с каждым днем ощущал туго сжатую пружину давления и подозрительности.
Тугой узел был развязан неожиданным образом. К счастью Виктора, вскоре в плен попал один из вражеских летчиков, служивший в той же эскадрилье, что и убитый Куликовым фашист. Он подтвердил, что тот действительно погиб от рук русского летчика, захватившего «мессершмитт».
Участвуя в обороне Севастополя, к июню 1942 года командир 2-й эскадрильи 18-го авиаполка военно-воздушных сил Черноморского флота капитан Куликов совершил 193 боевых вылета на штурмовку вражеских позиций. Уничтожил 3 самолета, 8 танков, 2 танкетки, 8 пулеметных орудий, 2 бронемашины, 38 минометов и орудий, 65 автомашин противника. За успехи в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками капитану Виктору Николаевичу Куликову Указом Президиума Верховного Совета ССР от 23 октября 1942 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Также награжден двумя орденами Красного Знамени и медалями.
Не столько судьба, сколько опыт, летное мастерство, всю войну до Победы хранили отважного аса. В послевоенные годы по состоянию здоровья он был демобилизован из военной авиации.
Позже В. Д. Пельник узнал от однополчан, что Виктор Николаевич не смог расстаться с небом – родной стихией. После войны вернулся в Астрахань. Работал пилотом Министерства рыбной промышленности. Погиб 23 мая 1948 года при выполнении служебных обязанностей. когда на самолете У-2 занимался авиаразведкой на Каспии. В одном из полетов двигатель отказал, и Куликов погиб. Небо навечно забрало отважного аса. Похоронен в Астрахани. Имя Героя носит одна из улиц Астрахани. Так трагически оборвалась жизнь мужественного, благородного человека.
СЛАВА БОЕВАЯ, ПАРТИЗАНСКАЯ
Ежегодно у памятника «Партизанская шапка», расположенного за селом Перевальным у автомагистрали Симферополь—Ялта, по традиции проходит партизанская маевка. И на сей раз, с раннего утра здесь было оживленно. У подножия обелиска – букеты тюльпанов, сирени, по сторонам – почетный караул. Ветер развевает знамена и транспаранты в руках собравшихся. Музыканты симферопольского городского эстрадно-духового оркестра исполняют песни военных лет.
И вот в сопровождении инспекторов ГАИ прибывает колонна автобусов с почетными пассажирами – ветеранами войны, партизанского движения и подполья. Их приветствуют аплодисментами, добрыми пожеланиями. В лучах солнца сияют ордена и медали – высокие награды за ратные подвиги.
Член Президиума крымского парламента полковник Петр Запорожец, профессор Владимир Казарин, председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Казьмина возложили к памятнику цветы, а юные лицеисты – гирлянду.
На мраморной плите высечено: «Огромную и активную помощь советским войскам… оказывали крымские партизаны. Представитель ставки Верховного Главнокомандования маршал А. М. Василевский». И далее – результаты боевых действий партизан и подпольщиков: «За два с половиной года борьбы с фашистскими оккупантами провели 252 боя, уничтожили до 30 тысяч солдат и офицеров противника, пленили свыше четырех тысяч, пустили под откос 79 воинских эшелонов, уничтожили и захватили много вражеской военной техники. В схватках с врагом погибло более четырех тысяч партизан и подпольщиков».
Затем автоколонна с участниками встречи прибыла к памятному знаку на Ангарском перевале, также установленному в честь партизан и подпольщиков. Здесь выстроен почетный караул, знаменосец держит стяг, а музыканты исполняют военные марши. После возложения цветов к монументу состоялся митинг. В руках его участников – флаги, транспаранты с лозунгами: «Вставай под Красное знамя Победы!», «За братский союз Украины, России и Белоруссии!», «Слава Великой Победе!».
О весомом вкладе крымских партизан и подпольщиков в освобождение полуострова, сохранении подлинной истории Великой Отечественной войны от поползновений фальсификаторов, о военно-патриотическом воспитании молодежи на подвигах героев, укреплении братской дружбы с народами России, Белоруссии и других постсоветских республик рассказали председатель Крымского республиканского совета ветеранов партизан и подпольщиков Александра Андреева, Петр Запорожец, председатель Совета организации ветеранов Крыма Александр Скляров, от воинов-интернационалистов и афганцев – полковник Александр Бут. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания. Прогремел оружейный салют.
Для участников маевки коллективы художественной самодеятельности, в том числе казачий хор, дали праздничный концерт, а кашевары угостили всех солдатской кашей. Вспоминая о былых сражениях, партизанских операциях, ветераны помянули боевых товарищей ста фронтовыми граммами.
ЗА РЕКОЙ БУРУЛЬЧОЙ
В дни празднования Великой Победы в селе Межгорье Белогорского района состоялось открытие памятника на месте перезахоронения неизвестного солдата. В торжественно-скорбном мероприятии участвовали председатель постоянной комиссии крымского парламента по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам Николай Колисниченко, председатель Белогорского районного совета Степан Худоба, депутаты райсовета Любовь Юмахина, представители воинской части, общественности, молодежь.
Могила с останками неизвестного красноармейца находилась в лесу за речкой Бурульчой, где, по архивным сведениям, в ноябре 1941 года бойцы 184-й пограничной дивизии, сдерживая наступление превосходящих сил противника, вели ожесточенные сражения в Васильковской балке и на горных плато. Оставшимся в живых пограничникам удалось пройти горнолесными тропами в Севастополь и продолжить оборонительные бои в рядах доблестных защитников города.