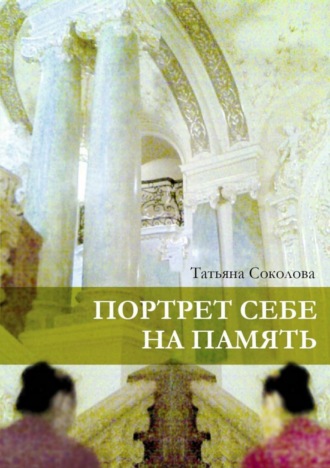 полная версия
полная версияПортрет себе на память
Я думаю про Тамару. Эта встреча не случайна. Она явно должна мне что-то сказать, но смогу ли я понять? И что мне с этим делать? Она спешит, видимо времени мало, Тамара, для которой многие ученики стали родными детьми. И я здесь чувствую себя как дома. Неважно, что она переехала в соседний квартал, я ощущаю место, связанное с ней, с её жизнью и каким-то образом – с моей, как говорят, память крови. Хотя кровь у нас разная – но это неважно. Загадочная память, переданная через неё. Мне кажется, что я здесь уже бывала и даже видела все это во сне.
Тамара, которую не любила мать…
Мать её, конечно, любила. Это она разглядела талант в четырехлетней девочке и купила пианино, наделав при этом долгов, за которые семья ещё долго расплачивалась. А какие платья она шила! А шелковые блузки! На фотографиях видно, как искусно они сшиты. Сколько ночей она просидела с иголкой, создавая тонюсенькие петли, рюши и строчки. Я часто разглядываю альбом, когда Тамары нет дома; мне интересно, как она причесывалась, как одевалась. У неё даже были лайковые перчатки. Меня поразила элегантность, а ведь это были послевоенные годы. Что-то тут не сходится…
Да и любовь не всегда приносит счастье тем, кого любят. Не зря же лорд Байрон изрек по этому поводу: «Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал. Один жестокостью, другой отравою похвал…». А мать убивала её словом: «язык змеи», – говорит Тамара. Но почему? Послушать её, так она виновата, что родилась в неудачный момент, внеплановый ребёнок. И всю жизнь сокрушается, что мать не сделала аборт – лишняя, ненужная. Странно, но в этом есть доля правды. Есть такие люди, которые всем как бы должны. Но главное, что эти «все» воспринимают их труд и заботу о себе как должное. Ещё и требуют, сердятся, повелевают. И такие гордые натуры, как Тамара, покорно несут бремя неразделённой любви и всегда готовы на подвиги, чтобы оправдать свое существование. Единственное, что утешает, так это то, что у неё потрясающая тяга к жизни.
А может, она явилась на свет, чтобы любить мать; чтобы любить мать так, как матери любят своих детей. В этом мире иногда происходят сбои, и всё может быть перепутано. Но одно ясно – неразделенная любовь наносит травмы. А недолюбленные дети – это диагноз.
С такими грустными мыслями я подхожу к Потемкинской лестнице и поднимаюсь к Одесскому оперному театру. Во-первых, нужно сфотографироваться на фоне театра, он и вправду чем-то похож на Гранд Опера в Париже. Ищу глазами, кто бы мог мне помочь в этом деле. Людей, к которым можно было бы обратиться, немного, наконец, один останавливается. Объясняю задачу: главное, чтобы я была красивая, театр тоже нужен, но это во вторую очередь. Он любезно улыбается и показывает, энергично жестикулируя, что мой телефон ему не нужен. Он что думает, что я хочу продать ему свой телефон? Но через секунду меня осеняет, что это же иностранец. Снова все ему объясняю по-английски, и мы так хохочем, что на фотографиях я получаюсь полной уродиной: то с закрытыми глазами, то с кривым ртом. Но моему фотографу снимки нравятся и фотосессия на этом заканчивается. Собственно, не для этого я сюда шла в своем выцветшем за мое пребывание в теплых широтах сарафане. Я задумала купить билеты в театр.
Приближаюсь к театру, вхожу в боковой вход, афиш много, но все одинаковые – каждый день концерт оперной труппы. Это, конечно наводит на мысль, что даже оперы толком поставить не могут, только концерты. А может, все таланты уехали на гастроли или ещё куда-нибудь. По цене билетов понятно, что шедевров не будет, но театр посмотреть хочется, и ещё думаю, что посещение театра должно благотворно подействовать на наши отношения в целом, поэтому покупаю два билета. До дома добираюсь на автобусе, надо подготовиться к завтрашнему концерту.
Открываю ключом от собора дверь, закрытую на три оборота. Тамара сидит с котом и, повернув ко мне голову, усталым голосом спрашивает:
– Как искупалась?
– Очень хорошо.
– Не выбрасывай гнилые персики в мусорный пакет, на них сидят тонны дрозофил, – продолжает она как бы хладнокровно, но я понимаю, что она скучала.
– Я же тебя предупреждала. И не закрывай полностью дверь в туалет, там на стенке живут особые мушки, маленькие треугольные существа. Они безвредны. Я не знаю, как они называются, но это очень деликатные мушки. Ты заметила, что они треугольные? Я в жизни своей не видела подобных мушек, пусть живут.
Иду разглядывать мух в туалете на стене под потолком – они и вправду особенные: менее сантиметра в длину и в проекции их очертание напоминает равнобедренный треугольник, в основании которого вырезан ещё один крохотный треугольничек.
Матрося, Кузя, ещё бездомные коты, потом птицы и, наконец, мушки – это её мир. Я, наверное, буду такой же одинокой, как она. Наверное, к старости тоже начну кормить голубей, кошек и собак.
– Да, заметила, – отвечаю ей, ставя чайник. – Будете пить чай?
– Я буду пить чай гонсин доктора Ноны, я сегодня устала. Ты знаешь продукцию доктора Ноны? Это очень полезные продукты, мне их открыла одна моя ученица, которая живет в Ливане, когда приезжала погостить.
Тамара сама себе доктор, она читает все газеты про целительство и про народные средства. С врачами у неё отношения сложные, некоторым, она считает, лучше было бы вообще не родиться. Лечится от рака сама. Восемь лет назад её уговорили сделать операцию. Это тоже целая история: как она первые три года отказывалась от операции и даже умудрилась улучшить свое состояние. Сейчас опять есть показания, но она опять отказывается от операции, лечится народными средствами и говорит, что ей лучше. Для поддержания разговора спрашиваю:
– Что она делает там, в Ливане?
– Она вышла замуж за ливанца, который у нас учился, у неё там семья.
– Скучает? В парандже ходит?
– Может быть, но у неё там дом и дети. Муж её современный человек, поэтому она носит только хиджаб – это женский платок. Когда она собиралась уезжать, она приходила ко мне за советом. Ей очень хотелось завести семью, тем более, что отец её пил и она не испытала счастливого детства. Да и красотой она не отличалась, а он парень неплохой. Хотя, конечно, по их законам мужчина может себе позволить больше, чем женщина. Я думаю, что здесь у неё вряд ли могла сложиться достойная семейная жизнь, вышла бы замуж за какого-нибудь пьяницу и тянула бы лямку.
Смотрю на неё и хочу сказать про театр, но слова не вставить, слушаю рассказ о жизни в Ливане. Вспоминаю мусульманский культурный центр, который я сегодня так кстати посетила. Наконец, набираю воздух, чтобы сообщить радостное известие, но Тамара мне говорит:
– Я смотрю, ты все время ковыряешь эту халву, непонятно у кого купленную, непонятно из каких отходов сделанную! Выбрось её немедленно! Я не понимаю,почему люди таким дурацким способом принимают яд. Даже в средние века, чтобы не умереть от яда, многие часто отказывались от яств, подозревая, что они отравленные. А у нас всё наоборот. Люди сами нарываются и ещё детей кормят. Нация вымирает. Раньше такого не было, мы питались простыми живыми продуктами. А какие дети были в нашей семье! Я научила своего племянника Фиму в 7 месяцев петь. Он повторял за мной и ни разу не сфальшивил. А его сестра Римма! Она в десять месяцев рассказывала сказку «Колобок». Правда, картавила, но мы понимали. Я помню себя с полутора лет, но расскажу тебе воспоминания, относящиеся к третьему году моей жизни, как я чуть не утонула в огромной кринке с молоком. Однажды мама пошла в црабкоп…
– Куда мама пошла? – перебиваю её.
– Я думаю, это был центральный рабочий кооператив, – поясняет она, продолжая свое повествование.
Передо мной стоит мой ноутбук, я параллельно умудряюсь работать, поэтому всё остальное пропускаю мимо ушей, а слово црабкоп записываю. Как давно это было, какие смешные слова. Тамара замечает мою невнимательность и окликает:
– Ты слышишь, что я тебе говорю?! Когда ты научишься слушать?! А потом родилась моя сестра. Сестра была очаровательным ребёнком. Ей ещё года не было, когда она рассказывала сказку: «Снесла курочка яичко…», конечно, на своем языке, но мы её понимали. А когда ей было три года, мама однажды ей сказала: «Пойди, отнеси дяде Фиме утюг и скажи ему спасибо». Сестра пошла, постучала в соседскую дверь, дверь отворила жена дяди Фимы, тётя Мара. Она протянула ей утюг и сказала: «А нам не надо, мы не хочим».
– Вот такие были кошки и мышки, – заканчивает Тамара свое очередное выступление.
Ладно, скажу ей про театр утром.
Театр
На следующий день, не вставая с постели, сообщаю, что мы идем в театр. Тамара выразительно поводит бровью и спрашивает: «Это в концерт или где?» И это подтверждает мою мысль о том, что шедевров мы там не увидим, но приглашение принимает.
Мы начинаем готовиться с утра. Тамара на кухне красит волосы в иссиня-черный цвет. А мне, несмотря на её настойчивые уговоры, что-то не хочется мыть голову дома, собираюсь сделать это в парикмахерской. Я каждый день моюсь на кухне в тазике с поливанием из ковшичка, а пару дней назад попробовала принять душ в туалете, получила массу удовольствий. Первое испытание – это зажечь спичкой колонку АГВ, находящуюся около входной двери в квартиру, пропустив по соответствующей трубе адекватное количество воды; естественно, что к этому ответственному мероприятию я допущена не была, так как не прошла инструктаж по технике безопасности. Зажегши колонку с третьей попытки, Тамара объяснила мне, что в туалете две трубы и три крана, два из которых водопроводчик Иван Иванович, который периодически спасает дом от Тамариных катаклизмов, категорически запретил трогать. Встав под душ и включив кран, который «можно трогать», я обнаружила, что мне на голову капает холодная вода. Сразу возник вопрос – куда же девается подогретая вода из колонки? Охлажденный мозг стал энергично выстраивать схему водоснабжения душа и, повинуясь внутреннему инстинкту, я вдруг резко открыла ещё один кран, который, по моему представлению, должен был подавать воду от колонки. Вода хлынула под сильным напором, и неожиданно душем окатило всю полку с запасами стирального порошка, мыла и туалетной бумаги, а также стенку, на которой жили треугольные мушки. Вода, не успевая уходить в слив, просочилась и на кухню; шума по поводу моей неловкости было много, и повторить этот потоп мне совсем не хочется.
Пока Томик моет голову в тазу на кухне, я пью чай и втихаря поедаю халву, которую она обещала выбросить ещё вчера. Я всё думаю: ну как это её угораздило попасть из благоустроенной квартиры в такие условия. Вот уж действительно, жить на Малой Арнаутской для неё не роскошь, а как будто она гвоздями приколочена к этой улице, как памятная доска на соседнем доме, где «жил великий еврейский поэт Хаим Бялик». И, может, когда-нибудь её ученики, которые звонят ей со всего света, тоже повесят здесь памятную доску. Мне все-таки любопытно, какую роль сыграла Оля в её жизни, но Тамара постоянно съезжает с этой темы. Похоже, между ними пробежала чёрная кошка.
Я не могу сказать, что Тамара непрактична, жизнь ее не баловала. Она хозяйственна, рациональна, но быт сам по себе никогда не был целью её существования. Нежданная на этом свете, она остро чувствовала и любила мир, в который нечаянно пришла; мир, который она настраивала по своему камертону, добиваясь чистоты и гармонии.
Она была стратегом и играла по собственным правилам. Думаю, что их дружба с Олей таки разбилась о быт. Оля подолгу жила у Тамары, приезжая в Одессу, когда она первое время сдавала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. Это только древние люди могли жить дружно большими племенами, а чем индивидуальнее человек, тем больше пространства он занимает, подчиняя все вокруг себя своим правилам.
Но пора собираться в парикмахерскую – голову буду мыть там, никакого АГВ. Да и сама Тамара не стала включать колонку, воспользовалась горячим чайником и тазиком.
За час до спектакля мы выходим из дома и идем пешком до Канатной, где собираемся сесть на автобус, который довезет нас до театра. Переходим дорогу, и Тамара останавливается на углу; я ей показываю, что остановка немного дальше. Но она упрямится, опять отчитывает меня, как последнюю выскочку и всезнайку, и стоит намертво. Автобус проходит мимо, мы не успеваем добежать до остановки, а когда добегаем, садимся на металлическую скамейку, чтобы подождать следующего. Теперь свой гнев она обрушивает на эту злосчастную железную скамейку, которая при холодной погоде является причиной страшных клинических диагнозов. Обличительная речь заканчивается конкретными примерами с перечислением пострадавших от сидения на металле и проклятиями в адрес тех, кто эту скамейку придумал и поставил здесь. «Людям, которые своей бестолковой работой приносят только вред, лучше не рождаться на свет», – заканчивает свой митинг Тамара, увидев приближающийся автобус. Садимся, проезжаем несколько остановок и выходим на Ришельевской – во внезапно разразившийся ливень. Добегаем до театра под одним зонтом и ещё минут десять стоим у театра, чтобы обсохнуть.
Оперные театры во многих странах чем-то похожи, но одесситы любят повторять, что Одесский театр напоминает Гранд Опера. Театр построен венскими архитекторами, как и Гранд Опера в стиле барокко, но на мой непросвещённый взгляд – его интерьеры элегантнее; нет той помпезности и пресыщенности декоративными элементами и скульптурой, как в парижском театре. Я смотрю, как Тамара в своем сарафане на лямочках и старенькой кружевной накидке, которую я заставила её надеть, чтобы прикрыть эти лямочки, поднимается по украшенной изящными скульптурами лестнице; потом прошу её повернуться и запечатлеваю рядом с позолоченной парой, держащей торшер с лампами в виде колокольчиков.
Наконец, мы в партере и двигаемся по проходу. Вокруг нас четыре яруса лож, на потолке в золотых виньетках роспись. Занавес тоже необыкновенно красивый. Но вдруг из состояния созерцания меня выводят радостные возгласы Тамары. Оборачиваюсь, она обнимается с женщиной средних лет в сером элегантном костюме – это её ученица. Женщина в сером сейчас работает в театре администратором, а раньше она была певицей. Как я понимаю, карьера певицы не удалась, она преподавала в музучилище, и вот теперь, на пенсии, снова в театре – без театра не может. Она провожает нас на места для почетных гостей и стоит с нами, пока в зале не погаснет свет.
Но когда начинается представление, я понимаю, что лучше было бы сидеть подальше. С сольными ариями выступают исключительно заслуженные артисты и лауреаты всероссийских и международных конкурсов, которые соревнуются в форсировании звука, попросту сказать – кто громче. Голоса резонируют в ушах, иногда срываются, а самый заслуженный баритон, упитанный мужчина лет сорока, пытаясь в несколько приемов взять верхнее фа, ещё и фальшивит. Тамара кривится и говорит мне в антракте, что они разобьют ей диафрагму своим пением. Она рассказывает, что после недавнего ремонта оказалось, что исключительная акустика театра утеряна. Под оркестровой ямой при ремонте обнаружили большое количество битого стекла и, естественно, выбросили его за ненадобностью. А когда ремонт был завершен, оказалось, что нет той акустики, которая была раньше. Вот почему, наверное, они так надрываются.
Во втором отделении нам везет больше: на сцене появляется загорелый худой мужчина, похожий на итальянца; он поет арии из мало известных у нас итальянских опер и прекрасно владеет своим бархатным баритоном. Как мы узнаем после спектакля от женщины в сером: бархатный баритон много лет работал в Италии, но недавно труппа распалась, и ему пришлось вернуться домой. Пока он занимается устройством своей судьбы, поёт в оперном театре.
Выходим из театра последними. Южная ночь, горят фонари, светятся витрины магазинов; мы идем по Ришельевской, по той стороне, где ресторан вышел из каменных стен, занял весь тротуар до бордюра, отгородился от проезжей части деревянным заборчиком с плетущимися цветами так, что пройти больше негде. Они здесь настолько освоились, что буфеты с посудой и столовыми приборами поставили прямо на улице. Лавируем между ресторанными столиками, и мне нравится здесь идти; мне нравится, что это никого не раздражает – ни официантов, ни посетителей. Я попадаю в атмосферу праздника: музыка, цветы, улыбающийся стюард в белых перчатках. Я уже не соглядатай, не раздраженный прохожий – я часть этого праздника. И это не как в Париже, где вы проходите мимо уличных кафе с крохотными старенькими столиками, где люди сидят за чашкой кофе и глазеют на дорогу, по которой несутся машины – это как в Одессе, а значит в сто раз лучше.
Мне хочется присесть за столик и выпить коктейль, но Тамара, слегка наклонившись по ходу движения, неумолимо несется вперед к остановке автобуса. Она устала, и у неё, наверное, болит диафрагма, разбитая вокалистами. Остановка рядом, на другой стороне улицы, там уже стоит автобус, потому что это конечная. Этот автобус не довозит нас до дому на два квартала, и тут опять начинается моя пытка автомобилями. Она идет по проезжей части. Машин не так много, но в ночное время они летят с большой скоростью и сигналят. Я молча иду за ней, вздрагивая и непроизвольно прижимаясь к тротуару при каждом сигнале. Быстро удаляясь от меня на этой полосе препятствий, она кидает мне через плечо:
– Тебя никто не заставляет здесь идти, иди себе на тротуар, что ты дергаешься? Нужно идти непоколебимо, тогда они будут объезжать.
– А зачем? – кричу я, – зачем так всех раздражать, мы же создаем людям помехи, может произойти авария.
Мои возражения вызывают у неё шквал эмоций, она мне тоже что-то кричит, кого-то в чем-то обвиняет, но я не слышу из-за шума машин. Я не понимаю, что это за дурацкий подвиг? Или это просто привычка, и это я психопатка, которая боится машин? Но мне уже все равно, у меня внутри лопается мембрана, которая все эти дни сдерживала её натиск, и я выпаливаю:
– Как вы можете? Это же просто террор. Вы подставляете себя под машины и человек, который случайно может наехать на вас, сядет в тюрьму из-за вашего упрямства, из-за того, что вы не признаете машины. Но они всё равно существуют. Понимаете? Этого уже не изменить! От вас исходит сплошной негатив, вы всех ругаете. Мне трудно рядом с вами, завтра же уеду, не останусь больше. Лучше бы я сидела в своей гостинице в Туапсе и вообще у меня дел по горло. Никогда больше не приеду! Никогда!
Это производит впечатление, она как будто просыпается. Как снеговик, немного подтаивает. Не свойственное ей сомнение пробегает сначала по лицу, а затем по всей фигуре. Она даже поникла – и мне её жаль. Мы теперь идем рядом по тротуару, подходим к дому, и Тамара шепчет про себя грустно и задумчиво: «не-га-тив». Входим молча, я ставлю чайник. Потом поворачиваюсь к ней.
– Я налью вам чая?
– Нет, лапка, – говорит она, – чай – это индивидуальный продукт, я сама наливаю чай.
Мы долго смотрим друг на друга, и я спрашиваю:
– Почему вы такая?
– Сейчас объясню, – отвечает Тамара, пытаясь совладать с собой, – слушай:
«Встречаются два одессита:
– Боже мой, кого я вижу! Соломон Моисеевич!
– Да, меня зовут Соломон Маркович.
– Вы же мне будете рассказывать, как вас зовут?! Я вашего папу с детства знал, он был таким высоким и кудрявым.
– Ничего подобного. Он был маленький и лысый.
– И вы еще возражаете!!! Вы же просто не знали своего папу».
– Это же Одеса, лапка. Я одеситка, понимаешь?
Понимаю и представляю, как они жили тут месяцами с Олей.
После театра
На следующее утро Тамара встает рано, тихо кормит кота, и когда я просыпаюсь, я понимаю, что она уже успела что-то приготовить на кухне. Мы завтракаем в дружественной обстановке. Косые лучи солнца пробиваются в наши окна первого этажа, погода хорошая и, кажется, не очень жарко. Собираюсь на пляж в Лузановку, ни разу там не была, поеду надолго. Вчера с утра, перед тем, как отправиться в парикмахерскую, я решила окунуться, стала спускаться на пляж и вижу: какие-то желтые широкие полосы идут вдоль всего берега, спустилась ниже, на площадке около кафе слышу разговор двух мужчин:
– Я извиняюсь, это дрэк, а я сначала думал, шо это риба там плавает, – говорит полный мужчина в полосатых штанах.
– Какая ж, к чертям собачьим, риба! Когда на шестнадцатом участке около «Аркадии» канализацию прорвало, – отвечает другой, видимо, официант кафе.
Все же спускаюсь к морю, даже вхожу по колено в воду; народ плавает, стараясь обходить желтые полосы, и дети копошатся в воде. Пытаюсь ненавязчиво завязать разговор на тему: «А кто знает, что представляют собой желтые полосы с однородной массой включений?» Но моя инициатива не находит понимания у отдыхающих. Даром что отдыхающие – не хотят портить себе настроение.
Лузановка – это длинный пляж за городской чертой, но вода мелковата и народу полно, яблоку негде упасть. И по широкой асфальтовой дороге все идут и идут от трамвайной остановки до пляжа мимо бесконечных ларьков и кафешек. Как причитала моя няня, глядя в телевизор на толпы демонстрантов: «Сколько людей! И ведь каждого накормить надо, хлеба-то одного сколько нужно». И у меня тоже возникает ощущение перенаселенки: каждому нужен кусочек пляжа, и попить, и поесть, и все остальное тоже. Больше не поеду в Лузановку.
После пляжа залетаю домой, Тамары дома нет, она ушла за родниковой водой. Из-за машин она категорически не желает брать меня с собой. Вот такой у неё характер – раз сказала и все. Я вижу, что пол тщательно вымыт; пол, кстати, она мне тоже не дает мыть. Быстро переодеваюсь и ухожу. По дороге ем рыбу, пью кофе и долго сижу в интернет-кафе – у меня вдруг появилось ощущение полной свободы. Потом гуляю, меня заносит на Дерибасовскую, в кафе на открытом воздухе ем мороженое. Импозантный дом из чёрного камня, у которого находится кафе, мне определенно напоминает питерские дома. И чем больше я его разглядываю, тем больше моя уверенность в том, что точно такой дом я видела в Санкт-Петербурге. Возвращаюсь, когда уже сумерки сменились чернотой южной ночи. Мне это время нравится. Я вообще люблю бродить по ночам, люблю ночные города, которые с наступлением темноты меняют свой лик: то пугают тенями и черными дырами подворотен, то манят огнями злачных заведений и завораживают перспективой освещённых бульваров.
Тамара держит на руках кота, напряженно вглядываясь в уже разгаданный кроссворд. Она к разгадыванию кроссвордов подходит творчески, постоянно их редактирует, а про ошибки сообщает в редакцию газеты. Когда не может отгадать, звонит своему двоюродному брату; как я понимаю – это её единственный близкий родственник в Одессе. Он большой интеллектуал и знает все. При моем появлении она со слезой в голосе вскрикивает:
– Как ты могла? Я два часа волнуюсь.
– А что случилось?
– На тебя могли напасть, сейчас такое время.
Я понимаю, что вся проблема в том, что я оставила её без слушателя на весь день и почти на весь вечер. Ещё мне вдруг вспоминается, что обычно, когда я ей звоню из Петербурга, она всегда спрашивает: «Сколько я могу говорить?» И говорит всё время, которое я ей предоставляю: даёт мне советы, оценивает политические события, выражается по поводу казнокрадов и бюрократов, жалуется, что когда она мне отправляет письма, её на почте заставляют писать на конверте «Россия», а она не признает распада СССР, и называет это событие дележкой бесчестных людей.
Успокоившись, она набирает в легкие воздух и начинает свой рассказ:
«Одесса такое место, где все друг друга знают, но в семье не без урода, здесь тоже иногда совершаются и кражи, и нападения. Особенно в тяжелые времена, а тем более после войны, когда на свободе оказалось много разбойников.
Однажды к какому-то празднику мама пошила нам новые платья. Хоть она меня и не любила, – вставляет она свою коронную фразу, – но одевала и кормила вполне достойно. Ляле купили золотое кольцо, как она хотела, а мне подарили часы. И вот мы с Лялей и ещё с другими ребятами, мальчишками (ведь я дружила только с мальчишками) идем в кино в рабклуб. Клуб далеко от дома – на Портофранковской. Уже вечер, темнеет. Вдруг какой-то парень пробегает мимо и как бы нечаянно задевает меня за руку. Мальчишки, которые с нами шли, сразу на дыбы, но парень – такой простоватый, неряшливо одетый – на ходу извиняется и улетучивается. Через какое-то время я вдруг чувствую, что что-то не так. И когда мы уже вошли в клуб, я вдруг поняла, что часиков-то моих нет. А часики были дорогие по тем временам. Мальчишки стали думать, как поймать негодяя, но я решила поступить иначе.
Мы тогда жили на углу Канатной и Малой Арнаутской, и в нашем дворе в доме, который выходит на Канатную, жила неблагополучная семья, у них была дочка Маруся. В детстве мы играли вместе, по праздникам мама посылала им домашнюю выпечку, потому что её мать-пьяница не вела дом. А когда девочка выросла, она связалась с дурной компанией и называть её стали Манька Косая Блямба, потому что она слегка косила на один глаз. Мы почти не общались, только здоровались при встрече. И я пошла к этой Маньке, подхожу, из окна слышится музыка – Манька гуляет; вызываю её во двор и всё рассказываю, прошу помочь. Манька мне ничего не обещает, но на следующий день приносит часы и спрашивает: «Твои?»



