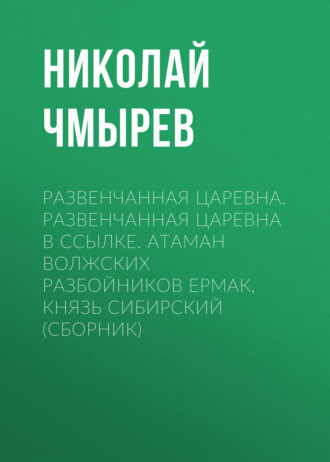 полная версия
полная версияРазвенчанная царевна. Развенчанная царевна в ссылке. Атаман волжских разбойников Ермак, князь Сибирский (сборник)
Девушка смотрела на нее, едва удерживаясь от смеха, наконец не выдержала и фыркнула. Петровна вздрогнула и оглянулась; при виде своего дитяти она присела на корточки и ласково-любовно поглядела на свою вскормленницу.
– Что это ты, Петровна, наряжать, что ли, меня собираешься, где ты пропадала? – спрашивала Марьюшка, продолжая смеяться.
Петровна насупилась и вздохнула.
– Ты что это, словно сердишься? – приставала к ней Марьюшка.
– Какое, дитятко, сержусь? В толк ничего не возьму. Затевают что-то недоброе; старухе ничего не говорят, словно чужой. Все таятся… При добром деле чего бы, кажись, таиться! – ворчала Петровна, стряхивая слезы, набежавшие на ее старческие глаза.
Марьюшка смутилась. Она горячо любила свою мамушку Петровну, ее горе всегда тяжело отзывалось в сердце девушки. Марьюшка подбежала к ней, обняла ее, заглянула в глаза.
– Что такое, голубушка Петровна? Кто тебя обидел, скажи? – заботливо заговорила она.
– Кто ж меня, холопку, может обидеть? Нешто я человек? Отслужила свое, вскормила, выходила тебя – и будет! Пора и честь знать старой! Не смей и спросить, что они над моим дитятком затевают, – расплакалась старуха.
У Марьюшки набежали на глаза слезы и повисли на длинных ресницах; она нетерпеливо сморгнула их. Одна, назойливая, упала на щеку и покатилась по розовому личику.
– Господь с тобою, мамушка, что такое, скажи! – в тревоге спрашивала Марьюшка, а голос дрожал, печаль слышна была в этом дрожащем голоске.
Обхватила старуха стройную талию девушки, прижала к себе; старая голова ее припала к плечу Марьюшки, а слезы так и льются ручьем. Всхлипывает старуха как-то жалко, беспомощно. Не выдержала и Марьюшка; обхватила голову своей мамушки, целует ее, ласкает, а сама тоже заливается слезами.
– Ну, давай, дитятко, одену тебя, – заговорила старуха, немного придя в себя. – Чай, боярин сердится.
– Зачем одеваться, Петровна? – дрогнувшим голосом спросила Марьюшка.
– Откуда мне знать? Велели одеть, ну, значит, и одевайся.
– Не стану я одеваться, ни за что не стану! – раскапризничалась Марьюшка.
– Как не станешь, коли приказано!..
– Кто приказал? Зачем? Да говори же, Петровна, голубушка! – чуть не плача взмолилась Марьюшка.
– Спала ты еще, – начала Петровна, – меня позвали вниз: смотрю, сидит там твоя бабка Желябужская. «Одень, – говорит боярин, – Марьюшку да сошли вниз». – «Зачем же это?» – спрашиваю я. «Не твоего ума, старуха, это дело», – говорит боярин. А сам таково грозно поглядел на меня, что я насилу ноги свои старые унесла.
Марьюшка побледнела.
– Мамушка… голубушка… неужто ж меня опять во дворец поведут? – с отчаянием, трясясь всем телом, спросила она.
– Знать, туда, дитятко.
Марьюшка заплакала и беспомощно упала на скамью. Вспомнилось ей, как недели две тому назад ее тоже бабка водила в царские хоромы, вспомнилось – и кровь застыла у нее в жилах. Привели ее туда, а там уж много девушек; выбрали из них около сотни, в том числе и Марьюшку, выбрали и увели их в другую светлицу, да и давай там измываться над ними, позорить их, уж такого позора никогда, знать, не повторится; не рассказала об нем Марьюшка Петровне даже: оголили ее девичье тело, рубаху даже сняли, пришла повитуха и давай рассматривать ее. При одном воспоминании Марьюшка горела от стыда, голова кружилась у нее, она не заметила даже, как Петровна одела ее.
– Уж и хороша же ты, дитятко, господи, как хороша, – говорила Петровна, глядя на нее, – если тебя во дворец поведут, быть тебе царицей.
«Опять, чай, позорить начнут», – подумалось Марьюшке, и яркий румянец окрасил ее лицо, на глазах заблестели слезы.
– А что думаешь, дитятко, вчерашнее-то гаданье в руку, ведь суженый-то Михаилом назвался… – встрепенулась старуха.
– Так что ж?
– А царя-то как зовут? Михаилом, чай!
Марьюшка грустно улыбнулась.
– Ну пойдем вниз, – снова упавшим голосом заговорила Петровна, – пора… нет, погоди, дитятко, дай я перекрещу, благословлю тебя…
Старуха перекрестила Марьюшку и принялась целовать ее, а у девушки на душе стало так жутко, страшно; сердце тоскливо сжалось, словно беду почувствовало, да и как не беду, коли ее снова, боже избави, такой же сором ожидает, как и в прошлый раз.
– Ну пойдем, небось заждались, – проговорила наконец Петровна, отрываясь от девушки.
На пороге Марьюшка остановилась, оглядела кругом тоскливо свою комнатку, словно навек прощалась она с ней; слезы невольно набежали на глаза, но она сморгнула их, провела по-детски по глазам рукой и стала вслед за Петровной спускаться вниз по лестнице.
Отец с бабкой с ног до головы внимательно осмотрели девушку и остались вполне довольны.
– Ну, надо присесть, – заговорил Хлопов.
У Петровны подкосились ноги, словно навсегда приходилось ей прощаться со своей Марьюшкой.
– Ну, господи благослови! – крестясь и вставая, сказал Хлопов, начиная класть земные поклоны. За ним начали молиться все.
– Теперь надо благословить тебя. Не на шуточное дело идешь, – продолжал отец, вынимая образ из божницы.
Марьюшка поклонилась отцу в ноги. Она была бледна, это торжественное прощание, словно перед долгой разлукой, пугало, тревожило ее. Петровна тряслась всем телом, слезы ручьем бежали по ее старым морщинистым щекам.
Машинально, бессознательно шла девушка с бабкой. Она сильно беспокоилась, боясь повторения того, что было уже раз во дворце.
Прошли Никитскую, повернули направо и пошли по берегу Неглинки, протекавшей под самой кремлевской стеной; вот и деревянный мост, перекинутый через реку и ведущий к Троицким воротам… Миновали ворота и повернули ко дворцу. Вот он уж близко. Сердце упало у Марьюшки. Многое бы она отдала, чтобы отказаться от этой прогулки, от этого посещения дворца; будь на это ее воля, она, кажется, дала бы зарок не только не заглядывать в него, а и ходить-то мимо… да что ж поделаешь… не по своей воле идет она, ведут ее по царскому указу.
– Что это мы… опять во дворец? – решилась она спросить у бабки.
– Во дворец, Марьюшка, – отвечала та.
– Что ж, опять… опять рассматривать меня будут? – с замиранием сердца спросила девушка.
– Не каждый раз рассматривают-то; будет и одного, – отвечала, улыбаясь, бабка.
Они подошли к крыльцу. Марьюшка остановилась, чтобы перевести дух; сердце ее замерло, дыхание перехватило. Ей казалось, что, вводя ее в эти двери, ее хоронили, хоронили и замуровывали выход. Оглянулась Марьюшка назад, словно прощаясь со всем, что было ей так дорого, со своей девичьей жизнью, своей беленькой небольшой светелкой, со своей старой мамушкой Петровной, и тоскливо, грустно стало на душе у девушки. Она оглянулась кругом. В сводчатых хоромах, расписанных яркими красками, находилось кроме нее около сотни других девушек.
Девушки красивые, дородные, одна краше другой. Были здесь и боярские, и княжеские, и дворянские дочери. Все они взглянули на вошедшую Марьюшку, и эти любопытные взгляды, шепот и неопределенные усмешки окончательно смутили девушку.
«Вишь, какие храбрые, – думалось Марьюшке, – чай, вместе над нами насмехались, а им и горя мало, веселятся». Марьюшка потупила глаза; безучастно относилась она ко всему окружающему ее. Ее поставили в ряд с другими.
– Царь, царь! – вдруг пронесся шепот в толпе. Все вздрогнули, быстро начали оправляться и потом словно застыли. Глаза всех девушек были скромно опущены вниз, но не одна из них искоса бросала взгляды на молодого двадцатилетнего царя Михаила Феодоровича. Царь вошел в сопровождении братьев Салтыковых. Михайло сразу отыскал глазами Марьюшку и побледнел: краше всех была она здесь; быть беде, не миновать ей царского выбора, и сильно забилось у него сердце. Царь смутился; увидев в первый раз в жизни такое собрание девушек, привыкнув находиться в обществе бородатых бояр, в настоящую минуту он чувствовал себя неловко. Не менее неловко было и положение девушек. Все они знали, зачем их собрали, знали, что царь будет выбирать из них себе жену, и при этой только мысли краска все сильнее и сильнее разгоралась на девичьих лицах. При входе царя Марьюшка испугалась; она немного побледнела, и ее длинные ресницы еще более оттенились на побледневшем лице.
Молодое лицо царя вспыхнуло; он невольно опустил глаза и остановился, потом, взглянув на длинный ряд девушек, смущенных, глядевших в землю, он немного приободрился и пошел вперед медленно, важно разглядывая московских красавиц. Вот он прошел мимо десяти, двадцати, ни разу не остановившись, не сказав ни одной и слова. Наконец он остановился перед Марьюшкой, у которой от страха стали подгибаться колени, и все ниже и ниже наклонялась ее молоденькая головка; все личико вспыхнуло жарким пожаром. Салтыков едва устоял на ногах. Нужно было употребить громадное усилие, чтобы не выдать себя, чтобы казаться спокойным, – и ему удалось это.
Прошло несколько мгновений. Царь внимательно рассматривал Марьюшку.
«Что ему нужно от меня… что ему нужно? – пронеслись вопросы в ее голове. – Вон сколько прошел мимо, а на меня уставился… чего он хочет?.. Господи! Что это только будет?!» – с ужасом думала она.
А царь тоже немало смутился при виде Марьюшки, остановился и смотрит, а с языка ни одного слова не идет. Прошла томительная минута, царь покраснел не менее Марьюшки. Он чувствовал, что попал как-то невольно в неловкое положение и не может выпутаться из него; нужно сказать что-нибудь, спросить… знает он, что этим молчанием смущает все больше и больше девушку.
«Господи, что же я скажу ей? – думает царь. – А хороша! Ух как хороша!»
Желябужская, видя то впечатление, которое произвела на царя ее внучка, не могла удержаться, чтобы не оглянуться самодовольно, гордо на остальных присутствовавших женщин. Немало завистливых, злобных взглядов поймала она на лету.
– Чья ты будешь, девица? – промолвил наконец царь, обращаясь к Марьюшке.
Та быстро вскинула на него глаза, и столько было в этом взгляде мольбы, стыдливости и какого-то невольного упрека за то неловкое положение, в которое он поставил ее. Она опять искоса взглянула и, заметив Салтыкова, застыдилась еще пуще.
«И этот здесь… Зачем он затесался? Что я скажу царю? Что ему нужно от меня?» – с ужасом думала Марьюшка, не расслышав тихого вопроса царя. Мысли вихрем проносились в ее голове, путались, мешались, она готова была расплакаться.
– Чья же будешь? – повторил царь, не спуская с нее глаз.
– Хлопова!.. – чуть не плача отвечала Марьюшка.
Царь невольно улыбнулся.
– А имя и отчество твое как? – продолжал он ее допрашивать.
«Вот привязался-то!» – думала Марьюшка и снова взглянула на царя; тот смотрел на нее так нежно, так ласково.
– Марья Иванова… – отвечала она немного смелее.
– Кто же твой батюшка, чем занимается?
– Дворянин…
– И матушка есть?
– Нет, у меня мамушка Петровна, а родной нет, померла, – отвечала Марьюшка, глядя уже на царя, а сама думала: «Какой он ласковый, добрый!»
Царь еще раз поглядел на нее, потом повернулся и пошел дальше, но, сделав несколько шагов, остановился, подумал и, быстро повернувшись, вышел из палаты, бросив последний взгляд на Марьюшку.
По выходе царя все пришло в движение, все с еще большим, чем при входе Марьюшки, любопытством стали разглядывать ее, а она все никак не могла опомниться, прийти в себя после разговора с царем.
«Кажись, все уже кончилось, можно бы и домой идти, – пришла ей в голову мысль. – То-то Петровна будет охать да удивляться, как порасскажу я ей».
– Что ж, теперь домой? – обратилась она к бабке.
– Что ты, что ты, дитятко! Никак нельзя, пока не придут от царя да не скажут, чтоб расходились, – отвечала ласково бабка.
Вошли боярыни. В палате пронесся шепот. Все вопросительно смотрели на них.
– Хлопова… Марья Ивановна?.. – спрашивали боярыни.
Желябужская подхватила внучку и выдвинула ее к боярыням. Те почтительно поклонились ей.
– Государь изволил выбрать тебя своей невестой и приказал свести тебя на верх, в царицыны покои, – передали они ей царскую волю.
Марьюшка растерялась, с испугом оглянулась кругом. Ей хотелось бежать отсюда, бежать без оглядки к своей мамушке Петровне, просить ее защиты, но боярыни с величайшим уважением, но тем не менее настойчиво взяли ее под руки и повели в царские покои перед расступившейся перед ними толпой.
Глава V
Задумчиво ходил из угла в угол по своей светлице Иван Васильевич Хлопов. Проводив дочь на царские смотрины, он стал неспокоен; всяко ведь бывает: иной раз счастье прямо с неба валится; понравится Марьюшка царю, вот и счастье, да какое еще! Тогда он первое лицо почти в Москве; все в его власти – что хочет, то и творит; первый советник царя; бояре перед ним, мелким, ничтожным сейчас дворянином, заискивают, кланяются; ему везде почет… богатые поместья так и сыплются ему в руки… Было отчего быть неспокойным, отчего задуматься.
– Эх, кабы?.. – не выдержал, проговорил вслух Хлопов.
Он подошел к окну – стекло запушено морозом, да и забор торчит перед глазами; все равно ничего не увидишь.
– Долгонько, – шепчет Хлопов. – Впрочем, мало ль их там, сотня, а то и больше, поди, разгляди да выбери…
Прошло часа два или три после ухода Марьюшки. С каждой минутой отец волновался все больше и больше.
Хлопов сел и начал барабанить по столу пальцами; брови его надвинулись на глаза; он делался все сумрачнее; на лбу показались морщины.
«Нет, дело не выйдет, – продолжал думать он, – мало ли там красавиц найдется… хороша, правду сказать, и Марьюшка, да не то небось надо там… моя Марья кроткая, тихая такая… у нее и на лице-то написано, что скорей в монастырь ей следует, чем на царский стол… нет, не след и думать пустяков… и то, чего это я забрал блажь в голову! Повели ее, как и всех водят, а я уж и рассчитывать стал, как и что будет! – горько усмехнулся он. – Эх ты, беднота, беднота наша! Куда только не занесешься от тебя… вишь, дочку на царский стол уж посадил, московской царицей сделал…»
На дворе хлопнула калитка. Хлопов вздрогнул, быстро поднялся с места и подошел к окну. Напрасно он старался протереть стекло, обледенелое и покрытое инеем, – оно было темно, непрозрачно.
В прихожей послышались шаги. Хлопов повернул голову к двери и увидел Желябужскую.
– Ну? – спросил Иван Васильевич тещу, не спуская глаз с двери и поджидая Марьюшку, но, взглянув на лицо Желябужской, он сразу понял все и зашатался. Если б не подоконник, о который он уперся рукой, то упал бы.
– Марьюшка приказала тебе кланяться, – заговорила Желябужская, – она теперь царевна стала, наверху, в царицыных покоях.
– Как… сразу… наверх?..
– Так сразу и наверх… пришли боярыни, поклонились ей чуть не в ножки и повели…
– Что ж царь, царь-то что?
– Что ж царь? Царь ничего, облюбовал девку, и конец, – говорила ликовавшая в душе Желябужская, освобождаясь от душегрейки.
– Облюбовал… как облюбовал-то, расскажи, матушка, толком, по порядку.
– Что ж тебе по порядку рассказывать, чай, сам порядки знаешь, – продолжала томить его старуха.
– Откуда я порядки эти буду знать? – нетерпеливо говорил Хлопов. – Что я, бывал, что ли, на смотринах?
– Ну, пришли мы, а там девок уже набрано страсть Господня, – начала наконец рассказывать Желябужская, – построили их всех в ряд, и мы, старухи, тут же стоим; вдруг царь выходит… Посмотрел он, посмотрел да шасть прямо к Марьюшке, а она, моя голубушка, испугалась, трясется вся; царь на нее глаза уставил и улыбается, а потом заговорил.
– Что ж заговорил-то он?
– Что? Известно, что при таком деле цари говорят, спросил, чья она… про Петровну говорила…
– Про Петровну?
– Ну да, Марьюшка сказала, что у нее есть мамушка Петровна.
– Дура девка!
– А ты не очень-то! – вступилась бабка. – Ты что? Дворянин мелкий, а она… поди-ка достань ее теперь, царевну-то!
– Куда уж нам! – самодовольно улыбаясь, проговорил Хлопов. – Теперь ее и Марьей не назовешь, величай царевной.
– Посмотрел это ее царь, – продолжала Желябужская, – поговорил с ней, а на других-то уж и смотреть не стал, повернулся и вышел, а тут вскорости и боярыни пришли, поклонились ей с таким почетом, объявили царскую милость, повели на верх… вот и все, – заключила она.
Хлопов перекрестился, положил земной поклон и встал.
– Оглянулся Господь и на нашу бедность, – промолвил он радостно. – Знаешь ли, матушка, какое счастье-то, когда дочь царица? Понимаешь ли?
– Уж и не говори, у меня в голове так и шумит, так и шумит, так просто звон какой-то, ничего не пойму, ничего не соображу.
– Сообразишь ли?..
Шум прервал речь Хлопова.
– Батюшка, бояре, родимый, царские бояре идут! – отчеканивала босоногая девчонка Грунька, влетая стрелой в светлицу.
– На место! – крикнул на Груньку Хлопов.
Та так же быстро исчезла, как и влетела. Хлопов отправился в прихожую и низкими поклонами встретил царских бояр.
Бояре вошли в светлицу; один из них выступил вперед.
– Государь царь и великий князь всея Руси оказывает тебе и всему твоему роду великую милость, – начал боярин. – Государь изволил дочь твою, Марью Ивановну, поять себе в невесты и указал тебе и твоим ближайшим родственникам, нимало не медля, явиться во дворец.
Боярин закончил. Хлопов низко, почти земно поклонился ему. Он совсем растерялся и не нашел сказать ни одного слова. Бояре вышли. Хлопов начал суетливо собираться во дворец.
Глава VI
Марьюшка точно во сне находилась, когда ее привели на верх в покои, занимаемые царицею. Сравнительная громадность покоев, раскрашенные узорчатые стены и своды – все это давило, как-то уничтожало ее. Невольно при виде этой царской роскоши являлось у девушки сравнение с бедненькой беленькой светлицей, в которой она жила у отца; и Петровна казалась такой старой, сгорбленной в сравнении с этими дородными, раскрашенными румянами боярынями, которые с этого времени должны были служить ей, ухаживать за нею.
Испуг прошел, осталось только смущение. Лицо Марьюшки горело, глаза растерянно бегали по сторонам; она чувствовала неловкость при виде того почета, уважения, ухаживания, которые рассыпались перед бедной дворянской девушкой, еще несколько часов тому назад скромно и тихо шедшей по улице со своей бабушкой…
«А где же бабушка?» – пронеслось у нее в голове. Она оглянулась, поискала ее глазами, но не нашла. Все эти новые лица мешались, путались перед нею; она опустила глаза и как будто окаменела.
Если бы спросили ее, она не могла бы дать ясного отчета в том, что происходило с ней. Она смотрела, слушала, но что творилось у нее перед глазами, что говорилось при ней, она почти не сознавала; голова ее кружилась от неожиданности, от смущения и чего-то такого, чего она не испытывала никогда в жизни. Что-то странное, непонятное, никогда небывалое чувствовалось у нее на душе, на сердце. Детская, шестнадцатилетняя девичья душа вдруг начала просыпаться, мужать, делаться открытой для честолюбия, желания властвовать. Ей вдруг начали нравиться этот почет, низкие поклоны, царские, наконец, хоромы; ей не хотелось бы, было бы тяжело возвратиться к отцу; одного только ей недоставало теперь: ей бы очень хотелось, чтобы сюда во дворец привели ее старуху, мамушку Петровну. От волнения она вздрагивала, закрывала глаза, чтобы хоть немного прийти в себя; а боярыни все так же торчат перед ее глазами.
Явилось духовенство в облачении. Начали над ней читать молитвы, поминать имя Настасьи, надели на нее царский венец, какой обыкновенно надевали в подобных случаях на царских невест, и ушли. Ее начали поздравлять, называть царевной, Настасьей Ивановной.
«Какая я Настасья? Я Марья, – подумала она, – зачем они перекрестили меня?»
Подходят боярыни к ней, такие солидные, почтенные, целуют у нее, молоденькой девочки, руку. Царевне так зазорно, стыдно; она бы от этого стыда спряталась куда-нибудь подальше, так ей неловко протягивать руку.
«Чего ж, вправду, стыдиться? Теперь я царевна!» – приходит ей в голову мысль, и она смелее протягивает руку. Вот наконец отворяются двери, появляются бояре Салтыковы, а за ними отец, дяди. Царевна вспыхнула, хотела броситься к ним, да боярыни как-то странно смотрят, что она не знает, что и делать, и остается на месте, тоскливо опуская голову.
А родные кланяются, царевна соромится, головка ее склоняется все ниже и ниже.
– Поздравляем тебя, царевна, матушка Настасья Ивановна, – слышится ей голос отца.
«И он, и он меня Настасьей величает, царевной. Господи, что ж это такое?» – думает бедная девочка, и слезинки навертываются на глазах, и готовы брызнуть они: так не нравится ей имя Настасья. Царевной величают, это ничего, хорошо, только бы Марьюшкой звали.
– Батюшка!.. – промолвила наконец царевна.
– Что прикажешь, царевна? – почтительно спрашивает отец.
«Царевна… прикажешь… уж и дочкой, и Марьюшкой не назовет», – думается ей, и так тяжело делается у нее на душе; тоска сжимает ей сердце. Хорошо быть царевной, только что-то уж скучно, все отказались от нее, словно и родни нет, и девочка-царевна готова расплакаться.
– Пришлите, батюшка, Петровну ко мне, – почти сквозь слезы просит царевна.
– Зачем она тебе, царевна? Что ей здесь, глупой холопке, делать? – отвечает отец.
– Мне без нее скучно будет!..
– Как царь прикажет, так тому, царевна, и быть, а я здесь не волен.
– Я попрошу… царя, – проговорила царевна и вспыхнула вся.
Визит был окончен; отец и дяди опять низко поклонились и подошли к ее руке; царевна обхватила шею отца и поцеловала его.
Наступал вечер. Царевна после всех волнений была почти больна. Боярыни ее оставили, но их место заняли бабка Желябужская и боярыня Милюкова.
Царевна начала тяготиться даже присутствием бабки, ей хотелось остаться одной, подумать, но ее не оставляли ни на минуту, не спускали с нее глаз.
«Господи, да это тюрьма какая-то!» – подумала она и тоскливо огляделась.
– Устала, царевна? – заботливо спрашивает ее бабка.
– Устала, бабушка, хочется вздохнуть немножко, посидеть… одной, – нерешительно произнесла последнее слово царевна.
– Что ж, останься, мы, пожалуй, уйдем, – промолвила бабушка, поглядывая вопросительно на Милюкову.
Та поднялась, и они вышли.
Царевна взглянула свободнее, какая-то тяжесть спала с нее. Она вздохнула и слегка потянулась.
Небо было красно, обещал быть мороз. Царевна подошла к окну. Перед ней богатой панорамой разбросилось Замоскворечье, внизу лежала закованная в лед Москва-река, десятки церквей возвышались над деревянными постройками тогдашней Москвы.
«Ведь это все мое теперь, – думала царевна, бросая взгляд на развернувшуюся перед ней картину, – все мое… и эти дома, и реки… и все, все».
Долго стояла она, глядя в окно, а тени все гуще и гуще ложились на город, в покое делалось темно, пришли зажигать свечи; царевна отошла от окна и села в кресло.
«А муж у меня красивый какой будет, – думалось ей, – да какой добрый, ласковый… любить будет крепко».
И перед ней встала фигура молодого царя. Царевна с улыбкой вспоминает о нем, но мало-помалу фигура эта как-то стушевывается и исчезает, ее заменяет другая… другой человек, другое лицо: глаза этого выразительнее, лицо смелее, красивее… Царевна задумалась.
«Этот куда краше царя, – мелькнуло в уме царевны, и она испугалась при этой мысли, – ведь я теперь уж не своя, я невеста царская, а думаю о чужих, грех-то какой, батюшки!»
Но образ боярина так навязчиво лез в глаза. Царевна краснела, мучилась, но Салтыков не покидал ее. Она встала и прошлась по ярко освещенному покою.
Услыхав шаги царевны, снова явились в покой бабка с Милюковой. Они принесли с собой ящик с забавами, состоявшими из ниток жемчуга и драгоценных камней, принесли и сластей разных; у ребенка-царевны разбежались глаза… И позабавиться хочется, и сласти куда как хорошо выглядят, так и манят к себе, и чего только не было наставлено здесь… Ребячество взяло свое, царевна набросилась на сласти.
– Не кушай много, царевна, не поздоровится тебе, – заметила бабка.
А царевна и слушать не хочет ее, улыбается да пробует сласти одни за другими.
Глава VII
Церемония выбора царской невесты была окончена; имя выбранной наречено; по церквам отдано приказание о поминовении на ектениях новой царевны. Все обряды исполнены, и уж далеко за полдень бояре и чины придворные, обязанные присутствовать при церемонии, почувствовали себя свободными и стали расходиться.
Михайло Салтыков вышел из дворца чуть не шатаясь. Все пережитое им нынче, разбитые в одно мгновение мечты, разбитые одним царским взглядом, одним словом; потом это перемоганье самого себя, старание не выдать себя, своего горя, поздравления царя в то время, когда на сердце лютая тоска, напускной веселый вид – все это тяжко отозвалось на боярине, сломило его, и, только выйдя из дворца, – когда обхватил его холодный, морозный воздух, – он немного пришел в себя. Но горе еще могучее, сильнее овладело им, но и то уж было легче, что здесь, на улице, он был свободен; он знал, что никто не наблюдает за ним, не подмечает его взглядов, он чувствовал себя свободным, но и покинутым, словно одиноким; и это одиночество чувствовалось нынче как-то глубже, делалось как-то страшнее.

