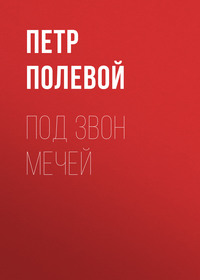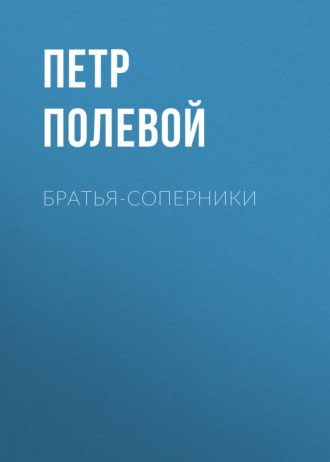 полная версия
полная версияБратья-соперники
– Зачем стану я его книги читать, когда я из его слов вижу, что он полоумный?
– Нет, не могу с этим согласиться, ваша высокоименитость! Это не безумец – это зловредный еретик, достойный костра, и государи московские, как добрые христиане, должны повелеть его сжечь во славу Божию.
– Я не допущу такого злодейства! Жечь полоумного, который никому не сделал никакого зла своими бреднями… И какое нам дело путаться в церковные дела люторов и кальвинов?
– Ваша высокоименитость, – язвительно и злобно заметил Шмит, – ведь вы, однако ж, подвергли пытке дворянина Бунакова, – а он, может быть, тоже больной или безумный! Но вы изволили поступить совершенно правильно и законно: надо было непременно пытать его, чтобы добиться правды. Так же точно в этом случае: Кульмана и Нордермана следует пытать…
Оберегатель нахмурил брови при упоминании о Бунакове.
– Я знаю, что делаю, – сказал он сухо, – и ни в каких указаниях не нуждаюсь…
– Позволю себе напомнить вашей высокоименитости, что и весьма высокопоставленные лица нуждаются иногда в нас, маленьких людях… Смею думать, что я имел уже случай оказать вам некоторые услуги… и в будущем еще могу вам пригодиться… Но я прошу и заклинаю непременно отменить указ о высылке этих еретиков… Их надо пытать, пытать непременно – и сжечь!
– Я ни за что не соглашусь на это!
– Прошу вас только о том, чтобы вы этому не противились… Тогда дело сделается само собою. А не то вы дадите этим повод вашим врагам распространять о вас, что вы покровительствуете еретикам, которые надругаются над всемогуществом Божьим и насмехаются над государями московскими.
– Что такое? Откуда вы это взяли? Они, напротив, относятся к великим государям с величайшим почтением и желают им всякого благополучия!
– С почтением? Благополучия желают! Так не угодно ли вашей высокоименитости прочесть следующее обращение этого еретика Кульмана к государям московским?
И Шмит подал Оберегателю печатанный в Амстердаме листок, в котором Кульман побуждал великих государей воевать против папства и восклицал: «Восстаньте, цари московские! Восстаньте! Послушайте Кульмана, которого сам Христос прислал к вам для проповеди. Хотя папство и Рим ищут постыдно прельстить вас, но посмотрите на исход вашего союза! Вперед, цари, под одно знамя с турками и татарами! Будьте заодно с народом, у которого голова обращена назад, – и да будет разрушена папская глава! Пусть камня на камне не останется от Рима и Вены»…
Князь Василий рассмеялся и бросил листок на стол:
– Я понимаю, что вам неприятно читать этот листок… Но где же тут осмеяние царей московских?
– Как? Разве вы тут не видите богохульства? Разве не видите, что этот Кульман советует московским государям войти в союз с «погаными» против христианских государей?
– Повторяю вам, что я вижу тут бессмысленные речи человека, который давно потерял всякий рассудок!
– В таком случае я удаляюсь и не буду вас больше утруждать моими просьбами. Но предупреждаю, что я не оставлю этого дела и что все будут на моей стороне. А ваша высокоименитость, может быть, пожалеете, что потеряли во мне верного слугу…
Оберегатель поднялся со своего места, пожал плечами, – и Шмит удалился.
Не прошло и недели, как действительно все в Москве заговорили о потворстве князя Голицына немецкому еретику, который смеет свои пророчества за морем, «в Амстердаме и в иных городах», печатать и в них о московских государях всякие небылицы писать. Их, мол, пытать да сжечь надобно, а Оберегатель им мирволит – хочет их за море отослать на великий стыд и позор Московскому государству, потому тот немецкий еретик уже многие народы возмутил. Листки Кульмана с воззванием к московским государям явились и в руках патриарха, и в руках князя Бориса Алексеевича. Пасторы немецкой слободки, не соглашавшиеся между собою ни в каких вопросах, заодно подали свои заявления в Посольский приказ о том, что Квирин Кульман и его товарищи не могут быть терпимы в среде немецкой паствы. Вопрос о Кульмане был поднят в Думе, возбудил горячие прения и, несмотря на все старания Оберегателя, огромным большинством решен был в пользу того, что «сей Квилинко Кульман есть прелестник и чернокнижник и возмутитель» и что его не за рубеж отпускать, а пытать следует и «доподлинно от него дознать, зачем он в Московское государство прибыл?».
Через несколько дней дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев во время присутствия князя Василия Васильевича в Посольском приказе доложил ему, что Квилинко Кульман и Кондрат Нордерман пытаны и с пытки ни в каком воровстве не повинились.
Князь Василий нахмурился и долго молчал.
– И что их больше пытали, то они только громче молитвы свои читали, а Кондрат и петь начал… А как их с дыбы сняли, так Квилинко опять за свое же: пророчеством и видением, говорит, знаю я, что от нынешней войны будет великое дело – променение в вере наступит, и будет едино стадо и един пастырь.
– И ничего другого не говорил?
– Говорил и еще, да такое все несуразное, что и записать было невозможно; а как мы стали ему говорить, что прежние его учители и прелестники казнены и сожжены и с книгами, и он довелся того же, так он улыбнулся и говорит: «Во всем полагаюсь на волю Божию; от многих бед меня Бог избавлял и от потопа морского – так и от ваших рук освободит же».
– Как хочешь, Емельян Игнатьевич, не приму я на себя его крови! Умываю в ней руки! Затяни как-нибудь дело… Дай мне в поход уехать.
И действительно дело затянули: приказали рассмотреть внимательно все книги и писания Кульмана, отдав их для перевода переводчикам Посольского приказа.
Но князь Василий видел, что иезуитская интрига широко раскинула свои сети и сумела придать жалкому фанатику и сумасброду значение человека, умышляющего на Московское государство; он понимал, что Кульмана будет невозможно спасти от казни, и заботился уже только о том, чтобы это кровавое дело миновало его рук и совершилось в его отсутствие… Он был утомлен тягостными впечатлениями последних месяцев борьбы и бесплодных усилий, был удручен теми невольными жестокостями, которые тяжелым камнем ложились ему на душу.
Царевна Софья неоднократно спрашивала его о причине мрачного настроения, его уныния, его тревожных помыслов о будущем… и он не решался сообщать ей свои опасения и сомнения. Он боялся напугать ее, боялся отнять у нее веру в грядущее – эту единственную основу всякой человеческой энергии.
Его тяготили и дворская обстановка, и многосложные его обязанности, и отношения к Софье, в которые он не вносил прежней горячности, прежней самоуверенной твердости – не вносил светлой надежды…
Его тяготила даже ослепительная роскошь его палат, требовавшая стольких забот, хлопот, суеты… Ему чаще и чаще приходили на память те горицкие мужики, у которых отняли последнюю одежонку, и он с досадою думал о своих несметных богатствах… «Что в том толку, что у меня четыреста кафтанов, – а покоя в сердце все нет! Вот, при всей моей силе и славе, не могу я человека от сруба спасти… Да и меня самого разве спасут мои богатства, коли моим ворогам надо будет меня к плахе привесть! Господи, прости мне мои прегрешения!»
И князь Василий почти с удовольствием помышлял об ожидающих его трудностях похода, о военных тревогах и опасностях. «Авось хоть там отдохну!» – думалось ему.
На победу, на торжество над врагами он не смел уже и надеяться.
XXV
Выполняя задуманный план, Борис Алексеевич в декабре 1688 года стал мало-помалу завлекать Петра на заседания Думы, побуждать его к тому, чтобы он заглядывал в Приказы и чаще показывался в народе. С этой целью князь Борис уговорил царицу Наталью Кирилловну переехать на зимние два месяца в ту половину Теремного дворца, которая была незадолго перед тем отделана для царя Петра Алексеевича.
Надо, однако ж, сказать правду, что преображенский баловень в это время относился еще совершенно равнодушно к стараниям ввести его в дела управления – так же равнодушно, как и к подготовляемой ему женитьбе; его голова была занята главным образом теми кораблями, которые он раннею весною собирался строить на Переяславском озере. Но Петр верил князю Борису и потому следовал его советам. Ему досаждали только придворные церемонии, в которых он вынужден был принимать участие и выполнял свою роль весьма неохотно, в угоду матери подчиняясь требованиям этикета. И вот в один из декабрьских дней, в то время когда Петр занят был с Тиммерманом решением какой-то трудной геометрической задачи, явился Никита Зотов и доложил о приходе думного дьяка по делу.
– Мне некогда – видишь, я занят! – резко отвечал Петр, не отрываясь от своей тетради, исписанной его крупным и неровным почерком.
Прошло сколько-то времени. Никита Зотов напомнил вторично о думном дьяке.
– Убирайся со своим дьяком! – громко крикнул Петр, оборачиваясь к Зотову. – Сказал тебе, что некогда!
– Тебе некогда, государь, да ведь и ему недосуг: у него – дел беремя! Побольше твоего!
Петр, вероятно, согласился с этим доводом, потому что сказал недовольным тоном:
– Ну позови его сюда!
Вошел думный дьяк – человек пожилой, степенный и благообразный; чинно перекрестился он на образа, чинно отвесил поклон государю и стал у порога в ожидании приказаний.
– Читай что принес!
– Принес тебе, великий государь, роспись: как на завтрее вашим царским величеством мать гетмана Мазепы являть будем и что при том говорить положено.
– Читай скорее!
Дьяк развернул столбец и прочел в нем следующее:
– «Думный дьяк скажет: „Вашего царского величества богомольцы, Киево-Печерского Вознесенского девичьего монастыря игуменья, а подданного нашего царского величества гетмана Ивана Степановича Мазепы мать, Мария Магдалина, с сестрами вам, великим государям, челом ударила”. И подаст игуменья великим государям лист»…
– Какой лист? – перебил Петр.
– Лист – а в том листе похвала великим государям и молитва о здравии их, – пояснил дьяк и продолжал чтение: – «Да она ж, игуменья, великим государям челом бьет в поднос: великому государю царю и великому князю Иоанну Алексеевичу, всея Великие и Малые и Белые России самодержцу – просвиру и полотенце, шито золотом. И тебе, государь – просвиру ж и полотенце ж, шито золотом», – добавил дьяк, отрываясь от чтения и отвешивая низкий поклон Петру.
– Только и всего? Или еще что есть? – нетерпеливо допрашивал Петр.
– Еще есть малая толика, государь, – отвечал дьяк и продолжал чтение: – «И великие государи укажут у ней принять лист и поднос, а игуменью с сестрами пожалуют к руке и укажут игуменью с сестрами спросить о спасении. И думный дьяк скажет: „Игуменья и сестры! Великие государи, их царские величества, жалуют вас, – велели спросить о вашем спасении”. А потом скажет он игуменье: „Великие государи, их царские величества жалуют тебя, игуменья, вместо стола кормом. И отпустить на подворье”».
– Ну, теперь все?
– Все, государь, – отвечал дьяк с низким поклоном.
– Ну так и я отпускаю тебя на твое подворье.
И когда дьяк вышел за двери, Петр с досадою ударил кулаком по столу и сказал, обращаясь к Тиммерману и Зотову:
– И вот из-за этих дьячих речей да из-за ее шитого полотенца у меня завтра целое утро пропадет!.. Да и сегодня помеха в ученье вышла! Вон, смотри, Франц, я тут углы-то верно взял, и аддицию верно сделал, а в мультипликации наврал… Давай все сызнова переделывать.
В тот же день вечером князь Борис Алексеевич на своем московском подворье принимал и угощал дорогого гостя – Емельяна Игнатьевича Украинцева, угощал его наедине и с глазу на глаз вел с ним беседу, прихлебывая заморское винцо из дедовских кубков:
– Так ты говоришь, Емельян Игнатьевич, что князь Василий в уныние впал?
– Совсем буйную головушку ниже могучих плеч повесил! Гложет его червь какой-то – даже и не понять, со стороны-то глядя…
– Чего тут не понять? Видит теперь, что я ему правду говорил: опомнись, мол, куда ты гнешь, – дни ее изочтены, не миновать ей монастыря… Где же ей управить! Вот это самое и мутит теперь его…
– Нет, тут и другое есть: ее покинуть жалко, а с нею-то сам видит, что добром не кончить… Ну и тоскует, и ходит сумрачнее ночи. Намедни гетманские казаки – что с матерью Мазепиной приехали – принесли ему при мне письмо от гетмана и десять тысяч рублей в червонных золотых, в серебряных копейках да в талерах битых. А в письме Мазепа просит «принять приношение милостиво и ховать его в отческой ласке и заступлении». Так что бы ты думал, князь? На деньги князь Василий даже не взглянул, не приказал пересчитать – велел снести в подвал… И только!
– Что же так? Или не любы стали?
– Говорит: «Все прах и тлен! С собою в гроб не возьмешь». И все-то опротивело ему! Бывало, все ему подавай, все в руки забрать хочет, всего ему мало! Из-за моря ему привозят немцы всякие диковинки, то часы, то клевикорты, то фонтаны, а он у них меняет, покупает! А теперь на все свои сокровища даже и не смотрит… Как-то раз сказал мне: «Все бы бросил – в монастырь ушел бы».
– И хорошо бы сделал, кабы ушел до времени! А то, пожалуй, так его запутают, что угодит и подальше монастыря…
Да! Шакловитый, чай, только и ждет его отъезда. Как князь Василий в поход, так он опять за шашни…
– Ну этого мы скрутим! С ним расчет короткий!.. А брата, князь Василья, мне жалко… Хотя мы с ним и врагами друг на друга смотрим и на разных берегах стоим, да знаю я, чего он стоит, с его умом-то! Ведь царевна только им и держится!.. Отшатнись он от нее – она бы не чинилась нам противной… Сдалась бы сразу, – с Шакловитым да с Сильвестром в советниках не далеко уедешь!
– А все же Шакловитый вам хлопот еще наделает – ведь он шальной! Ведь он на все пойдет…
– Я говорю тебе: он мне не страшен! Есть люди у нас, к нему приставлены… Такие, что так по пятам за ним и ходят. А на тебя надежда, что ты нам замыслы царевнины, какие будут, – не замедлишь проявить…
– Уж это – как перед Истинным! Уж будь спокоен, князь Борис Алексеевич! Уж и на тебя надеюсь, что, в случае чего, не дашь пропасть мне… Ведь ваш-то, говорят – у-ух! Крутенек…
– Крутенек – что и говорить! Да зато и голова! И взгляд какой – орлиный!.. Все разом схватит… С этаким царем-то не задремлешь, не ляжешь на боковую – сумеет разбудить! И сам зато работник; все смыслит сделать – и с топором, и с долотом. Намедни – лошадь сам подковал! А тут еще Лука Хабаров (такой у нас есть в потешных) заболел было нарывом на ноге; большущий – ни встать, ни колена согнуть. Он видел, как дохтур-немец взрезывал нарывы: тотчас взрезал, гной выпустил и сам перевязал ему ногу-то! Пошел опять Лука в здоровых. Но зато уж если кто его не понял, не дослышал или не исполнил, как он велел, – тут уж жди беды! Сейчас расправа… Точно, что крутенек!
И князь Борис смолкнул, задумавшись над кубком… Вдруг вбежал слуга впопыхах и только успел проговорить: «Царь Петр, а с ним Нарышкины и Зотов к тебе пожаловали!» – как уже распахнулись настежь ворота и две тройки в расписных и раззолоченных санях заскрипели полозьями у крыльца княжьих хором.
– Не в пору гости! Нам еще бы надо побеседовать с тобою, Емельян Игнатьевич! – проговорил князь Борис, вскакивая из-за стола и спеша навстречу гостям.
Через минуту он вернулся в комнату, предшествуя гостям, которые возвращались из Немецкой слободы и все были веселы…
Петр как вошел в палату, как увидал Украинцева, отвесившего низкий поклон, так уперся в бока кулачищами и пристально вперил в лицо дьяка свои большие черные очи.
– Он свой или чужой? – спросил он князя Бориса вполголоса.
– Свой, свой! – громко ответил ему князь Борис. – И человек надежный, нужный.
– Ну, коли свой да нужный – так здравствуй, Емельян Игнатьевич! – сказал Петр, отвечая на поклоны Украинцева. – И без чинов садись с нами за стол… А если бы не свой был – мигом бы я тебя спровадил!
– Нет, государь, – сказал князь Борис, смело глядя в глаза Петру, – моих гостей нельзя так-то… Здесь я хозяин – а ты здесь мой гость. Ведь мы тебе не немцы дались – у нас на все обычай и порядок! Милости прошу!
– Хорош обычай! Хорош порядок! – воскликнул Петр, усаживаясь за стол и пропуская мимо ушей нравоучение князя Бориса. – Вот завтра будет дьяк с тобою вместе являть игуменью Марию Мазепину, и будем мы с братом сидеть как истуканы каменные, а дьяк станет за нас речи говорить… «Великие, мол, государи сказали то-то… да великие государи пожаловали то-то…» А я все дело разом бы повернул! Стоит ли на это время терять?.. Ну, за твое здоровье, князь Борис!
И Петр осушил кубок.
– Вот у немцев, должно быть, славное житье! – продолжал Петр, оживляясь. – Как порасскажут… Какой у них везде порядок! Какая чистота во всем, какая работа везде кипит! Недаром они и насмехаются над нами…
– Насмехаются? – гневно вымолвил князь Борис. – А чего же они к нам лезут? Разве мы без них не можем прожить?
– Мы им должны сказать спасибо! – горячо продолжал Петр. – Должны у них перенимать, у них учиться – и дай мне только волю забрать, я вас всех отдам к ним в науку… Всех! Не посмотрю, что ты там князь или боярин! Прикажу – так должен будешь колесом ходить…
– Ну, государь! – заметил, лукаво улыбаясь, князь Борис. – В наших шубах да кафтанах колесом ходить дело непривычное и нестаточное. Это вот в кургузках-то немецких так сподручнее…
Все рассмеялись. Но Петр вспылил – ударил кулаком по столу так, что заплясали на нем дедовские кубки и дорогое вино расплескалось на скатерть.
– Как смеешь ты со мною так говорить! – закричал он гневно на князя Бориса. – Да если я велю, так все вы понаденете эти самые кургузки!
– Великий государь, – серьезно и спокойно ответил князь Борис гневному юноше, – русскому царю так говорить негоже. Все мы здесь твои верные слуги, а рабами твоими николи не будем. Другое дело перенять у немцев путное, поучиться у них доброму, – а скоморошье платье их носить да трубку с табачищем сосать – что проку? Не все у немцев хорошо – не все и у нас худо. Небось изволил читать в статейных-то списках наших послов: «Князь Флоренский примает посла, а рядом с ним его княгиня и все ее боярыни стоят словно осы, в дудку перетянуты, плечи голы, сосцы навыкате?..» Это разве можно, по нашему обычаю? Это разве нужно перенять?
– А по-твоему, наш терем лучше? – отвечал Петр, уже несколько успокоенный. – И наряды наших боярынь разве лучше? В телогрее, в опашне да в шубе – копной нарядятся, так и не разберешь дородства от наряда! Я своей жене так не позволю наряжаться!
– Ты прежде отженись, государь, а там уж и посмотрим – что ты запоешь? – сказал князь Борис, смеясь.
– А ты, видно, так же думаешь, как матушка, что меня можно опутать женою и усадить на место?.. Этого не жди! Вот дай только весне прийти: сейчас отсюда укачу на стройку кораблей, а там и на море поеду – и за море, коли придется, посмотреть, как люди за морем живут. И если увижу, что там лучше, – я на вас не посмотрю: все так же у себя устрою.
– Твоя воля, государь, – да и Божья воля! – твердо сказал князь Борис. – Выше Бога и ты не будешь! Нестроений у нас точно что много… Но и править их надо тоже умеючи. А так с размаху-то – много можно беды наделать. Припомни, сколько крови пролилось из-за одной книжной справки[15]?..
– На месте сидя не много сделаешь! – воскликнул Петр. – Царю все надо самому видеть, все надо знать! А разве ты не веришь, князь Борис, что я всему сумею научиться – везде поспею! Недоем и недосплю, а с делом управлюсь?
– Сумеешь – этому я верю! Боюсь я только одного, великий государь, что уж до немцев ты больно охоч! А и немцы льстивы… Из-за хлеба станут хвалить и то, чего хвалить не след. Ум у тебя большой и воля сильная, государь, да только не дай бог тебе таких советников, чтобы тебя манили да ласкали. Тебе таких надо, чтобы тебе правду-матку резали! Ты осердишься и поблажишь, а – когда гнев пройдет – совету доброго все же послушаешь!
– Правда, правда! Верно, князь Борис! – сказали в один голос Нарышкины и Никита Зотов, между тем как на лице Петра расцвела самодовольная улыбка.
И вот, поднявшись с места, он высоко поднял свой кубок и звучно, громко произнес:
– Пью за тех советников, что и в гневе моем не побоятся мне правду высказать!
И все в ответ ему громко и весело крикнули:
– Да здравствует государь наш Петр Алексеевич на годы неисчетные!
XXVI
Зима миновала довольно спокойно. В конце января совершилось бракосочетание юного царя Петра с девицей Лопухиной, совершилось тихо, без всякого блеска, в домовой дворцовой церкви Петра и Павла. Но женитьба не привязала Петра к месту… Через месяц после свадьбы он уже был на Плещеевом озере, на стройке своих кораблей. Петр еще мог тогда спокойно строить суда: князь Борис, зорко за всем следивший и наблюдавший, не отрывал своего царственного питомца от его любимой забавы, потому что мог быть спокоен до поры до времени.
Шакловитый все еще дулся на царевну за удар, нанесенный его самолюбию в минувшую осень, и, хотя по необходимости постоянных деловых сношений стоял к ней опять очень близко, однако же не дерзал предпринимать ничего решительного.
Царевна София всею душою была предана трепетным ожиданиям вестей из похода, в котором уже с лишком два месяца находился ее любимец.
Царевна переживала тот период развития страсти к князю Василию, когда женщина ничего не видит кругом себя в жизни, кроме человека, которому она предалась, ничего не ищет, кроме постоянной близости к нему, ни о чем ином не может ни говорить, ни думать, как о нем, – и благодаря этому неудержимому влечению забывает дела, обязанности, отношения – все на свете, даже свое личное я, даже заботы о своей внешности, нарядах и уборах… Но говорить о князе Василии как о человеке дорогом и близком царевна могла лишь с очень немногими; писать ему могла лишь очень редко, через лично известных ей посланцев, и потому у ней оставался только один общий исход многих любящих женщин – излияние пламенной души в горячей молитве…
Во время первой разлуки с князем Василием в тревожную душу царевны впервые глубоко проникло сознание всемогущества какой-то иной Высшей, Правящей Десницы, перед которою ничтожными оказывались все земные могущества. Тогда она впервые научилась молиться не заученными словами, – научилась влагать душу в молитву. Когда князь Василий был возвращен ей, она отдалась своей страсти с таким ослеплением, с такою безрассудною горячностью, что совершенно подчинилась его взглядам, его мнениям, его желаниям, оттолкнула от себя преданного ей Шакловитого, забыла о своих замыслах, готова была бы, кажется, даже на примирение с Натальей Кирилловной и партией Петра – лишь бы ей оставили ее сокровище, ее «свет-Васеньку». Ее тревожило и глубоко огорчало в последние месяцы только то тяжелое нравственное настроение, которое совершенно овладело князем Василием и, видимо, отравляло ему жизнь. При всем своем уме царевна никак не могла понять того, что в основе этого настроения лежит забота о ее будущем – о их общем будущем. Она искала объяснения этому настроению в настоящем, объясняла его кознями врагов и необходимостью борьбы с ними и то осыпала проклятиями князя Бориса, Нарышкиных, Долгоруких и Шереметевых, то горько сетовала на самого князя Василия, который оставался молчалив и сумрачен, несмотря на все расточаемые ему ласки и нежности… Из-за этих отношений к князю Василию Софья не видела и самого будущего, не всматривалась в него внимательно, не сознавала, что оно сегодня или завтра может перейти в настоящее, не сознавала того, что дни ее действительно «изочтены»… И вот когда он, сумрачный и убитый своим тягостным душевным настроением, еще раз должен был уехать в поход и опять расстаться с нею на несколько месяцев, Софья впала в такой страстный религиозный экстаз, что даже все окружающие были поражены неудержимостью обуявшего ее порыва. Она почти не выходила из церкви, молилась по целым дням, горячими слезами плакала, то коленопреклоненная, то ниц поверженная перед иконами своей крестовой палаты. Щедрее, чем когда-либо, лились из рук ее пожертвования и милостыни. А после каждого письма, полученного с юга, она ходила по всем московским монастырям, всюду раздавая богатые вклады и приказывая молиться за здоровье и благополучное возвращение боярина Василия. Этим походам по монастырям много содействовало и то, что сам князь Василий в последнее время почти в каждом письме просил ее «помолиться за его грешную душу».
Но вот с половины мая никаких вестей с юга не получалось, а май шел уже к концу. В последнем письме князь Василий писал о том, что ожидает встречи с неприятелем, ожидает боя… Более двух недель прошло с того тревожного письма; Софья, печально настроенная, полубольная, решилась на новые подвиги – объявила поход в Троице-Сергиев монастырь и 30 мая двинулась туда обычным порядком, с тою же блестящею и многочисленною свитою.
Под вечер поезд царевны достиг села Воздвиженского, в котором назначен был ночлег. Истомленная долгим и скучным путешествием по пыли и зною, Софья очень была рада представившейся возможности отдохнуть и успокоиться, остаться наедине со своими думами. Она отказалась от ужина, приготовленного ей в Воздвиженском путевом дворце, и удалилась в свою опочивальню, выходившую окнами в сад. Сбросив с себя верхнюю тяжелую одежду, Софья опустилась на колени перед образом с тускло теплившеюся лампадою и собиралась, прочитав краткую молитву, лечь в постель.