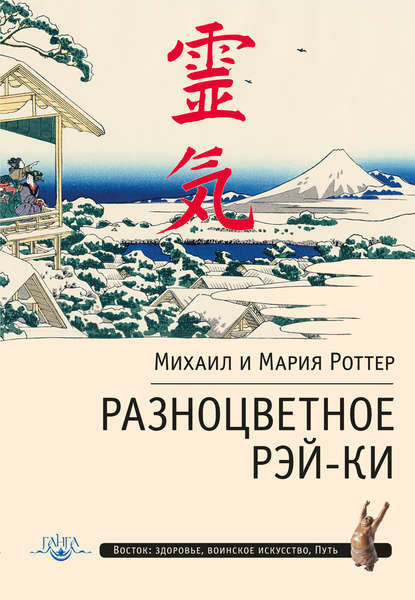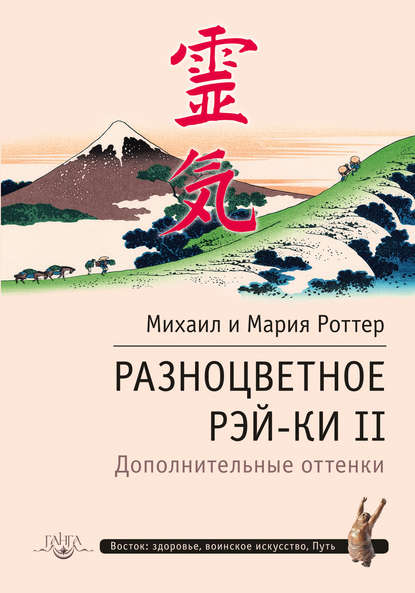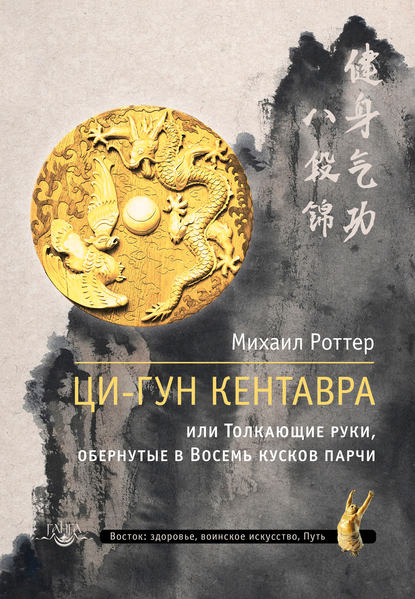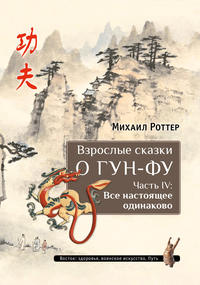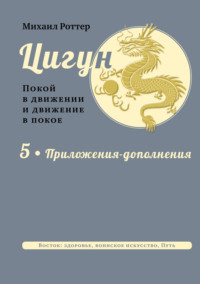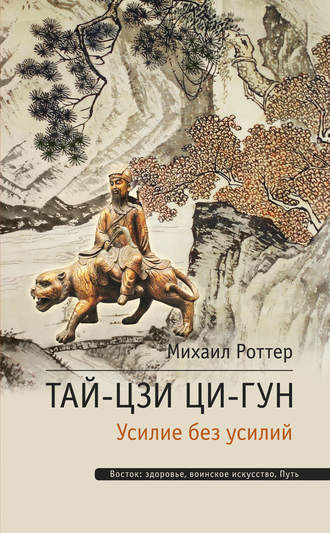
Полная версия
Тай-Цзи Ци-гун. Усилие без усилий
Работа была простая: замешивай раствор, подноси камни и клади стену. Много лет спустя я дал этому процессу (в шутку, разумеется) название «Ци-Гун Пяти Первоэлементов». Однако в каждой шутке… А в этой шутке, может, истины было и немного, но ассоциации были совершенно очевидные.
Ци-Гун под названием «Слияние Пяти Первоэлементов» существует на самом деле. В нем основное внимание уделяется работе с пятью фундаментальными видами энергии: Дерева, Огня, Земли, Металла, Воды. Эти энергии проявляются в физическом теле в виде процессов, протекающих соответственно в пяти плотных органах: печени, сердце, селезенке, легких, почках.
Вообще понятие Пяти Первоэлементов используется повсюду. Эта теория описывает не только работу человеческого тела, но и фундаментальные законы, в соответствии с которыми функционирует вся Вселенная.
Очень конкретное значение приписывают этим элементам в боевых искусствах. Например, в Тай-Цзи-Цюань существует пять базовых разделов (образов, моделей), каждому из которых соответствуют свой стиль движений, своя энергия и техника боя.
• Дерево. Соответствует технике под названием «контроль путем захватов» (Цин-На). С точки зрения боевого применения это гибкость, умение уходить от захватов и самому осуществлять их.
• Огонь. Хлесткие удары, наносимые по принципу «ивового прута». Другой образ – это внезапно возникший язык пламени. Огню соответствует резкая, короткая контратака.
• Земля. Тяжелая и сокрушительная техника, представляющая собой короткие мощные, пробивающие удары руками, локтями, плечами и коленями.
• Металл. Это методы для обретения способности безболезненно принимать на незащищенное тело удары («железная рубашка»).
• Вода. Техника «уступания», требующая тонкой чувствительности и действий по принципу «уступая, разрушай». Уступив противнику, пропустив его, можно потом воздействовать на него с минимальной затратой собственной силы (используя его энергию).
Практикуя Ци-Гун «Слияние Пяти Первоэлементов», человек соединяется с силами Природы, Земли и Вселенной в единое целое, достигает физической, эмоциональной и духовной гармонии.
Во время выполнения этой практики Ци органов сплавляется в единую жемчужину (если проще, то в энергетический шар). Перемещение этого шара по Микрокосмической Орбите открывает энергетические каналы, укрепляет и очищает физическое тело, создает основу для духовного развития.
Практика «Слияния Пяти Первоэлементов» позволяет трансформировать «негативные эмоции внутренних органов» (гнев – из печени, раздражительность – из сердца, беспокойство – из селезенки, печаль – из легких, страх – из почек) в позитивные: доброту, любовь, честность, мужество и мягкость соответственно.
Когда я от «высоких цигунских материй» вернулся к простым вещам, то понял, что присутствие всех пяти элементов на нашей несложной армейской стройке было совершенно очевидным.
Дерево. Доски на лесах, черенки лопат, ручки мастерков, ветки для костра, на котором мы пекли, варили и жарили картошку (ничего другого для готовки у нас не было), честнейшим образом украденную у прапорщиков-снабженцев.
Огонь. Костер у нас был невелик и аккуратно спрятан в самом дальнем углу строящегося здания. Оно и понятно, с чего бы это в парке боевых машин, где находилась наша стройка, гореть костру. Однако он горел практически целый день, так как мы специально освобождали (точнее будет сказать, осчастливливали) от работы одного из «молодых», чтобы он заваривал чай, чистил и готовил картошку. Кроме того, насколько я понимаю, в качестве огня работало еще и солнце. Это я ощутил в самый первый день, когда обгорел до малинового цвета. Дело в том, что работали мы в одних трусах, а армейские трусы хоть и длинные, но не настолько, чтобы их хватило прикрыть что-нибудь, кроме тощего солдатского зада.
Земля. Вот этого у нас было много. Это были блоки ракушечника, из которых мы клали стены. Это были песок и цемент, из которых мы делали раствор. Это была и покрытая травой земля, на которой мы спали, уйдя после обеда в посадку, окружавшую «парк боевых машин».
Металл. Воплощался в лопатах, мастерках, трубах, из которых мы собирали леса. Вообще металла кругом было много, даже слишком. Когда мимо проезжал «металл в виде танка», дрожала стена, на которой мы сидели, пока не установили леса.
Вода. Иногда мне казалось, что я превращался в белого медведя из зоопарка, который залезал в воду, спасаясь от летней жары. Водоема, чтобы спрятаться, у нас не было, но был кран, к которому мы прицепили шланг и поливали друг друга, чтобы кровь не вскипела в жилах. Кроме того, вода была у нас и элементом рабочего процесса. Без раствора не сделать каменную кладку, а какой раствор без воды.
И получалось так, что я непрерывно взаимодействовал со всеми пятью элементами, а пять элементов непрерывно взаимодействовали между собой.
Металлической лопатой я насыпал элементы земли (песок и цемент) в металлическое корыто, где и смешивал их с водой. Потом металлическим мастерком клал раствор, скрепляющий между собой камни (тоже элемент земли). Раствор затвердевал, когда огонь (солнце) выпаривал из него воду. А в это время на огне, рожденном при сгорании дров, закипала вода, в которой мы варили картошку. В общем, простая такая алхимия.
Кстати, почему люди выезжают на отдых (например, на море)? Прекрасно можно выйти в отпуск и остаться дома: ничего не делать, много есть, валяться на собственном диване. А потому, что не получается такого общения с природой: водой, огнем, землей, не достигается такого заметного «оздоровительно-отдыхательного» эффекта.
Разумеется, в те годы я ни о чем таком не думал. Я был счастлив оттого что можно просто работать и не слушать ничьих команд. Лишь много лет спустя я назвал то, что я делал тогда, «Тоже Ци-Гун Пяти Первоэлементов».
* * *Также много позже я прочитал о так называемом Туммо (тибетский термин, означающий «скрытое тепло организма»). Практиковали этот суровый метод закалки люди, которым требовалось перезимовать в горной пещере, среди снега, без огня и в легкой одежде.
Мастерство Туммо очень непростое. По традиции степень овладения им проверяется зимней лунной, ветреной ночью. Испытуемые приходят на берег реки или озера, снимают с себя одежду и садятся на снег, скрестив ноги. Суть испытания заключается в том, что нужно за счет собственного внутреннего тепла высушить мокрую простыню, обернутую вокруг тела. Когда простыня высыхает, ее опять окунают в прорубь, и ученик снова должен сушить ее на своей спине. Побеждает тот, кто до рассвета высушит на себе (или «собой») большее количество простыней. Для того чтобы человека признали достойным носить юбку из белой ткани (знак овладения искусством Туммо), он должен суметь высушить на себе не менее трех простыней.
Узнав о Туммо, я долго смеялся, так как вспомнил, что тоже однажды делал его, только наоборот. До того, как мне привалило счастье попасть в стройкоманду и сделаться из солдата каменщиком, живущим в казарме, я был в мотострелковом полку. А мотострелковый полк – это не что иное, как та же самая пехота, которую перевозят с места на место на каких-то машинах.
Именно с такой машиной и был связан мой опыт «Туммо наоборот». Однажды зимой нас подняли в шесть часов (темень, холод, тоска), погрузили в БТР и повезли на полигон стрелять. От этих стрельб у меня осталась только одна мысль: «Как можно куда-то попасть, стреляя из трясущегося от отдачи автомата, находящегося в трясущихся руках солдата, едущего в трясущемся на ухабах и рытвинах БТРа?»
Однако не о стрельбе речь (хотя стрельба – это тоже несомненный Ци-Гун, требующий полной концентрации сознания и пребывания в состоянии «здесь и сейчас»). Это так, к слову. А «Туммо наоборот» я делал по пути на полигон.
Дело в том, что загрузили нас в старый, я бы сказал, древний БТР-152. Машина была почти легендарная. Еще бы – первый советский серийный БТР. Папа мой даже модель его сделал. Причем (трудно в это поверить) из обычных железных консервных банок, желательно, больших (например, из-под тушенки). От такой банки отрезались верхняя и нижняя крышки, и получалось не более и не менее, как «листовое железо». Тоненькое, правда, но как раз такое, как нужно. Оно было настолько мягкое, что резалось ножницами, и такое пластичное, что ему можно было придавать практически любую форму. К тому же оно прекрасно спаивалось с помощью обычного электрического паяльника и оловянного припоя.
Вот такие машинки получались у папы из консервных банок.


Выпускали БТР-152 с 1950 по 1955 г., и как «экипаж», который нам подали, еще был на ходу, понять я не мог. Но мог я понять или не мог, однако машина была, она ездила и как раз она нам и попалась. Корпус у нее был сварен из бронелистов и открыт сверху (вообще-то были и закрытые модели), а внутри вдоль бортов установлены простые деревянные лавки (язык не поворачивается назвать это сиденьями).
Вот такую карету и подогнали нам для «трансфера» (тогда и слов-то таких никто не слыхивал) на полигон. Машина эта, естественно, всегда стояла на улице. Можно себе представить, как промерзла такая железная открытая коробка. Скамьи же обледенели и были слегка присыпаны снегом.
Ну, не баре, расселись и поехали. Ехать было долго, а спать от хронического недосыпа хотелось ужасно. Так что я и не заметил, как заснул. Приехал, а подо мной лед на скамейке уже растаял и сижу я пусть в небольшой, но в луже.
Такое вот Туммо, только с точностью до наоборот: они простыни сушат, а я из льда «добываю воду», они сушат их на плечах, а я – неудобно сказать на чем. Но самое смешное выяснилось позднее: я так и не заболел. Видимо, организм понимал, что это бессмысленно: никаких поблажек-коврижек все равно не будет. Так что и затеваться незачем. Тут оказалось, что пребывание в условиях стресса – это тоже Ци-Гун, причем очень сильнодействующий.
Еще раз я проверил это позже, далеко уже не в юном возрасте. За три с половиной года, что я ухаживал за мамой, я не заболел ни разу. Если я правильно помню, то даже не чихнул. Хотя (чтобы «прочистить мозги») ходил в мороз до –20 без шапки.
Кстати, «работа с морозом» мне тоже представлялась как несомненный Ци-Гун даже на «бытовом уровне». Когда мне приходилось стоять в карауле зимой, то два часа, которые я проводил на улице, казались мне вечностью. Мороз, ветер, ночь, какая-то приблудная собака (видимо, такая же замерзшая, как я), поджав хвост, жмется к сапогам. В общем, тоска такая, что казалось, что ничего хорошего в жизни уже никогда не будет.
Однако потом я вспомнил, как до армии, на третьем курсе института, мы с приятелем решили поехать в Карпаты. Купили себе на зимние каникулы какие-то путевки и оказались в совершенно сказочном месте. Как оно называлось, не помню, помню только, что было потрясающе красиво и достаточно холодно, особенно ночью. Причем турбаза была советской и все было сделано по-советски просто. Два вида комнат: одни в каменном двухэтажном корпусе, другие – в отдельных дощатых домиках. Изначально все предполагалось очень разумно. Зимой людей мало и они живут только в каменном двухэтажном отапливаемом корпусе. А красивые, как деревянные раскрашенные матрешки, дощатые избушки используют только летом во время наплыва отдыхающих. А если летом, то зачем их отапливать? Да что там отапливать, зачем даже щели заделывать. Наоборот, хорошо – вентиляция во время жары.
Но тут вышла ошибка. За счет студентов наплыв отдыхающих во время зимних каникул был не меньше, чем летом. Чтобы удовлетворить спрос трудящихся, селили во все, что было. Правда, подход старались «гуманизировать»: лиц женского пола – в отапливаемый корпус, мужского – в дощатые домики. Так что спали мы под всеми одеялами, полностью одетые, в шапках-ушанках с опущенными «ушами». Проведя таким образом одну ночь, я перестал удивляться тому, что мы так легко взяли путевки на «дефицитное время» студенческих каникул.
Днем холодно не было. Светило солнце, подобралась прекрасная компания из очень приятных и веселых ребят, «золотой» питерской молодежи. Так что целый день мы развлекались и «забывали» мерзнуть. Но тут вышла неувязка: ребята были большими любителями сходить в дорогой ресторан. Тем более, могли себе позволить. У нас же с приятелем деньги кончились через пару дней такого времяпрепровождения и мы приняли судьбоносное решение: идти в поход, благо была на этой турбазе такая опция. Причем бесплатная: вместо еды в столовой выдавали сухой паек, к нему жутко грязный спальник, такую же жуткую брезентовую куртку, лыжи и отсылали вместе с сопровождающим с глаз долой прочь с турбазы.
Жилье в походе тоже было бесплатное. На расстоянии дневного перехода очень неумелого лыжника прямо в лесу стояло заброшенное одноэтажное здание. Школа, кажется. Как она попала в лес, не знаю, может, раньше где-то рядом было село. Но сейчас там было настолько безлюдно, что однажды ночью в гости забрел дикий кабан. Он устроился в соседней комнате, причем улегся так, что подпер дверь снаружи. Когда я утром попытался выйти, дверь не открывалась. Мне стало интересно, так как я точно знал, что в соседней комнате никого нет. И я начал толкать дверь от себя. Что-то весьма тяжелое со скрипом (потом я понял, что это скрипела щетина, когда терлась о пол) с той стороны поехало по полу, потом оно противно завизжало, хрюкнуло и, не торопясь, поднялось. Когда, выглянув в образовавшуюся щель, я увидел, что это такое, мне эту дверь захотелось быстренько закрыть. Но, видимо, для кабана я никакого интереса не представлял, так как он повернулся и затрусил к выходу. Главное, эта скотина никуда не торопилась, похоже было, что страху в ней (в отличие от меня) совсем не было.
Но, разумеется, не в скотине дело. Вспомнил я о ней, потому что место было совсем дикое, греться было совсем негде. Днем были доступны следующие согревающие процедуры: катание на лыжах, еда, чай, костер. Причем костер горел, только когда готовили еду, просто так никто (публика была вся сплошь ленивые студенты, которым проще мерзнуть, чем собирать дрова) огонь не поддерживал. Ночью тоже жарко не было. Спали в спальниках на полу, на который предварительно набросали еловых веток. Благо веток было много – целый лес. Конечно, топили печку, но комната была огромная и печка помогала мало. К тому же ночью дрова никто не подбрасывал. Вылезать из нагретого с таким трудом спальника… Как же, ищи дурака, как говорил мальчик, которому Буратино пытался продать за четыре сольдо свою чудную бумажную курточку.
Поэтому получалось, что целый день я был на морозе. Но я помнил точно, что, как ни странно, я не мерз. Конечно, жарко не было. Разумеется, горячая еда и чай были всегда кстати. Постоять у костра погреть руки – с удовольствием. Но чтобы по-настоящему мерзнуть – нет.
Тогда почему же я так мерз, стоя в карауле? И это при том, что общий температурный режим был намного более благоприятный. После двух часов на морозе – четыре часа в жарко натопленной караулке. Одежда тоже была недостаточно теплая. В советское время солдатам на зиму даже выдавали по две пары кальсон (правда, приехавшие из солнечных республик, привыкшие к теплу люди говорили, что если бы им дали и четыре пары, они бы не возражали).
Объяснение у меня было только одно: когда человек в хорошем настроении, когда он делает то, что хочет, он даже меньше мерзнет! Такой вот Ци-Гун: состояние ума совершенно очевидным образом влияет на тело. Ничего особенного – обычная психосоматика. Странно другое: такая простая мысль пришла мне в голову намного позже, когда я начал думать (и чувствовать связь ума, энергии и состояния тела).
Ци-Гун – это мы и есть?
(Вся жизнь – это Ци-Гун?)
Дом – это сокровенная мечта, дома мы одновременно защищены и свободны. В каком-то смысле настоящий дом – это мы и есть. Дом может быть замком с лестницами и колоннами, с арками и башенками или просто наспех сколоченной избушкой. Он меняется, превращаясь в свое отражение, благодаря солнцу, подсматривающему сквозь тучи, стремительному ливню, серебряной луне. Мы можем любоваться фасадами, столь различными в разную погоду, но главное все же внутри. Светлые комнаты и темные закоулки, огромные залы и крохотные чуланчики – все это может удивить вас своим разнообразием. Но все вместе – это дом, который нужен еще и для того, чтобы однажды выйти за порог, начав большое путешествие.
Леонид Кроль. «Между живой водой и мертвой»Заменив слово «дом» на слово «Ци-Гун», получим прекрасную метафору для описания взаимодействия человека и Ци-Гун.
Наша трактовкаЧем больше я над этим думал (точнее, чем больше я в это погружался), тем чаще у меня появлялась мысль: если Ци-Гун – это работа с энергией, а человек постоянно с ней работает, то Ци-Гун – это все. Ем, пью, дышу, сплю – накапливаю энергию, смотрю, говорю, хожу, работаю – расходую ее.
Разумеется, я не сам это придумал – в системах высшего уровня [21, 30, 36] любая деятельность рассматривалась как Ци-Гун – даже смех. Смех я отмечаю отдельно не потому, что он важнее еды или сна, а потому, что наследственно люблю посмеяться. Поэтому, узнав, что смех – это Ци-Гун, я решил, что хоть в какой-то его части я – мастер. И вообще «мастерство смеха» – штука важная: средний ребенок смеется примерно 400 раз в день, а взрослый – всего 8 (в 50 раз меньше!). Получается, чем ты больше смеешься, тем ты моложе.
Даже Гиппократ отмечал благотворное воздействие смеха на пищеварительную систему (видимо, чтобы побыстрее стать «толстым и красивым», нужно много есть и много смеяться).
Франсуа Рабле (не только автор книги о Гаргантюа и Пантагрюэле, но и доктор медицины) считал, что «бедствия мира сего не страшат человека, умеющего смеяться», и советовал любое зло, в том числе болезнь, страдание и даже смерть, встречать смехом.
Видимо, для таких, как я, любителей посмеяться индийский врач-психиатр Мадан Катарья в 1995 г. создал специальную практику «Йога смеха» (Хасья Йога). По этому поводу он говорил так.
«Смех связан не только с умом, но с телом. Взрослые люди не смеются просто так. Сначала они оценивают, что смешно, а что нет, и только потом решают, нужно ли над этим смеяться. Иначе говоря, смеются „от ума“. Дети же ничего не оценивают умом, они смеются просто так, „от тела“. Именно такой чистый и свободный смех мы практикуем».
Система получилась весьма удачной и «пользуется спросом» по всему миру. Например, в одном из округов Индии полицейские в обязательном порядке проходят курсы Йоги смеха (видать, есть кто-то умный у них в министерстве внутренних дел).
А начиналось все просто. Мадан Катарья встречался каждое утро со своими друзьями в парке, где они рассказывали друг другу анекдоты. При этом Мадан вел дневник, где отмечал заметное изменение в лучшую сторону психосоматического состояния участников.
Далее система стала развиваться. В ней (по аналогии с набором поз-асан Хатха-Йоги) появился «набор улыбок» (собаки, льва) и «набор смехов» (курицы, свиньи, обезьяны, мыши).
Стали даже различать, какой смех на что влияет: «хо-хо» – на органы брюшной полости; «ха-ха» – на сердце; «хи-хи» – на снабжение кровью горла и мозга.
* * *В 1991 г. начали издавать журнал «Ци-Гун и спорт», который в 1997 г. переименовали в «Ци-Гун и жизнь». Под этим названием он просуществовал до 2004 г. Журнал был прекрасный, до сих пор жалею, что он больше не издается. А вспомнил я о нем из-за его второго названия, которое для меня стало звучать несколько иначе: «Ци-Гун – это жизнь» или «Ци-Гун – это и есть жизнь».
Однако было одно исключение, которое не вписывалось в мою мудрую теорию «Ци-Гун – это все». Конечно, можно было его списать на то, что «исключение подтверждает правило».
Но, во-первых, я никогда не верил в то, что серьезные правила могут иметь исключения. Всякие грамматические правила вроде «слова стеклянный, деревянный, оловянный пишутся с двумя буквами Н» я за правила вообще не считал. Сегодня решили, что с двумя, завтра решат, что с одним, а послезавтра – вообще с тремя.
Было такое уже, когда в 1904 г. Орфографическая подкомиссия при Императорской Академии наук под председательством А. А. Шахматова опубликовала «Предварительное сообщение» по поводу реформы правописания. Новые правила исключали из алфавита буквы Ять, Фита, «И десятеричное» (вместо них следовало употреблять соответственно Е, Ф, И). Твердый знак на конце слов и частей сложных слов также исключили, что привело к некоторой экономии при письме и типографском наборе (по оценкам Л. В. Успенского, текст в новой орфографии стал примерно на 1/30 короче).
Про эту реформу мне рассказывала еще бабушка, которая говорила, что все школьники (гимназисты) просто обожали новые правила письма за то, например, что отпала необходимость учить наизусть, какие слова пишутся через Е, а какие через Ять. Кроме того, что список слов, где употреблялась буква Ять, был весьма длинным, он был еще не слишком точным, так как различные орфографические руководства тех времен местами противоречили друг другу.
Практическая реализация реформы произошла после революции, как часть борьбы «с пережитками». В декрете за подписью Народного комиссара просвещения А. В. Луначарского «всем правительственным и государственным изданиям» предписывалось с 1 января 1918 г. «печататься согласно новому правописанию».
Противники большевизма, разумеется, придерживались совсем иного мнения. Так, Бунин по этому поводу писал: «По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию».
Поэтому никакие «придуманные» правила с «придуманными» же исключениями и разногласиями и «разномнениями» меня не интересовали, так как у серьезных правил исключений в принципе не бывает. Иначе говоря, если правило имеет исключение, то это не совсем правило.
Например, закон всемирного тяготения. Покажите мне предмет, для которого оно не работает, и я во все поверю. Или покажите мне вещь, которая не изнашивается, человека, который не стареет и т. д. и т. п.
А во-вторых, слишком это было объемное событие (точнее будет сказать «кусок жизни»), чтобы можно было назвать его исключением.
А дело было так. Когда я учился в институте, меня познакомили с вьетнамским «воинским» мастером. Я и до этого видел мастеров. Но такого… Описывать его биографию я не берусь. Дюма-отец, например, мог бы попробовать, но лишь после «репетиции» в виде написания «Графа Монте-Кристо». Да и он мог бы не справиться, так как по сравнению с историей Миня (так звали этого вьетнамца) приключения Монте-Кристо казались путешествием на поезде из Москвы в Питер. Дюма же сын точно бы не справился. Так что я не пытался.
Но понять связь Ци-Гун и метода, с помощью которого Минь преподал воинское искусство, я должен был хотя бы попробовать. Дело в том, что на первый взгляд связи не было никакой. Раньше меня это не слишком интересовало, диалог (в котором я сам себе задавал «умные» вопросы и сам себе давал «умные» ответы) в голове у меня складывался примерно такой.
– Без Ци-Гун настоящего воинского искусства не бывает. В принципе! Минь меня учил без обмана, это я знаю точно. Но где же Ци-Гун в его системе рукопашного боя и в его системе преподавания?
– Дурацкий вопрос. Система работает?
– Еще как!
– Тогда зачем тебе нужен какой-то Ци-Гун, если и без него все работает, как часы?
– Но без Ци-Гун воинское искусство пустое. Нет ни духа, ни энергии.
– Это ты уже по второму кругу пошел. Мол, без Ци-Гун воинского искусства не бывает. Слышали уже. Выходит, бывает. Кстати, ты более сильного мастера видел?
– Нет.
– И заметь, без всякого Ци-Гун. Так что заткнись. Или просто заткнись, или заткнись и подумай.
* * *В чем заключалась эта связь, до меня дошло десятки лет спустя. На этот раз «диалог с самим собой звучал так.
– Что такое Ци-Гун?
– Это работа ума.
– Что требуется для эффективной работы ума?
– Максимально возможная концентрация.
– Правильно. А вспомни, было ли такое, чтобы на занятиях у Миня ты позволил себе ослабить уровень сосредоточения, потерять внимание?
– Нет, никогда!
– Врешь, один раз было. На самом первом занятии. Вспомнил?
– Правда, было.
– Чем закончилось, помнишь?
– Еще бы, получил три раза, по нарастающей. Первый раз по колену. Видимо, я не понял урока и последовала вторая демонстрация: уже пяткой по морде. И это при том, что Минь никогда не поднимал ногу выше уровня промежности, говорил, что это гимнастика, а не боевое искусство. Но тут, видимо, не выдержал и врезал для полной, так сказать, наглядности. Очевидно, он решил, что я и на этот раз не понял, и через несколько минут последовал третий контакт: двумя пальцами в глаза. Намек был простой: или приспосабливайся, или уходи. Совсем.