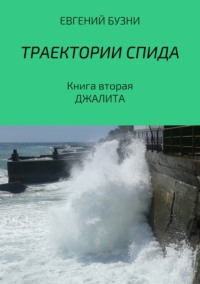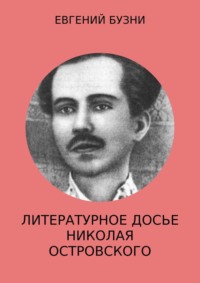полная версия
полная версияНастасья Алексеевна. Книга 4
Такая была переписка. Шли годы войны с горечью поражений и радостью побед. После окончания войны мы вернулись из эвакуации в Симферополь. Жили на улице Дражинского в небольшой двухкомнатной полуподвальной квартике две семьи. Многие спали на полу. Тикали часы-ходики. Дядя тёма однажды во сне схватил рукой опустившуюся над ним гирю часов и оторвал её. Днём он пытался разорвать цепь руками и не смог, а во сне удалось.
Папа вернулся с фронта и устроился работать главным бухгалтером в Ялте сначала в санаторий «Нижняя Ореанда», а, спустя два года, перешёл на ту же должность на кинофабрику, ставшую потом киностудией художественных фильмов, откуда и ушёл на пенсию и дожил до девяноста пяти лет, исполняя обязанности добровольного дежурного в Ялтинском горно-лесном заповеднике. О том, что он потомственный дворянин мы никогда не вспоминали, потому что не было такой необходимости. Мама занималась в основном воспитанием детей, иногда подрабатывая счетоводом или бухгалтером в разных организациях, пока не вышла на пенсию.
Так складывалась история семьи Бузни, а как она пойдёт дальше – это уже другой рассказ. Но завершить историю я хочу своей поэмой, посвящённой этой же теме.
МОЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – ЧЕЛОВЕК
Поэма о важном
1
И в Тамбове я помнил про Крым,
но не тот, что в руках был Батыя,
а другой, что себе я открыл,
раздвигая небесные крылья…
Я родился под сердцем его,
беспокойным в чреде революций.
Моё детство счастливо легло
в колыбель симферопольских улиц.
Звёзды добрыми были в тот день,
как и тысячи звёздных лет прежде.
Я родился, и должен теперь
оправдать их большие надежды.
Через первые годы мои
говорливые воды Салгира21
животворной струёй протекли,
открывая сокровища мира.
2
Мой край, что опоясан пеной моря,
подарен мне пять тысяч лет назад.
Я скиф, я тавр,
и пусть со мной не спорят.
Не опровергнуть слов, что я сказал.
Мой слог пророс из хеттского наречья,
славянским распустившимся цветком.
Шумеры и аккады из Двуречья
не знали, но мечтали о таком.
Мои слова рождаются из песен,
назад пять тысяч лет напетых мне.
Кто знает все любви большой предтечи?
И на какой плывут они волне?
3
Ещё тогда волна ласкала берега
горы, уснувшей возле моря, как медведь,
что б я сегодня к морю Чёрному шагал,
чтобы сегодня мог о Чёрном море петь.
Какие б ветры ни гуляли над тобой,
мой край любимый, где родился я и рос,
я крымский скиф и тавр, и я навеки твой,
и прорасту через тысячелетье гроз.
4
Я скиф, я тавр, я россиянин,
на русской крови я взращён,
на четверть чех и молдаванин,
поляк и белорус ещё.
А если глубже покопаться,
то мой прапрадед турок был.
Его в Россию взяли в рабство,
мальчонкой -
он смышлёным слыл.
В России вырос, оженился
на русской девице как раз.
И хоть давно сам обрусился,
но дочка Туркиной звалась.
А уж она, на белоруса
любви тенёта разбросав,
мне мать родила белорусскую,
вложив турецкие глаза.
5
Я не любитель наций никаких.
Ведь я родился интернациональным.
Не нужно говорить мне «Ну и псих!».
Я русским вырос под звездой братанья.
Да, русские прошли через монголов,
оставив у себя следы татар
и поглотив их корни в русском слове,
как поглощает небо дым и пар.
И облака плывут и небо красят,
хоть небо хорошо само собой.
Впитали мы и англичан и басков,
французов, немцев, как никто другой.
Мы русские во всём гостеприимны.
Таков обычай на моей Руси.
Всех принимаем и в труде, и в гимне,
любовь ко всем с пелёнок мы растим.
Но все ли? Вот вопрос задам вначале.
Ответ не ляжет в строчку без печали.
6
Вопросами на площади палатки
у здания правительства стояли.
Татары крымские в руках кепчонки жали
и голосили, что не всё в порядке.
Их Сталин, мол, убрал совсем из Крыма
за чьи-то смерти, за предательства отдельных.
Плохих в любом народе меньше – верно.
Но истина не сразу всем открылась.
Когда Батый на Русь ордами двинул,
жёг сёла, русских женщин забирая,
копьём в чужую землю упираясь,
он не считал себя несправедливым.
Но то была пора средневековья.
Цивилизация пришла в народы.
В народе русском поговорка ходит:
Глаз вон тому, кто старое припомнит.
Крым русский ли, татарский, украинский?
Такой вопрос казался раньше детским.
Все знали лишь одно, что Крым советский.
И всем один закон был для прописки.
7
Прошли года, но память не уходит.
Прибалтика, Молдавия, Кавказ.
Весь мир перекосился, стал уродлив.
Рознь наций лопухами разрослась.
И листья лопухов, что глушат совесть,
врастают в улицы и транспорт городов,
в смертельный муджахеда прячась пояс,
выглядывая из парламентских домов.
Почто? Зачем? Кому всё это нужно?
Пройдут века, и больно будет всем
за это время жидкое, как лужи,
и грязное от мрази лживых дел.
Зачем живём?
Берёзы не ответят,
прошелестев стихами под рассвет.
Мы на земле все маленькие дети.
Купели нашей миллиарды лет.
Миг нашей жизни должен быть достойным,
зерном, проросшим колосом хлебов,
где каждый колос счастлив тем, что волен,
и для всемирной жатвы он готов.
8
Я скиф, я тавр, я киммериец,
я славянин и в чём-то грек.
Моя,
прошу вас, присмотритесь,
национальность – Человек!
И я пою мою поэму
национальности своей.
Иную веру не приемлю.
Я верю ценности людей.
Ни раса, ни национальность,
ни вера в чьё-то божество
не успокоит мир наш славный,
не даст нам счастья торжество.
Лишь только вера в человека,
лишь только вера в день-деньской,
когда нет наций, нет расцветок,
нам принесёт любовь с собой.
Я скиф, я тавр, я киммериец,
я славянин и в чём-то грек.
Моя,
прошу вас присмотритесь,
национальность – Человек!
БОРЬБА ПОД СОЛНЦЕМ
1.
Теперь, когда у Настеньки должен был родиться ребёнок, она не знала ещё сын или дочь, но твёрдо решила, что он будет, её мысли возвращались вновь и вновь к роду Бузни, в продолжение которого вносила свою лепту новая семья Инзубовых. Каким он будет – их ребёнок? Кем он станет в сегодняшней быстро меняющейся жизни?
Вспомнилось детство. Счастливая пора. В первом классе они все мечтали поскорее перейти во второй класс и стать пионерами, носить красные галстуки. А для этого надо было хорошо учиться и не баловаться в школе. И она училась. А потом с замиранием сердца чувствовала руки старшей пионервожатой, которая нежно повязала на шею галстук. И стихи. Они не забываются до сих пор:
Как повяжешь галстук,
Береги его.
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
Красное знамя – символ победы. Знамя пионерской дружины тоже было красным. Где сейчас это знамя? Где пионерские дружины? Где пионерские горны, зовущие ребят к хорошим делам в общем строю? Где красные галстуки? Чем будет занят её мальчик или девочка, когда пойдёт в школу? Какая идея будет объединять малышей? Что будет звать их в будущее? Есть? Пить? Зашибать деньгу любыми способами? В чём они будут видеть смысл жизни?
История. Всё в ней последовательно. Всё закономерно. Питекантропы и другие человекообразные думали только о еде и первые орудия труда у них были тоже для добывания еды. Проходили века, тысячелетия, человек развивался, стал умнеть. Теперь ему было мало – только есть и пить. Хотелось развлечений. И доразвлекались. У власти стали не те, кто с сильными мышцами и могли защитить своё племя, а у кого работал лучше ум, чтобы взять власть на себя. Появились вожди, монархи, шахи, цари и короли, потом уже президенты. И всё сопровождалось войнами, в которых бедный простой люд использовался в качестве солдат для защиты интересов тех же шахов, королей, царей, президентов. А это надо ему – народу? Но кто его спрашивает? Теоретически рабства уже нет на земле. А практически? Вон, даже несчастный директор рудника чувствует себя маленьким, но царьком, и как-то обмолвился и, может, не один раз, что шахтёры все его рабы, что хочет, то с ними и сделает. При советской власти он такого сказать не мог. Там был профсоюз и партийная организация, без ведома и согласия которых он даже уволить никого не мог. А уж приказать шахтёрам собирать в нерабочее время валяющиеся на берегу фиорда нанесенные волной брёвна, чтобы продать их потом норвежцам за наличный расчёт и деньги положить себе в карман, такое и в голову не могло прийти, а в нынешнее время пришло. Правда, за такую работу шахтёрам выписывались «упряжки», то есть рабочая смена, как будто бы они трудились в шахте, или выдавалась бесплатно бутылка водки, которая могла легко списываться по акту на бой. А шахтёр «облагодетельствованный» таким образом, раболепно называл директора родным отцом.
Когда портовый рабочий нелегально продал норвежскому мотоциклисту канистру бензина, узнавший об этом директор гневно распекал его на шахтёрском общем собрании и грозился отправить нарушителя на материк, а сам, между тем, продавал бензин тоннами направо и налево владельцам норвежских рыболовецких судов, заходивших в Баренцбург специально, чтобы заправиться дешёвым российским топливом. Настенька аккуратно получала с них норвежскую валюту, выписывала квитанции за каждую такую заправку и сдавала всё в бухгалтерию, не подозревая о том, что ни квитанции, ни деньги не попадали в управление треста.
И вообще. Что такое жизнь? Зачем она? Никто не знает. Но мы живём. Только все по-разному. Однако все живут, чтобы жизнь продолжалась. Настеньке вспомнились строки стихов Евгения Николаевича, её Женьчика:
Я для того родился на земле,
что б каждый слабый ставил ногу твёрже
с моею помощью, коль повстречался мне.
И ведь он так и живёт, никому не отказывая в помощи. Даже почтовые посылки с вертолёта и на вертолёт сам грузит, если рядом не оказываются рабочие. Да и в Лонгиербюене помогает норвежскому почтовику Хальге укладывать в машину посылки русских, ничего за это не прося.
А сама Настя разве не такая же? Выйдя замуж, она видит своё назначение в жизни для мужа и их будущего ребёнка. Она переводит слова Евгения Николаевича иностранцам, переводит то, что он пишет уже не столько за зарплату, а потому что это нужно ему, потому что ему это помогает решать важные вопросы. Она живёт для него. Это в первую очередь. А и для других тоже. Переводит же она, когда попросят шахтёры или их жёны, инструкции к магнитофонам и другой технике, которую они выписывают из-за границы, и никогда не берёт за это деньги, считая плату за помощь, которая ей ничего не стоит, унизительной. Правда, просители обычно не остаются в долгу и дарят Настеньке то плитку шоколада, то бутылку сладкого вина. Отказываться от подарка неудобно, и она берёт с благодарностью, что бы дарителей же потом и угостить при случае.
Словом, они были очень похожи друг на друга – Евгений Николаевич и Настенька. И они скромно улыбались, слыша, как приехавший с визитом генеральный директор треста «Арктикуголь» Павел Филиппович высказался однажды:
– Мне тут все говорят, что вы оба бессребреники. Это удивительно, но хорошо.
Он, к сожалению, не мог сказать так о себе и директоре рудника. Евгений Николаевич, как уполномоченный треста, обязан был заниматься и финансовыми операциями. Они были простыми: деньги, которые иностранные фирмы перечисляли за некоторые услуги треста, такие как продажа добываемого угля, собранного с берегов леса и других товаров, Евгений Николаевич должен был из норвежского банка переводить на два московских счёта треста в определённой пропорции и регулярно отчитываться за переводы, посылая факсы в трест неким шифром, указывая только переведенные суммы без упоминания номеров счетов.
Евгений Николаевич догадывался, что один из счетов принадлежит лично генеральному директору, но догадка это не есть факт. То, что деньги уплывали из государственных рук в частные, становилось обычным делом. А как этому воспрепятствовать, если всё кругом становилось на частные рельсы, большинство руководителей зависели друг от друга не только положением, но и экономически? Так и директора рудников на Шпицбергене чувствовали себя фактическими владельцами шахт. Товары, имевшиеся на складах, директора, узнав о девальвации рубля, скоренько списали, как уже проданные по старым ценам, и начали продавать шахтёрам по возросшим новым, направляя весь доход в директорский карман.
Это хорошо понимали в управлении треста, но что же делать, если перед глазами акты на списание, заверенные печатью? Генеральному тоже не трудно было всё понять и потому, прилетая на Шпицберген, он с удовольствием получал от директоров на командировочные расходы валюту, которую свободно тратил на покупку себе и своей семье зарубежных вещичек в норвежских городах, через которые проходили авиарейсы.
Настеньке очень не хотелось, да она просто не могла себе представить, чтобы их ребёнок вырос таким мздоимцем. Ей думалось, что изменения в стране, в которой теперь властвуют деньги, временны, и скоро вновь придёт советская власть в улучшенном виде, ещё крепче, чем была, ещё надёжнее для народа, а их ребёнок будет счастливым в этой обновлённой стране, став учёным, писателем или таким же переводчиком, как она.
И вдруг в голову пришла мысль: «А почему она не предполагает, что ребёнок вырастет и станет шахтёром? Разве она презирает шахтёрский труд?» Нет, конечно. Шахтёры как раз очень хороший по природе народ. С ними всегда легко. Им можно доверять. Они не обманывают, не хитрят. А чего им хитрить? Работа у них трудная и опасная. Года не проходит, как кто-то из них погибает в шахте. Никто никого не подсиживает. На их место никто не зарится. Но шахтёрами становятся обычно те, кто не поступил в институт или техникум, кто не приобрёл себе другую специальность. Правда, важно и то, что они хорошо зарабатывают – гораздо больше, чем получает Настенька. И многие едут за Полярный круг специально, чтобы заработать себе на машину или квартиру, а то и дом. Так это и нормально. Они честно получают деньги за свой нелёгкий труд.
Понятное дело, что те из них, кто приходят заниматься английским языком к ней на курсы, с трудом постигают иностранный язык, и обучать их очень и очень нелегко. Только Настенька не показывает виду, что ученики у неё слабые, что с детьми заниматься легче. Она упрямо требует от них заучивать наизусть разговорные фразы: «Привет!», «Как вас зовут?», «Как дела?» и другие, так необходимые им в разговоре с часто приезжающими в посёлок норвежцами. И с каждым слушателем она говорит так, словно влюблена именно в него и хочет, чтобы он понял, что она сказала. Даже, когда на занятия приходит Евгений Николаевич, она не делает различия между ним и шахтёрами так, будто это не её муж, называя его мистером Инзубовым, а чаще «мистер Женя», поскольку и других учащихся кличет по именам.
Конечно, мечталось Настеньке, недалеко то время, когда в подземных кладовых перестанут работать киркой да лопатой, когда приходящие им на смену механизмы полностью заменят тяжкие ручные усилия, а шахтёры будут техники и инженеры с высшим образованием. Сохранят ли они к тому времени свою рабочую искренность, открытость, напоённость радостью труда? Может быть, именно её ребёнку предстоит такая модернизация труда, а не борьба за власть, за место под солнцем, за безразмерные счета в банках. А то вдруг сын или дочка станет лётчиком или космонавтом? Кто знает?
2.
Они прилетели в посёлок Пирамида втроём: Андреас Умбрейт, Евгений Николаевич и, конечно, Настенька. Вертолёт мягко присел на маленькую посадочную площадку, пожужжал винтами, разгоняя под собою недавно выпавший снег, и затих. Коротенький трап спущен, и пассажиры один за другим сошли на землю. Первым буквально выскочил механик Володя. Кожаная куртка на нём не вполне сочеталась с высокими бахилами на ногах, но так ему было удобнее работать в случае необходимости посмотреть двигатель или шасси. Вышедший вторым, одетый в красный тёплый комбинезон и чёрные сапоги, был немец Умбрейт. За спиной у него висела неизменная двустволка. Она в данном случае была не лишней, ибо Пирамида лежит на пути миграции белых медведей, так что встреча с ними и в действующем шахтёрском посёлке могла быть в любое время, а уж в закрытом, из которого все почти выехали, тем более.
Да, шахту на Пирамиде, закрыли. Причина для угольных рудников банальная – эндогенный, то есть подземный пожар. Ещё в 1970 году самовозгорелись угольные пласты. А кто работал или связан был с угледобычей, тот знает, как трудно погасить тлеющий или даже горящий пламенем уголь, который подпитывается воздухом через прорубленные штольни. Ведь даже огромные терриконы, красующиеся на материке возле шахт, эти гигантские склады отвалов угольных пород, дымят, напоминая собой вулканы, и температура в них может достигать тысячу и больше градусов. А что же говорить о невыработанных пластах угля, которые могут воспламениться то ли от взрыва газа метана, то ли самостоятельно при стечении ряда обстоятельств?
В Баренцбурге после взрыва, что застал врасплох и Настеньку, тоже начался пожар. Его сумели залить тоннами воды, затопив при этом и тела погибших шахтёров. Здесь, на Пирамиде, где уголь добывают не «на гора», как в Баренцбурге, а «с горы», в штольнях, расположенных высоко в горе около пятисот метров над уровнем моря, затопить горящий уголь не удавалось, тогда как деньги на сдерживание огня тратились немалые. А тут развал Союза, добыча угля на Пирамиде сократилась почти вдвое против проектной, девальвация рубля, катастрофа самолёта на горе Опера, где среди погибших ста тридцати пассажиров половина летели для работы на Пирамиде. Короче, букет событий привёл к решению руководства треста закрыть рудник Пирамида. Этому решению способствовало и то, что директор рудника Баренцбург любил говаривать: «Пиромидчане живут за счёт Баренцбурга».
О, Леонид Александрович хорошо понимал, что значит лично для него закрытие рудника Пирамида. Дело, разумеется, было не в том, что он устроил проводы своему коллеге Петру Николаевичу в домике на мысе Финнесет с шашлыками и горячительными напитками. Это было, несомненно, приятным событием. Но главная радость Леонида Александровича состояла в том, что после отъезда Петра Николаевича директор рудника Баренцбург оставался главным начальником на обоих рудниках и все работы по ликвидации посёлка Пирамида должны были проводиться под его началом. А это сулило немалые выгоды.
Спрыгнув на снежный покров, улёгшийся после остановки вращавшегося винта вертолёта, Умбрейт галантно подал руку Настеньке. Она осторожно ставила свои сапожки с толстой подошвой, чрезвычайно удобной для хождения по снегу, на ступеньки лестницы и легко спрыгнула, подхватив предложенную Умбрейтом руку без перчатки. Пуховая куртка расстёгнута, шапка-ушанка распустила уши в стороны, концы белого шарфа свободно спадают на грудь, лицо молодой женщины счастливо смеётся навстречу солнечным лучам. Зима по календарю ещё далеко, хоть и лежит снег. По нынешним меркам тепло – всего несколько градусов мороза.
На Евгении Николаевиче короткая дублёнка, серые брюки и такие же, как у вертолётчиков, бахилы. Их ему подарил Тиграныч из запасов служебной одежды команды вертолётной службы. Стёкла очков хамелеонов сразу же потемнели на ярком солнце, защищая глаза от света. Приспосабливаемость стёкол к яркости стала настолько привычной, что их хозяин никогда не замечал изменения их цвета. Только если вдруг снимал почему-либо очки, то вдруг обращал внимание на тот факт, что стёкла совершенно тёмные, и тогда становилось приятно, что очки выполняют свои функции полностью.
Вертолётная площадка и морской причал для вполне солидных большегрузных кораблей, отстояли несколько в стороне от самого посёлка. Отсюда хорошо был виден на противоположной стороне залива Миммер гигантский ледник Норденшельда. Под солнцем хорошо можно им любоваться, но у прилетевших сейчас другая задача. Их интересует состояние покинутого посёлка. Евгений Николаевич давно здесь не был, слышал, конечно, отзывы небольшой группы рабочих, прилетавших сюда по заданию дирекции на ликвидационные работы, но хотелось самому посмотреть на результаты, а тут и Умбрейт подвернулся со своими предложениями использовать Пирамиду для туристических целей. Вот и полетели.
Первое, что бросилось в глаза и не могло не изумить, – это исчезновение финских домиков, с которых раньше начинался посёлок. В них практически никто не жил, но они никому и не мешали, так как новая часть посёлка, построенная после войны, находилась чуть дальше, поближе к месту добычи угля.
Умбрейт, бывавший здесь ранее со своими туристами, буквально опешил:
– Мистер Женя, а где деревянные домики? В них ведь можно было поселять туристов-романтиков, желающих пожить отдельно, не в гостинице.
Настенька перевела изумление Умбрейта, на который тут же последовал ответ:
– Сам не понимаю.
Хотя он догадался, что на снос домиков выделялись дополнительные средства, которые могли частично или полностью оседать в кармане распорядителя работами Леонида Александровича. Говорить об этом не стал, а просто выразил тоже своё недоумение, хорошо помня, что даже в конторе губернатора Шпицбергена, узнав о закрытии рудника Пирамида, выразили пожелание сохранить посёлок, как память.
И вот два ряда построенных в начале века финских домиков запросто исчезли с лица земли.
Настенька тоже не удержалась от возмущения:
– Помнишь, Женя, когда Пирамиду посетил норвежский король Харольд Пятый, он высказался, назвав Пирамиду жемчужиной архипелага? Тогда маленькие домики стояли на месте и являлись своеобразным украшением местности. Это было совсем недавно.
– Ну, вполне возможно, что не они восхитили короля, а, напротив, современные четырёхэтажные кирпичные здания на сваях гостиницы, больницы, управления, семейного общежития да очень красивые небольшие двухэтажки для жилья, которые вместе выглядят настоящим городским районом, да ещё со сквером, памятником Ленину, клубом с кинотеатром и бассейном. Думаю, что это больше впечатляет туристов, поскольку норвежские посёлки здесь же на Шпицбергене выглядят совсем иначе.
Настенька едва успевала переводить и то, что сама говорила, и слова Евгения Николаевича.
Умбрейт согласился с мистером Женей, добавив, что уникальность Пирамиде придаёт пирамидальная гора, из-за которой посёлок получил своё название, близость ледника Норденшельд, и даже такая деталь как бутылочный домик, сложенный шахтёрами из пустых бутылок, добавляет шарм посёлку.
Обо всё этом троица говорила по пути к центру посёлка, который встретил их большим знаком треста «Арктикуголь» с белым медведем наверху и указателем 79о северной широты, маленькие копии которого в виде значков красуются на лацканах пиджаков сотрудников треста.
Вдоль всего посёлка тянулись длинные деревянные короба, накрывающие трубы бывшей теплосети. Иной раз казалось, что по ним луче идти в местах, размытых весенними паводками. И тогда они поднимались на короба там, где это было возможно, и шли по дощатым перекрытиям, не рискуя свалиться, так как снег ещё не нападал в большом количестве и не был скользким.
Вся местность представляла из себя довольно грустное зрелище покинутого жилья. Окна домов порой чернели разбитыми проёмами или белели листами приколоченной фанеры. Все этажи бывшего семейного общежития облюбовали себе чайки. Ещё весной они устроили на подоконниках гнездовища из натасканной соломы и прекрасно себя чувствуют в любое время, хлопотливо усаживаясь на толстые подстилки по несколько пар у каждого окна.
– Это чайки правильно поняли. Семейное общежитие должно быть заселено. – смеясь, сказал Евгений Николаевич. – целый город чаек. А людей нет.
– Посмотрите, – удивлённо воскликнула Настенька, – сколько набросано бумаг по сторонам. И даже книги валяются.
– Неорганизованные туристы, – хмыкнул Умбрейт, выслушав, как Настенька перевела своё возмущение. – Мне рассказывали, что дикие туристы, которые приезжают сюда сами по себе, заходят в дома и выносят всё, что найдут.
– Странно, что библиотеку до сих пор не вывезли – заметил Евгений Николаевич.
Умбрейт и тут вставил своё мнение: