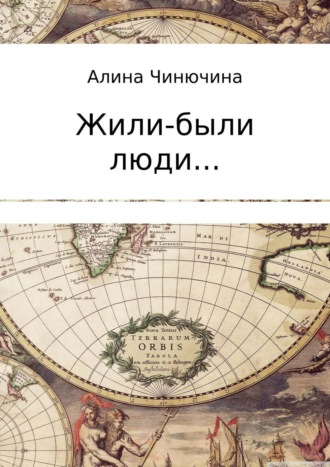 полная версия
полная версияЖили-были люди… Сборник
– Давай сюда! – нетерпеливо и грубо потребовал Сумароков, радуясь, что с женой все в порядке и одновременно злясь на нее за такую задержку.
– Так нету же, Антошка, – голос Любы звенел уже в кухне. – Говорят, только вечером привезут. Я после работы забегу, ага? Ой, поесть уже не успею…
Жена появилась в комнате.
– Милый, я ухожу, – виновато сказала она. – Ты уж как-нибудь сам, ладно? А то ведь опоздаю.
Она склонилась над Сумароковым и поцеловала его. Свежий запах близкой зимы коснулся Сумарокова ее губами.
Снова хлопнула дверь. Все случилось так быстро и внезапно, что несколько минут Сумароков просто лежал, ошеломленный, не в силах осознать, что случилось. Потом осторожно приподнялся, морщась от боли, дотянулся до тумбочки рядом с диваном. Аптечный пузырек темного стекла с полуоблупленной этикеткой был высосан им до капли. Сумароков несколько секунд вертел его в пальцах. До вечера. Нужно дожить до вечера. Солнечный луч на обоях погас. Сумароков с силой сжал пузырек – и, размахнувшись, пустил его через всю комнату в стену. Пузырек раскатился по полу грудой осколков. На самом большом осколке поблескивал остаток надписи: «Микстура Надежина. Отпуск по рецепту врача….»
* * *
«Когда Господь раздавал людям чувства, он забыл про надежду, – шутили остряки. – И тогда люди научились выпускать ее сами». Поговорка эта вошла в историю еще задолго до рождения Сумарокова.
Вроде бы совершенно ничего не случилось. В XXII веке люди появлялись на свет так же, как во времена Христа или древних римлян. Вполне обычные люди, они так же любили и ненавидели, радовались и горевали, смеялись и плакали. И рожали новых детей. Но они не знали, что такое надежда.
Они не умели надеяться. Такой вот каприз мутации.
Две руки, две ноги, сердце и желудок – право же, все совершенно обычно. Какая печаль от того, что маленькая капелька в цветном потоке чувств, зеленая капелька, которая называется надеждой, известна лишь в старых сказках? Жить это ничуть не мешает. А если это шутка природы, то шутка, надо сказать, вполне безобидная.
Пятьдесят лет назад, еще до рождения Сумарокова, скромный ученый Надежин изобрел и передал в производство очень сложное в изготовлении лекарство, которое принесло ему мировую славу. Лекарство получило имя своего создателя, стало называться микстурой Надежина и сначала стоило бешеных денег. Потом, впрочем, тоже. «Надежу» – так в просторечии называли лекарство – выдавали по строгому учету: летчикам, морякам, альпинистам. И тяжело больным. Микстура не лечила, не снимала боль. Она всего лишь давала надежду. Такое вот старое, давно забытое чувство…
* * *
День тянулся невыносимо долго. Сумароков, пытаясь отвлечься, долго щелкал пультом, перебирая телеканалы. Потом включил радио. Выключил. Повертел в руках трубку телефона. Звонить ему было некому, а сам он ни с кем разговаривать не хотел. Часы над сервантом показывали полдень. Еще шесть часов.
Полгода назад Сумароков попал в автоаварию. Четыре месяца провалялся в больнице, потом его выписали домой, потому что мест в отделении не хватало. Будущее врачи рисовали оптимистичное, но довольно туманное. В настоящем же осталась инвалидная коляска, жизнь затворника в четырех стенах, потому что Люба не могла каждый день выволакивать с десятого этажа и 90-килограммового мужа, и коляску, и постепенно копящееся тупое, сводящее с ума бешенство. Бешенство – и отчаяние, приглушить которое ненадолго помогала «Надежа».
Конечно, Сумароков – не летчик, не депутат и даже не бизнесмен – вряд ли получил бы рецепт, да еще и на полгода с правом продления. Не такой уж тяжелой, в самом деле, была признана его болезнь; ну, а что инвалидность дали – так и на инвалидности люди живут. Помог шурин. По каким-то хитрым каналам он сумел выбить для переломанного родственника бесплатный рецепт (Сумарокову и Любе пришлось отдать все, накопленное на квартиру и распрощаться с мечтой о двухкомнатной) и обещал, что через полгода рецепт помогут продлить. Полгода истекали только в январе, и Люба сказала, что там видно будет – вдруг муж все-таки встанет на ноги? Врачи ведь надеются…
Теперь эта бутылочка из темного стекла казалась Сумарокову единственным, что привязывало его к жизни.
В одни руки выдавали одну дозу. Доза была рассчитана на неделю. Первые два дня после очередного глотка Сумароков был счастлив. Жизнь возвращалась в маленькую квартирку на десятом этаже. Вечерами он расспрашивал жену о делах на работе, улыбался и гладил ее руку, когда она помогала ему умыться. Ночами, прижавшись друг к другу, Люба и Сумароков мечтали, что скоро это все кончится, Антон поднимется на ноги, и летом они – обязательно-обязательно! – поедут в гости к тетке в Москву и там снова пойдут в Большой театр. Люба засыпала на плече Сумарокова, а он тихо дышал в ее пушистые волосы и был счастлив каким-то странным, ночным, недолговечным счастьем.
Потом эйфория спадала. Все входило в обычную колею, и еще пару дней Люба и Сумароков жили обычной, ставшей для них привычной жизнью сиделки и лежачего больного. Сумароков читал, по вечерам терпеливо занимался гимнастикой – сложной системой из двух десятков упражнений, показанных ему на прощание усталым хирургом. Люба возилась в кухне, изредка они перекликались.
«Надежу» выдавали по вторникам. К вечеру воскресенья Сумароков становился хмурым, все чаще огрызался на мягкие замечания жены, мрачно щелкал каналами и нетерпеливо накручивал на палец край простыни. Понедельник бывал для него самым тяжелым днем. Невесть почему ныли парализованные ноги, чесались руки, пересыхало во рту. Малейший звук делался нестерпимо громким, шаги на лестнице резали уши, а едва слышные голоса соседей за стеной грохотали барабанным громом. Вечером Сумароков придирался к жене, язвительными замечаниями доводя ее до слез, а потом мучился от раскаяния и долго просил прощения. «Ты же понимаешь», – говорил он. Люба вздыхала – и понимала.
Во вторник утром она вскакивала в пять утра, чтобы успеть в аптеку до работы. «Надежу» выдавали только в центре, и дорога туда занимала почти час. Зато вечером у них наступал праздник.
Наступил бы, мрачно думал Сумароков. Перебои у них, видите ли, с поставками.
Вечером Люба снова поехала в центр – и вернулась, удрученная, замерзшая и уставшая. Перебои с поставками, повторила она. Теперь только в субботу. Сумароков отодвинул от себя тарелку с ужином и отвернулся к стене.
В среду утром он не ответил на ее обычный поцелуй, которым она прощалась с ним, и притворился спящим. Люба постояла и, вздохнув, вышла.
В четверг Сумароков не стал делать гимнастику. Все книги в доме были прочитаны и вызывали раздражение. Внутри у него колыхалась вязкая, черная вода. Что это было – отчаяние? Тоска? Он предпочитал не думать.
В пятницу вечером Сумароков швырнул жене в лицо тарелку и назвал ее косорукой. Люба заплакала и ушла из комнаты. В Сумарокове шевельнулось было раскаяние – но он выругался и закурил прямо в постели, чего раньше никогда не делал.
В субботу по местному телевидению прошел сюжет о трудностях с поставками лекарств в город. Журналисты в один голос твердили о небывалом взлете цен и призывали население набраться терпения. Люба снова вернулась домой с пустыми руками.
Воскресенье Сумароков провел, отвернувшись к стене. Узор на обоях был изучен им до последней трещинки за эти месяцы, и нового не обещал. Люба порой тихонько выходила на балкон – плакать. Утром муж выдал ей порцию грязной брани. Люба все понимала. Но ей было очень тяжело.
Лекарства не было. Ни в понедельник, ни в среду, ни в пятницу. Возмущенные родственники лежачих больных осаждали аптеки, кабинет мэра и горздрав. Там разводили руками и уговаривали потерпеть.
– Я боюсь, – шептала Люба, стоя на балконе и глядя в серое ноябрьское небо. – Господи, я боюсь за него. Господи, помоги!
Небо молчало. Как могло оно помочь? Ведь не родит же оно, в самом деле, эту «Микстуру Надежина». А других вариантов не было.
Прошло полторы недели. Люба исправно ходила отмечаться в очередь, расписывалась в каких-то списках. Ее уверяли, что она получит «Надежу» одной из первых, и обещали позвонить. Засыпая, Люба клала рядом телефон. Уходя на работу, стала тщательнее закрывать входную и балконную дверь и отключала газ. Она улыбалась, но улыбка ее казалась чужой на похудевшем лице.
Сумароков не верил в Бога, поэтому молитвы считал делом зряшным и бессмысленным. Ночью он лежал без сна и просто смотрел в темноту. Люба тихо дышала рядом, а он лежал и думал, что без толку мучает ее и себя. Ее – в первую очередь. В нем просыпалось раскаяние и любовь к жене, и он, повернув голову, тихо целовал ее пушистые волосы. Но что придумать и как помочь – не знал.
Однажды ночью он, как обычно, лежал и молчал. Уже наступил декабрь, но снега еще не было, и чернота за окном казалась кромешной. Такая же кромешная чернота была внутри. Ничтожество. Калека. Урод.
Сумароков покосился на спящую жену и, пыхтя, стал переваливаться с дивана на коляску, стоявшую рядом. Люба, умотавшись, спала так крепко, что не слышала шума. Кое-как он перевалил отяжелевшее тело и отдышался. Крутнул колеса, подкатился к окну. Тихонько отодвинул занавеску и посмотрел вниз.
Если бы он мог в коляске переехать через порог на балкон… руки у него сильные, и дверь, а потом окно открыть – не та проблема. Если бы он мог подтянуть себя, чтобы перевалиться через подоконник, он бы, конечно, давно решил эту проблему. Но он не мог. Крюка в потолке и уж тем более веревки у него нет. А все лекарства в домашней аптечке Люба упрятала высоко в шкаф, чтобы он не смог до них дотянуться.
Сумароков смотрел вниз. Город мерцал полночными огнями, по проспекту катили машины. Год назад они с Любой вот так же ехали по ночным улицам и смеялись. Сумароков молчал. Черная вода внутри дошла до края. Он ударил кулаком по раме окна, потом еще, еще и еще. Пришла боль, но он плевал на нее. Он плюнул бы на жизнь – если бы мог.
Потом он поднял голову. Ночное небо было черным, как вода внутри. И молчало.
Сумароков дернул шпингалет и распахнул оконную створку. Сквозняк рванул на нем майку. Земля терялась далеко внизу, и так же далеко был город. Черное, совершенно черное небо распахнулось и обняло его – всего, от саднящих, разбитых пальцев рук до бесчувственных пальцев ног. Сумароков вздохнул полной грудью. Только шаг… сделать один только шаг.
… Маленькая звезда, невозможно далекая, невозможно высокая, подмигнула ему. И Сумароков вдруг увидел, что чернота неба – не сплошная. В ней есть проблески. Они серебряные, как звезды. Они резкие, как ветер. Холодные, как снег. Живые, как жизнь. И в этих проблесках, где-то очень высоко, парила в небе звезда чуть поярче и покрупнее остальных. Она была не серебряная, а почему-то зеленая. Сумароков вспомнил школьные уроки астрономии. Звезда называлась Надежда.
Он попытался закричать – горло свело судорогой. А потом заплакал. Сумароков не плакал уже много лет – с тех самых пор, как у Любы случился выкидыш. Он вытирал мокрое лицо занавеской и плакал – беззвучно, сдавленно ругаясь самыми черными проклятиями, и колотил кулаками по окну.
Зазвенело под руками выбитое стекло. Вскочила и закричала сзади Люба. А он все плакал, плакал и никак не мог остановиться. Люба металась вокруг с какими-то каплями, но он отталкивал ложку и плакал. А потом вдруг уснул – прямо вот так, в коляске, неожиданно и очень крепко. Люба еле перетащила его на диван.
Утром Сумароков проснулся поздно. Люба ушла на работу, не став будить его. На ковре возле дивана валялась ложка, стояла кружка с водой.
Сумароков лежал, открыв глаза. Было тихо и очень спокойно – город словно вымер. Потом Сумароков приподнял голову. Из открытой форточки отчетливо пахло морозом. «Это пошел снег», – догадался Сумароков. Мелкие, как крупа, снежинки, неслись в воздухе и пропадали в облаках.
Где-то там, за облаками, наверное, всходило солнце. Сумароков не видел этого, но знал совершенно точно. А еще он знал, что Солнце – тоже звезда. Оно желтое. Оно светит где-то совсем рядом с ярко-зеленой звездой, которую зовут Надежда.
Сумароков закрыл глаза и улыбнулся, откинулся на подушку. Люба придет сегодня домой пораньше. Дурак, как же он мог про нее не подумать? Надо рассказать ей про эту звезду… Она большая, ее хватит на всех.
30.04.2010.
Сказка про яблоко
Хочу быть яблоком – круглым, румяным, наливным, радующим глаз. Хочу стоять на столе на тарелке с маками, сиять всеми своими розовыми боками, улыбаться миру, августовскому полдню, солнцу, заливающему лучами кухню с чисто выскобленными полами и клетчатыми занавесками. Хочу ехать в ранце с книгами, призывно пахнуть на лекциях по экономике, обещая после этой вселенской скуки неземное счастье, удовольствие, хрусткую свежесть и вкус.
Хочу носить длинные вязаные платья, непременно с норвежским узором на груди, с круглым уютным воротником, до полу, не стесняющие движения. А к ним – непременно шерстяные колготки, такие мягкие, что даже просто гладить их – радость для рук, для глаз, для обоняния, так пахнут они бабушкиной прялкой, старым домом со скрипучими половицами и зимним полднем. И носки хочу, узорчатые, с оленями, вышитыми красной шерстью.
Хочу быть круглой, наливной, мягкой, бороться с непослушными пушистыми рыжими волосами, сиять веснушками посреди зимы, улыбаться зеленью глаз, белизной зубов из этой оранжево-коричневой россыпи. Пусть медные волны сбегают до пояса, едва схваченные заколкой, лезут на плечи, окружают золотым нимбом голову. Хочу, чтобы дети утыкались в меня любопытными носами, шептали все-все самые важные тайны, хватали наперебой за руки и тащили – каждый за собой.
Вместо этого на меня с той стороны зеркала смотрит бледная, костлявая лошадь с хмурыми темными глазами. Между бровями – морщинка озабоченности и усталости, короткие темные волосы никак не ложатся в прическу и потому острижены под ежик. Вечные брюки – потому что на работе холодно, вечные свитера – поэтому же, только поди найди их с норвежским узором, у них у всех воротники «хомут», которые я терпеть не могу. Вязаные платья, что в таком количестве висят во всех модных магазинах, слишком дороги и болтаются на моей худой фигуре, ни одни колготки почему-то не греют так, чтобы надевать их с юбкой. И дети не вжимаются в меня с разбега и не тянут за руки – норовистые подростки выдают на моих уроках что-то запредельно далекое от математики, а потом дерзят и требуют «тройки» вместо заслуженных «единиц».
Вот тебе и вся любовь. Вместо мороза с солнцем – серая каша из снега и грязи под ногами, вместо платья и пледа – вечно бегом, вместо смеха с детьми – куча бумаг и отчетов. Даже яблоки к декабрю существенно бьют по кошельку и как-то очень редки теперь – что на тарелке, что в сумке.
Сегодня после работы мне нужно зайти к Тетке Тамаре. Это единственное, что хоть как-то примиряет меня с жизнью после шести уроков, классного часа в моем буйном восьмом и полутора часов за компьютером. Попытки разгрести гору планов, отчетов и бумаг, навьюченную на учителей завучами, директором, управлением образования, Бог весть кем еще, провалились бесславно – компьютер завис, а я потеряла половину не сохраненной работы. Сама дура. Правильно. Поэтому пойду-ка я к Тетке Тамаре.
Тетку Тамару я люблю. У Тетки Тамары седые в просинь волосы, узловатые пальцы и семьдесят лет. Тетка Тамара носит яркие бусы, цветные шейные платки и красит ногти в невероятные цвета. Она побывала во множестве стран, городов и мест, оглушительно смеется, любит своего кота Боба и кучу племянников. Я – одна из них. Вообще-то с Теткой мы познакомились всего лет восемь назад, до этого я и знать не знала, что она есть вот такая – белая ворона среди всей нашей многочисленной родни, очень традиционной, правильной и любящей лезть в чужие дела больше, чем в свои собственные.
Тетка Тамара никогда не учит меня жить. Она заваривает угольно-темный, очень крепкий чай, выставляет на большой тарелке печенье «курабье» – единственное, за которое я готова Родину продать, да только никто не берет, садится напротив меня, закуривает сигарету в длинном мундштуке и подпирает щеку ладонью. Странно, но я, не терпящая ни табачного дыма, ни чужих расспросов, с удовольствием рассказываю ей все, что просится на язык, и спокойно вдыхаю запах ее табака – ни на что не похожий, сладковатый аромат.
Выслушав все мои проблемы, Тетка Тамара оглушительно смеется и начинает рассказывать о тех странах, в которых побывала когда-то. И удивительное дело – спустя пару часов я понимаю, что моя-то беда – не беда, а вот в Африке… в Африке лианы, попугаи и крокодилы, и следующим летом мы с Теткой обязательно поедем туда. Лето приходит и уходит, ни в какую Африку мы, конечно, не едем, вернее, я не еду, а Тетка Тамара собирает чемодан и улетает – туда, где цветут орхидеи, растут пальмы и валяются прямо под ногами кокосы, оливки или иная какая заморская сладость. И я ничуть не завидую ей, жду рассказов и фотографий и очень за нее рада. После двух часов общения с Теткой понимаешь, что все твои проблемы – ерунда по сравнению с крокодилами.
Сегодня я иду к Тетке Тамаре – не иду, а тащусь, ползу, навьюченная горой недоделанного, несделанного, нужного для делания и просто собственного своего мрачного настроения. На улице – соответственно. Середина декабря – еще рано для того, чтобы ждать Нового года, праздника, отдыха, но уже достаточно для того, чтобы возненавидеть вечные сумерки и темноту, жидкую снежную кашу под ногами и постоянный холод, мерзнущие пальцы и стылый ветер.
У Тетки Тамары тихо и тепло. Кинув сумку и пакет с тремя пачками непроверенных тетрадей на полку у зеркала, я ем картошку, поджаренную ею по какому-то особому португальскому рецепту (и правда очень вкусно!), пью чай из огромной, едва ли не в литр, кружищи и молчу. Говорить нет сил. Молчит и Тетка Тамара. Молчит, курит и на меня смотрит. И, слава Богу, не говорит никаких банальностей – вроде «Новый год скоро», или «зато снег, и можно на лыжах», или – еще веселее – «смотри на жизнь с позитивом». Последнее я вообще не терплю.
Она умеет так иногда – молчит и смотрит, молчит и смотрит. И ты молчишь. И тебе хорошо.
А в буфете у нее, в старинном, прабабкином еще буфете, на маленькой тарелке с подсолнухами – яблоко. То самое, яблоко моей мечты, розово-сливочное, медовое… И пахнет так, что даже через закрытые дверцы буфета слышно. Еще светло, но зимний день короток, и совсем скоро зажжется лампа – настольная лампа под светлым абажуром; почему-то тетка не любит в кухне верхний свет. Но пока – мы сидим и молчим.
– Самое смешное, – говорит вдруг Тетка Тамара, словно продолжая начатый разговор, – что нам нужна в жизни одна-единственная правильная вещь. Ну, или не вещь, а человек, чувство, страна… что-то нематериальное, какая разница. Это по большому счету не важно. И тогда все становится на свои места.
Я хмыкаю и беру с блюда последнее печенье.
– Вот хоть это яблоко, – кивает она на буфет. – Тоже ведь – чье-то. Может стать чьим-то, а лежит у меня. Хотя… почему оно не может быть и моим? Вдруг это та самая вещь, которая обязательно нужна именно мне?
Мы смеемся обе, и кисточки на абажуре качаются в такт нашему смеху. Приходит, задрав хвост ершиком, важный бело-серый Боб, вспрыгивает мне на колени, подставляет бок: чеши. Вот уж кому точно нужна единственно правильная в его жизни хозяйка – Та, Что Чешет.
– А тебе… тебе нужен танец, – продолжает Тетка Тамара. – И не любой, а обязательно твой. Тогда будет хорошо.
Это «будет хорошо» она произносит с непоколебимой уверенностью Жизни, знающей, что человечеству и мне в его лице нужно. Я фыркаю и машу рукой. Знаю я эти танцы, ага. Вечная нехватка партнеров, стояние у стеночки, когда ноги так и тянут к вальсу, тоскливые глаза таких же неудачниц, как ты. Проходили – в юности на дискотеках. В детстве я немного занималась в танцевальной студии и уж по крайней мере вальс от танго отличить могла. А дрыгаться в общем кругу под невнятные бухающие завывания мне и в семнадцать не было интересно.
– На днях я встретила Флюру, это моя старая институтская подруга, преподаватель танцев. У нее теперь студия на проспекте Мира. Сходи, не пожалеешь.
– И где я кавалера возьму? – интересуюсь я, допивая чай.
– Там не нужно кавалеров, – улыбается Тамара. – В том-то вся и прелесть, что у нее этого не нужно, их может быть больше или меньше, но главное – не в них. Флюра обязательно знает, какой танец тебе нужен.
Ох-хо-хонюшки… Тетка ты моя Тетка.
– А время на это я где возьму?
– Дважды в неделю по два часа – неужели не выкроишь?
– Никак, – вздыхаю я.
Наверное, это было бы здорово – танцы… если бы. Вот именно – если бы. Если бы было время, у меня уроки в две смены, да еще и с кучей «окон». Если бы были силы, загнанная кляча она и есть кляча. Если бы были деньги – ведь нужны туфли, да и за студию придется платить. Если бы нашелся партнер – и вот это самое главное.
– Дело в том, – говорит Тамара задумчиво, – что каждый из нас в жизни танцует свой собственный танец. Главное – угадать его, найти. Если нашел, увидел – все будет так, как ты хочешь. Если нет – ищи, и пока не найдешь, будешь думать, что ты не на своем месте; не на своей работе, не со своим мужчиной. А дело совсем не в них.
Она склоняет голову к плечу и смотрит на меня оценивающе.
– Тебе подошел бы не вальс и не… впрочем, да. Наверное, румба – знаешь, та самая, классическая, с длинной, тягучей музыкой, с красными туфлями. Или, думается мне, менуэт. И темно-зеленое с серебром платье. Понимаешь?
Я неуверенно киваю. Последние глотки чая терпкой сладостью обжигают губы, и я вдруг вижу – темно-зеленое, мшистого цвета, платье с тяжелыми рукавами, нитка зеленых бус обвивает шею, длинные серьги с изумрудами. Неторопливая, учтивая музыка старого танца, мужская ладонь на твоей руке, зеленые портьеры на высоких окнах…
Да ну, чушь какая! Где я сейчас менуэт возьму? Румба – еще туда-сюда…
Тетка Тамара улыбается.
– Запиши на всякий случай адрес: проспект Мира, восемнадцать. Вдруг захочешь?
Громко, тяжело бьют большие часы в комнате – я вздрагиваю. К этому оглушительному бою и хриплому «ку-ку» я долго не могла привыкнуть; в первое время думала – кондратий обнимет. Ничего, теперь, бывает, даже не замечаю.
Пять часов, с ума сойти! О платье замечталась, балда. К семи придет ко мне девочка на репетиторство, а мне еще до дому ехать…
Я собираюсь поспешно, роняя с ног тапочки, то и дело забывая, куда положила телефон, шапку, варежки и все ли пакеты со мной. Тетка Тамара обнимает меня. Потом ненадолго скрывается в кухне и выносит мне, уже обутой, сверток:
– Возьми, ты любишь это печенье. И вот еще, для тебя купила.
Она протягивает мне яблоко. То самое, буфетное. А оно, зараза, пахнет так, что я, даже пообедав, слюной захлебнусь.
– Не надо, – прошу я, – пусть тебе останется. А вдруг оно твое? Вон какое, его на холод выносить страшно.
– Бери, – смеется Тетка и впихивает яблоко мне в сумку. – Дома погрызешь.
На улице, конечно, сумерки и холод. Зато ветер стих. И пошел вдруг снег – крупные декабрьские хлопья, мягкие, белые… неужели декабрь таки прочухался и вспомнил, что он – зима? Я медленно иду вдоль маленького рынка к остановке автобуса и думаю о платье и менуэте. И студии неведомой Флюры, которая всегда знает, какой танец человеку нужен. Когда-то давно я рисовала на полях школьных тетрадей принцесс в коронах и длинных платьях со шлейфом и кавалеров в камзолах и со шпагами. Шею холодит усиливающимся морозцем, спина выпрямляется сама собой, и как-то незаметно походка становится легче, не так сильно оттягивают руки сумка и тяжелый пакет с тетрадями. Правильный танец. А что нужно Тетке Тамаре? Правильный город? А нашему завучу, вечно недовольной тетке с поджатыми в гузку губами? Правильные пирожки с вареньем?
Никогда в жизни у меня не было правильного танца. Физмат в универе – был. И муж был, правда, не в камзоле и без шпаги, но прожили пять лет, ничего себе. Он не обнимал меня в менуэте, но приносил домой зарплату, да и расстались мы друзьями. Друзья были, родители, многочисленные шумные и ворчливые тетки. И, в общем, дети были тоже, и мой восьмой класс, будучи еще пятым, прибегал на переменах и утыкался любопытными носами в мой свитер, и сиял двадцатью парами глаз, и галдел наперебой. И, наверное, даже можно плюнуть на все и родить от Сереги, сама выращу. После родов располнею, буду круглая и мягкая, как плюшки Тетки Тамары… главное – найти для дочки правильное яблоко, вот что.
Рынок уже затихает, торговцы сворачивают товар, и продуктовые ряды еще работают, а вот одежные уже зияют пустыми пятнами – то тут, то там.
Свет фонаря падает на один из лотков, и я вдруг останавливаюсь. Уже почти весь товар убран, висит только одно платье. Вязаное, длинное шерстяное зеленое платье с вывязанным на груди серебристым норвежским узором. Высокий воротник, узкие рукава, малахитово-зеленый глубокий цвет.



