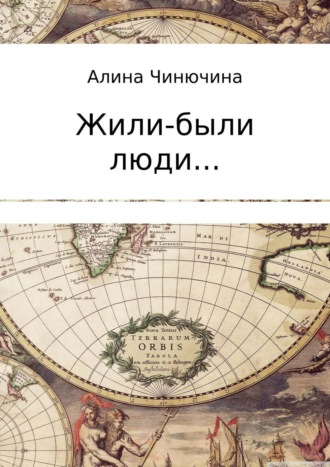 полная версия
полная версияЖили-были люди… Сборник
– Варь…
– Я выращу его, – мне не хватает слов, чтобы убедить мужа, – я хочу, понимаешь, хочу! Он будет рыжим! Как ты, как твои коты! У него будут твои руки, он будет любить лес и требовать на завтрак сырники с вареньем.
– Варь…
– Что – Варь? Ну что? Ты что же, думаешь, я отпущу тебя просто так, насовсем? Ты хочешь сбежать от меня? Навсегда? Так вот, этого не будет, понятно? Ты просто трус, трус в таком разе, вот и все!
Я уже кричу, кричу и плачу, колочу его кулаками по широкой груди – это выходит из меня злость, отчаяние и напряжение всех последних месяцев. Я злюсь не то на себя – за трусость и нерешительность, что мне стоило сказать это год назад, два, три, злюсь на мужа за то, что болен, на судьбу, на весь белый свет! Сашка обнимает меня и, кажется, сам чуть не плачет, и день медленно идет к закату, он уже заканчивается, и сколько нам еще осталось их, и сколько их будет у меня одной?
– Сашка, – плачу я, – Сашка! Не уходи! Я не смогу без тебя, я не хочу без тебя! Я никому тебя не отдам. Сашка…
– Тшшш… тише, маленькая моя, тише, – муж обнимает меня и укачивает, как девочку. А я все плачу и плачу, цепляюсь за него и не могу отпустить.
И тогда он наклоняется и накрывает мои губы своими…
И небо качается над моей головой и со звоном обрушивается вниз.
…Мы лежим в траве, на Сашкиной расстеленной куртке, и смотрим вверх, на верхушки сосен, на плывущие облака. Пальцы мои накрепко переплетены с Сашкиными, его свободная рука ласково гладит мое лицо, шею, плечи, грудь, едва прикрытую наброшенной сверху футболкой. Футболка пахнет Сашкой. Мне ужасно хорошо и хочется плакать от того, как мне хорошо… и как мало осталось нам этого хорошо, и почему у нас только год, ведь могла бы быть – жизнь, и сколько времени даром, так бездарно даром, мы уже потеряли.
Но слов, чтобы сказать это все, у меня нет, и я говорю только:
– Я люблю тебя.
Он улыбается, легонько смахивает с моего плеча муравья.
– Варька моя, Варька… прижать бы тебя к себе и не отпускать никогда!
– Сашка… Сашка, почему все так неправильно, а? Ну почему?!
– Полно тебе, – отзывается муж легко. – Мы ведь еще есть. И будем.
– Но ведь могли бы быть – больше. Дольше. Длиннее. Почему так, а?
– Варь… все в жизни когда-то кончается. Зато мы есть. Сегодня. Сейчас. Почему мы должны плакать о том, что только _будет_, но чего еще нет? Забей. Может, через полгода нам всем кирпич на голову рухнет? Может, изобретут новое лекарство, и мне не надо будет умирать? Зачем ты думаешь об этом сейчас?
– А о чем, о чем я должна думать?
Он смеется:
– О том, что я люблю тебя.
Поднимается ветер, мотает деревья, сверху сыплются на нас хвоинки. Жара понемногу спадает – вечер.
Я обнимаю Сашку крепко-крепко, оплетаю ногами, руками. Шепчу:
– Никому тебя не отдам!
– Не отдавай, – соглашается муж. – Я не против.
По голосу слышу – улыбается.
– Давай, так будет всегда? Давай жить так, как хотим?
– Согласен. И смерть этому совсем не мешает, Варь, честное слово. Мы будем жить – ты и я. И он, – он кладет руку мне на живот, – или она. Будем считать, что я просто уехал. В командировку. На Гоа. Надолго, на всю жизнь, ладно? Мы попрощаемся с тобой сегодня, а потом просто будем жить так, как будто скоро мне нужно уехать.
– Сашка…
– Я буду присылать вам с мелким оттуда письма и рисунки. На березовых, к примеру, листьях – подойдет?
– На Гоа нет берез…
– Ну, на пальмовых, какая разница. А мелкий будет тебе их читать, потому что ты не сможешь их перевести, ты же языка не знаешь…
– А он знает?
– Конечно. Ведь это я буду он.
– Или она…
– Или она. Она будет тебе читать эти письма, писать мне ответные… а потом, когда вырастет и перестанет понимать этот язык, я еще что-нибудь придумаю. Главное – мы же никогда не расстанемся.
Он поворачивается на спину, гладит мои волосы и смеется – так легко и весело, словно у нас и вправду впереди еще длинная, целая – жизнь.
– А пока… а пока у меня есть целый год. Целый год – и я проживу его, как хочу… так, как мне на самом деле нужно.
Я приподнимаюсь на локте и вглядываюсь в его лицо. Оно совсем спокойно, спокойно и счастливо, и я вдруг понимаю, что завидую ему – у него впереди год, целый год жизни, настоящей, такой, какой она должна быть, чей-то невиданный царский подарок, чья-то милость, дарованная не всем – только тем, кто это и вправду сможет понять. Важно лишь то, чего ты по-настоящему хочешь.
– А можно, и я с тобой? – спрашиваю я. – Я тоже хочу жить так, как хочу.
– А ты сможешь?
– Не знаю. Но я постараюсь. Я не безнадежна. Я научусь.
Где-то высоко-высоко, в невозможной синеве, улыбается солнце, пролетает в небе тень – птичья стая, слышен протяжный, далекий крик. Мы смотрим на птиц, на облака, держимся за руки – и смеемся.
1-2 мая 2017
Оплеуха от призрака
Ане Узденской,
с огромной благодарностью
Этой ночью я твердо решил умереть.
Как в дурном дамском романе, верно?
Но что поделаешь, если жизнь иногда бывает похожа на романы. Причем, не на самые хорошие – уж что-что, а это я, прочитавший на своем веку не одну сотню книг, понял давно.
Собственно, книги я не только читал. Я их писал, если уж совсем честно. Да, я писатель, приятно познакомиться. Не так давно – последние пять лет, но довольно успешно. По крайней мере, томики с моей фамилией на обложке раскупались в магазинах быстро, машину я два года назад поменял на новую, да и квартиру мы со Светкой обставили так, что посмотреть приятно. В издательстве меня ценили, а критики… ну, нынче не критикуют только то, что плохо лежит. А к высказываниям типа «фэнтези – это не литература» я привык. Пусть завидуют, если охота. Толкин вон тоже фэнтези… нет, я себя на одну доску с великими не ставлю, но… в общем, мы отвлеклись от темы.
Так вот, раньше я много читал о том, как герои – преимущественно женщины, конечно – решали умереть, доведенные до отчаяния… дальше перечислялся список причин. От бросившего их любимого (ау, дамские романы в мягкой обложке) до невозможности жить, потеряв честь (привет, господа офицеры) и смысл жизни (творения рефлексирующих интеллигентов). Это я уже не говорю о классике, там примеров пруд пруди. Но… когда попадаешь в капкан сам, то уже не думаешь, как выбирались оттуда другие.
А я жизнь любил. Как раз накануне аварии мы со Светкой вернулись из Испании, где оттянулись так, как не оттягивались со студенческих времен. Собственно, если бы мы не выпили в честь приезда у одного из приятелей, я бы вел машину сам, и ничего бы не случилось. А так – неопытный водитель, мокрая после дождя дорога, встречный идиот на «джипе»… Слава Богу, Светки с нами не было; первое, что я увидел, очнувшись после операции, – ее глаза. В них были ужас и облегчение. В первую минуту и я сам порадовался тому, что живой. А теперь иногда думаю – лучше б сдох тогда. И ей, и себе забот меньше.
Мы со Светкой хотели расписаться – еще до поездки, до… всего. Потом решили, что пойдем подавать заявление, когда я выпишусь из больницы. Потом… потом эта тема всплывала все реже и реже. Я Светку понимал. Терпение человеческое не безгранично. Сначала у нее еще была, видимо, надежда, что надо только подождать – и все вернется, все будет по-прежнему. Но время шло, врачи разводили руками, я психовал и срывался все чаще, и конца этому не виделось. Стала срываться и она; потом, правда, приходила и просила прощения… или я звонил, когда отпускала боль, каялся и говорил «ну ты же понимаешь». Она-то понимала. Но понимал и я.
В этот раз мы полаялись особенно крупно. Светка обозвала меня шизиком и тряпкой, психанула и хлопнула дверью, я разбил пару тарелок (кстати, я понял теперь, почему женщины бьют тарелки. Потрясающий эффект! Штук пять разобьешь – и снова солнышко светит). Солнышко, впрочем, не светило – дело двигалось к полуночи. Я сожрал сразу пять таблеток анальгина, залакировал это все остатками красного полусухого (полрюмки, больше спиртного в доме не нашлось) и даже вроде бы успокоился. А потом, глядя на черные окна, подумал – как-то очень спокойно – что, наверное, пока заканчивать эту комедию. Вряд ли что-то изменится в лучшую сторону, а ждать, когда я окончательно чокнусь или начну спиваться, не в силах выносить боль – зачем? Хемингуэй, помнится, сам ушел – и чем я хуже?
В самом деле, нужна ли кому-нибудь моя жизнь настолько, чтобы продолжать терпеть это все? Родителям? Мама давно умерла, а отец был счастливо женат второй раз; с мачехой мы вполне ладили, и я знал, что отец не останется один в старости. Светке? Ей без меня будет лучше; да, она погорюет, но потом найдет себе другого, не калеку и не такого дурака, как я. Детей у нас нет. Издательству? Оно-то уж точно переживет. И даже кота нет, а значит, нет и проблем, кому оставить животное.
Мы жили на втором этаже, так что вариант «шагнуть в окно» меня не устраивал – снова в травматологию не хотелось. Вешаться было как-то… не того. К тому же, я не помнил, есть ли в доме достаточно крепкая веревка. Но помнил зато, что Светка недавно покупала мне феназепам. Я доплелся до кухни, пристроил костыли к углу стола и стал шарить в ящике с лекарствами. Вот оно! И упаковка едва начата – я только одну таблетку успел выпить. Вот и прекрасно.
Потом я подумал, что, наверное, надо вымыться и надеть чистое белье, прежде чем… Но каждое движение вызывало такую боль в спине и ногах, что сама мысль о том, чтобы дойти до ванной, вызывала тошноту. Я ограничился тем, что сполоснул кружку из-под чая, прежде чем налить в нее воду. На неубранном после ужина столе стояли вперемешку тарелки, кружки с остатками чая, хлебница с уже подсохшим хлебом, сахарница и солонка. Я брезгливо смел крошки с края стола и стал по одной выщелкивать таблетки из облаток. Всего набралось двадцать девять штук. Надеюсь, мне хватит.
Наверное, надо написать записку – что-то вроде «в моей смерти прошу никого не винить». Но за бумагой нужно тащиться в комнату, а мне больно. Ладно, надеюсь, поймут и так. Светка точно поймет, а остальное мне не важно.
Я сложил таблетки аккуратной горкой и огляделся. Тихо тикали часы над столом – наша со Светкой первая совместная покупка. За окнами глухо чернела ночь, в голове было тихо и темно, как в могиле. Я опустился на табурет, пальцами разровнял горку, выложил таблетки цепочкой. Длинная получилась цепочка, как раз до большой крошки рядом с моей тарелкой. Локтем я сдвинул тарелку в сторону. Ну что, поехали?
– Не смей.
Негромкий голос прозвучал в тишине кухни так дико, что я аж подскочил на стуле, перепугавшись мало не до инфаркта. Охнул от боли в спине и оглянулся.
Он стоял в углу у раковины и насмешливо смотрел на меня. Высокий, в черном походном костюме и пыльных сапогах, к поясу кинжал привешен. На безымянном пальце – кольцо с крупным рубином. С этим кольцом я долго мучился, все придумывал историю позатейливее, родовое проклятие там, и все такое… Я даже не подумал, что сошел с ума, раз уж персонаж собственной книги, к тому же недописанной, так вот явился. Перед смертью-то, наверное, чего не привидится?
…Еще с прежних, до аварии, времен висела у меня, наполовину написанная, крупная вещь – роман о приключениях французского раздолбая-дворянина…. ну, что-то вроде «Трех мушкетеров», только в одиночном варианте и слегка на современный лад. Вещь задумывалась как небольшая повесть, но потом разрослась до двухтомника, а герои вели себя странно: сюжет то пробуксовывал, как старая лошадь, то мчался лихим галопом, только не совсем туда, куда нужно. Вернее, совсем не туда. Не счесть, сколько раз вспоминал я Пушкина с этим его «какую штуку удрала моя Татьяна – взяла и выскочила замуж». Я первый раз за всю свою писательскую карьеру понял, что это означает. Мой «Татьяна» – виконт Рауль Антуан Дерринэ – замуж пока не собирался, но во всем остальном вел себя ну совсем непотребно: отказывался скакать туда, куда требовалось по сюжету (текст вставал мертво и не двигался, пока я не удалял целые куски), заводил какие-то новые знакомства (третьестепенные, на два абзаца, герои могли разрастись до почти-главных) имел наглость со мной спорить (честно – во сне пару раз приснился), а иногда просто уходил и молчал месяцами, и на мои попытки придумать очередное приключение то летел к чертям жесткий диск компьютера, то, написанные от руки, терялись целые главы. Честное слово, я, уже раскрученный и сложившийся автор, порой ощущал себя зеленым новичком в писательском деле; ни разу за пять лет собственный текст так надо мной не издевался. Но первый том был уже написан, издательством одобрен – и все ждали теперь окончания второго. Мне же чем дальше, тем отчетливее становилось ясно, что ждать им теперь придется долго.
Надо сказать, что виконт Рауль несколько раз стучался в голову уже после аварии. Я даже записал несколько эпизодов, едва смог удерживать карандаш, а бумагу мне принесла в больницу Светка. Но на этом дело и застопорилось. Потом я попытался сесть за роман уже дома, но… Нет, я не оправдываюсь. Но когда болит, мысли все лишь об одном – чтобы это закончилось. А промежутки между приступами боли бывали очень редкими. И, будем честны, когда они случались, думал я совсем не о «своем» Рауле. А в первую очередь о Светке…
…а теперь виконт Рауль Антуан Дерринэ, французский дворянин, живший несколько сотен лет назад (да и живший ли вообще?), мягко шагнул ко мне, выдернул из моих ослабевших пальцев кружку с водой, аккуратно, но быстро поставил ее на стол. Одним махом сгреб таблетки в угол стола, подальше.
– Больше ничего умного не придумал? – спросил он спокойно.
– Пошел вон, – глухо ответил я и закрыл лицо ладонями.
Рауль придвинул табурет и сел. Длинными пальцами провел по столешнице, сметая рассыпанные хлебные крошки.
– Уходи, – повторил я. Мне вдруг стало все равно.
Вместо ответа он опять встал. Размахнулся…
Ббац! – и я ощутил звенящую боль в правом ухе. Ошалело помотал головой, охнул. Рауль с преувеличенной осторожностью подул на пальцы, размахнулся слева… я едва успел перехватить его руку.
– Очухался? – поинтересовался он, не делая попыток вырваться.
Я выпустил его запястье, поморгал.
– Д-да… Ты… ты что, охренел?!
В ухе все еще звенело. Но звон этот разбил, развалил на куски мертвую тишину, царившую в моей голове.
– А теперь выкинь эту дрянь к чертовой матери и давай поговорим. Иди умойся. Шевелись ты, черт бы тебя побрал!
Я потер ухо, усмехнулся. Надо же… оплеуха от призрака. Кто бы мог подумать, что это окажется так эффективно? Я встал, подошел к раковине, сунул голову под кран…
Пока я отфыркивался, вытирался несвежим кухонным полотенцем и стаскивал с себя мокрую майку, Рауль отцепил от пояса фляжку, налил из нее в чайные кружки что-то, пахнущее спиртом, поставил на стол чашку с печеньем и даже клеенку успел протереть. Двигался он уверенно, словно дома, и я поймал себя на том, что украдкой рассматриваю его, точно девицу.
Надо же… я ведь никогда не видел его «вживую». И совсем другим представлял и описывал; в романе у него черные волосы, а он, оказывается, русоголовый, и глаза больше, и выше он, чем я видел. Черт, да что я говорю – я вообще не мог видеть его вживую, это чушь, я с ума, верно, все же сошел и надо вызывать «Скорую»… Или каким-то образом допился до белой горячки – собственные придуманные герои являются. Но он был, он двигался, задевал ногой табурет, отжимал под краном мокрую тряпку и звенел чашками, он был реальным, и когда я нечаянно задел его плечом – в тесной кухне было не развернуться, – то почувствовал сквозь камзол тепло его тела.
К тому времени, как оба мы снова сели к столу, я уже перестал удивляться. В конце концов, не все ли равно, мало ли чудес бывает на свете.
Я отхлебнул из кружки. Вино. Белое. Да какое вкусное-то; настоящее французское, что ли? Спина и нога болели нестерпимо.
Рауль повертел в руках и поставил на стол нетронутой свою кружку, посмотрел на меня.
– Успокоился? – спросил негромко.
Этого хватило, чтобы во мне колыхнулось раздражение.
– Какое тебе дело? – зло спросил я, отодвигая кружку. – Кой черт тебя принес? Почему все вы лезете в мою жизнь?!
– Потому что она – жизнь, – спокойно ответил он. Взял Светкину вилку, погладил зубчики.
– И что? Это причина, чтобы цепляться за нее, если я не желаю этого?!
– Этого не желаешь не ты, а твоя слабость, – так же спокойно ответил Рауль.
– Вы, умные! – взорвался я и вскочил, и взвыл от боли. – Идите нах…! Кому я нужен такой и зачем?!
– Тебе сказать, кому ты нужен? – прищурился он.
Я вмиг остыл.
– Светка взрослая, – буркнул я, осторожно садясь. – Она проживет и без меня.
Рауль положил вилку. С интересом оглядел солонку, тронул ее длинными пальцами.
– А я? – поинтересовался он.
– Ты… А тебя, между прочим, вообще нет! Я тебя придумал, понял? Так что катись отсюда и…
– Вот именно, ты. Ты придумал. И как я буду… такой… недоделанный? – он фыркнул.
– Пошел ты! – снова взъярился я. – Ты ненастоящий! А я… думаешь, я от хорошей жизни? Ты хоть знаешь, что такое боль? Постоянная, не прекращающаяся ни на минуту!
…Да, была боль. Все было: восемь месяцев в «травме», четыре операции, протертые фрукты и соки, которые приносила Светка, уколы, капельницы, «самолет» (не тот, на котором летают, а конструкция такая, травматологи знают). Приговор врачей был довольно утешительным – меня выписали с костылями, а со временем, как обещали, я буду только лишь чуть хромать. Если все пойдет хорошо, конечно. Я верил. Я долго верил. Но минул почти год, а костыли никуда не делись.
Никуда не делась и боль. Болело все, что могло и не могло; потом к боли в спине и ногах прибавились «просаженные» лекарствами желудок и печень; потом организм, видимо, отпустил тормоза, и одно воспаление пошло за другим. Я, никогда в жизни не знавший, где находится почки, а где селезенка, теперь мог давать советы бабкам, где чего болит и что чем лечить. За семь месяцев, прошедшие после моей выписки из «травмы», я отлежал в больницах еще три раза. Ящик в кухонном шкафу не закрывался, набитый лекарствами, на тумбочке у кровати выстроилась батарея обезболивающих, а конца этому не было, не было, не было… Врачи пожимали плечами и говорили, что сроки реабилитации давно минули, а я по-прежнему не мог пройти и сотни метров.
Я не жалуюсь, просто пытаюсь объяснить… А с другой стороны – тем, кто это испытал, говорить ничего не надо. А всем остальным хоть заобъясняйся – все равно не поймут. Сколько раз я слышал от друзей и доброжелателей советы в духе «ты должен взять себя в руки, все зависит от настроя, ты же мужик, не должен сдаваться»… По первому разу такие речи хороши. А по сто двадцать пятому вызывают желание врезать произносящему их чем-нибудь тяжелым.
Нет, я старался, конечно. Делал гимнастику, пил таблетки и витамины, старался как можно больше гулять… Все, как советовали врачи. И к психологам ходил, когда понял, что скатываюсь в отчаяние. Думал о Светке, которая возилась со мной дни и ночи; которая ходила за мной, как за маленьким, когда я был лежачим, кормила и переодевала, помогала умыться; которая, когда врачи сказали ей, что у меня посттравматическая депрессия, устраивала ужины при свечах и то и дело говорила мне всякие нежности. Я все-таки люблю ее… Не помогало.
По совету психологов думал и о том, что я богат и успешен… был успешным. От этой мысли хотелось выть. Калека. Безработный. Нет, сбережения у меня были, конечно. И я понимал – умом – что голова у меня работает по-прежнему, и опыт не пропьешь, а значит, я буду писать, но… за полтора года, прошедшие с момента аварии, я не написал почти ничего. Не мог. А ведь это было прежде моей жизнью, моим Делом. Издательство, сначала живо интересовавшееся моим состоянием и подбадривавшее, теперь ушло в тину. Я понимал, что надо переломить себя, что люди и на инвалидном кресле живут, и – не мог. Все усилия уходили в песок.
И вот теперь – этот… еще один утешитель, тоже мне!
– …ты хоть знаешь, – меня трясло от злости, – как это – когда сдохнуть хочется?! Когда воешь от боли, когда смерть к себе зовешь, а она не идет, и… Ты это знаешь?
– Знаю, – спокойно ответил он. И поднял рукав…
И я заткнулся, потому что вспомнил. Вспомнил, как заставил его умирать от жажды и пыток в королевской тюрьме, куда Рауль попал по ложному доносу. Как, когда нужно было для сюжета, едва не отправил на тот свет – чтобы потом он влюбился в молоденькую дочку лесника, которая выхаживала его после тяжелого ранения. Как… и, кстати говоря, шрамы на руках, которые он показал мне, были на его теле далеко не единственным. Надо же… а я ведь совсем не думал, что ему тоже могло быть больно.
– Ну и что, – буркнул я, сгорбившись и пряча глаза. – Скажешь, я ради своей прихоти это делал? Так надо было!
Рауль усмехнулся краешком губ.
– Если я смог выдержать это и остаться человеком, почему этого не сможешь ты? – спросил он, аккуратно опуская рукав.
Я молчал.
– Или ты думаешь, что мы с тобой сделаны из разного теста?
Я поднял голову и посмотрел на него.
– У тебя все кончилось хорошо, – медленно проговорил я. – Ты это пережил – и все кончилось. И боль кончилась тоже. А моя боль не кончится никогда. Я больше не могу…
– Вспомни, – так же медленно сказал он, – когда я умирал в той хижине… помнишь, как ты послал мне ангела? Он сказал мне, что я нужен на земле. И должен вернуться. И я вернулся – твоей властью. А я ведь этого не хотел. Так же, как ты сейчас.
– У тебя все кончилось, – повторил я. – А у меня… – горло перехватило.
– И у тебя кончится.
– Я был твоим автором. Я не мог бросить тебя умирать, и ты это знаешь.
– Но ты бросил других. Маргариту, моего отца, капитана Д’Эсвиля…
– Но тебя – нет. А меня некому остановить… и некому сказать, что все это кончится!
Рауль посмотрел на меня – и улыбнулся.
– Есть, – ответил он.
– В смысле?
– У тебя тоже есть свой автор.
Я засмеялся – так нелепо это прозвучало.
– Да ну? И кто же это?
– А ты догадайся, – спокойно сказал он.
Я молчал несколько секунд.
– Не мели ерунду. Я не верю ни в Бога, ни в черта, ни в какие другие силы.
– А Ему это безразлично, – ответил Рауль. – Главное, что Он в тебя верит.
– И ты еще скажешь мне, что все кончится хорошо?
Он посмотрел на меня, как на ребенка.
– Конечно, – сказал в ответ.
Отодвинул валяющуюся на столе упаковку, ссыпал себе в карман аккуратную кучку таблеток. И пропал в единый миг – только колыхнулась, будто от сквозняка, на окошке штора.
Я посмотрел в пустоту. Пожал плечами, выхлебал одним глотком остатки вина из своей кружки. И опустил голову на руки…
…Скрежет ключа в замке заставил меня дернуться и охнуть от боли в затекшей спине и руках. Я поднял голову и зажмурился от бьющего в окна солнца. Тихо тикали часы, в прихожей стояла моя Светка – растрепанная, зареванная – и смотрела на меня.
А я смотрел на нее. И так мы молчали, как два дурака, минуту или две.
Потом она подошла и села на соседний табурет. Повертела в руках пустую упаковку из-под феназепама, бросила на стол. Сказала негромко:
– У нас будет ребенок…
Я придвинул к себе кружку. Облизал пересохшие губы, глотнул. Французское белое вино было удивительно вкусным.
24.02.2012.
Надежа
В ноябре светает поздно. Стылый рассвет в ноябре прокрадывается в город незаметно, словно боится показаться на глаза людям. Антон Сумароков не любил ноябрь. Этот месяц обычно бывал для него неудачным.
Сумароков проснулся еще затемно. Долго лежал, слушая, как оживает огромный дом, как одна за другой хлопают двери квартир соседей. Потом хлопнула и его дверь – Люба ушла в аптеку. Она всегда ходила пораньше, чтобы успеть до работы отстоять очередь и отметить рецепт. По вечерам народу бывало больше, и тогда Люба не успевала забежать в магазин за продуктами. Сумароков не решался признаться себе, с каким нетерпением он ждет звука ее легких шагов в подъезде. Он ждал ее возвращения. Он ждал того, что она должна принести ему.
Чернота за окнами постепенно серела. Дом затих – все, кому нужно было на работу, уже ушли. Сумароков лежал, прислушиваясь, и думал, почему Люба так задерживается. Она ведь может опоздать на работу. Он рассматривал геометрический узор на обоях и вспоминал, как ранней весной они с Любой возвращались с работы уже в темноте, и в сквере под окнами мимо них с хохотом промчалась стайка полупьяных подростков, почти детей. Люба сильно испугалась тогда. Что, если и сейчас с ней что-то случилось?
Уже совсем рассвело, уже по стенам пополз светло-розовый луч, когда щелкнул ключ в замке. Сумароков приподнялся на локте и позвал жену. Милый певучий голос ответил ему из прихожей.
– Ты знаешь, Антошка, там такая очередь. Говорят, перебои с поставками. Народу… давка… ужас! Со вчерашнего дня, говорят, не выдают. Я еле-еле достояла.



