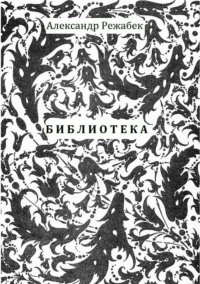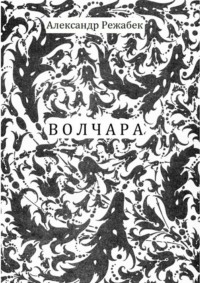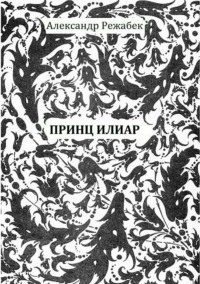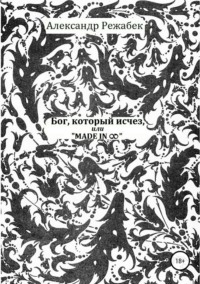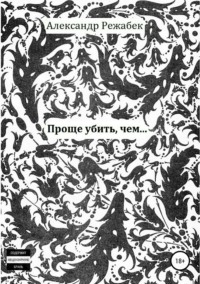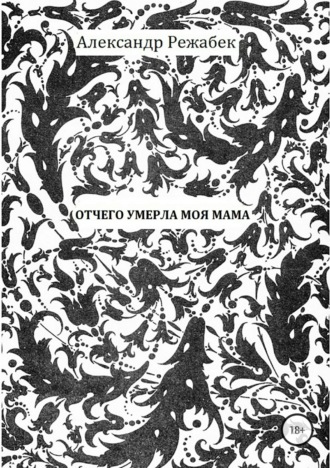 полная версия
полная версияОтчего умерла моя мама
Абсцессы печени – штука редкая. А уж такие, которые развиваются как осложнение воспаления желчного пузыря в наши дни не встречаются практически вообще, потому что холециститы диагностируются и лечатся так же легко, как насморк. Мама, по-видимому, оказалась таким редким случаем. И было это результатом нескольких факторов: 1) клиника острого калькулезного холецистита была затушевана общим плохим состоянием, вызванным душевной травмой, нанесенной, Катя, твоим произведением, 2) симптомы были неправильно интерпретированы как самой мамой, так и пошедшими у нее на поводу врачами, и 3) следствием вышеизложенного было то, что холецистит был диагностирован поздно и успел привести к развитию абсцесса печени.
Но операция была сделана успешно, и мама пошла было на поправку, но не совсем. В течение всего послеоперационного периода у нее продолжались подскоки температуры, что говорило о «тлеющей» инфекции, но антибиотики она не получала. Точнее, получала, да не те. Хирургами, великолепно выполнившими свою хирургическую часть, абсцесс был, с моей точки зрения, неправильно расценен как паразитарный, т. е. вызванный возбудителем, вообще не встречающимся ни в Москве, ни в центральной России, в связи с чем был назначен соответствующий антибиотик, который не действует на микроорганизмы, характерные для острого холецистита. Скрытая инфекция продолжала развиваться и дала о себе знать в день смерти, когда у мамы произошел сосудистый коллапс.
Мама умерла не от сердечной недостаточности, а от септического шока, приведшего к сердечной недостаточности. Если бы мама не была выбита из колеи и не чувствовала себя плохо из-за твоего, Катя, произведения, холецистит мог бы быть диагностирован и пролечен вовремя, и всех остальных последствий, вероятно, можно было бы избежать. Обвинять тебя, Катя, в маминой смерти бессмысленно. Это – как падение в пропасть, но ты маму туда не толкала. Но, уверен, что подвела к краю именно ты.
А. Режабек, брат-алкоголик
P.S. Катя, когда в следующий раз будешь что-нибудь писать, делай это осторожнее, а то может случиться конфуз. Зачем ты так подвела собственного мужа? Мне-то в принципе твой Евгений безразличен так же, как и народ Гондураса, потому что совершенно не знаком. Единственное, что могу сказать на основании переписки с ним, это то, что по манере письма он – напыщенный индюк, хотя по жизни, может, и мать Тереза. Но все-таки: зачем ты, Катя, всему миру заявила, что мама прозвала его Швондером? Он теперь так для всех и останется в памяти Швондером, а ты – Катей Швондер. Зря ты полезла в эту тему и даже стала намекать, что Галина Щербакова стала антисемиткой. Это моя-то мама, у которой в Израиле растут три обрезанных внука? И что плохого ты увидела в Швондере? В «Собачьем сердце» он вообще фигура малозначительная. Вот если бы мама стала называть его, подобно другому герою произведения Булгакова, Полиграф Полиграфычем, намекая на издательскую деятельность Евгения, тогда бы я не сомневался, что это действительно выпад против твоего мужика. А так Швондер – он Швондер и есть.
2010
Девочка
День начинался погано. Я должен был идти на лекцию нудного профессора, который и лектор был никакой. Видимо, он это понимал и просто терроризировал студентов в аудитории. «Перестаньте шептаться». «Повторите, что я сейчас сказал». А потом требовал сдачи экзамена на основе конспектов его лекций.
Пропустить эту пару было не сложно. Конспекты всегда можно достать. Но было худшее зло: семинар, на который я бы предпочел не ходить. Я немножко запустил учебу и, честно говоря, понятия не имел, о чем на нем пойдет речь. А выглядеть дураком очень не хотелось, а потом еще и ходить на так называемую «отработку».
И вдруг фортуна улыбнулась мне. Я увидел маленькое объявление о дне донора. Это же решение проблемы. Студент, сдавший кровь, освобождается от занятий и получает талон на бесплатный обед.
Но было маленькое «но». Я, выпускник, шестикурсник медицинского института, который не боялся разложенных трупов, спокойно стоял на операциях, падал снопиком в обморок, когда у меня брали кровь. Я пытался закалять характер, несколько раз был донором, но результат был один и тот же. Я находил себя на полу.
Передо мной была дилемма. Идти и со скукой провести этот день? Или полежать пару минут в обмороке?
Я выбрал обморок.
Я сидел в очереди на сдачу крови. Вокруг вертелись первокурсницы, делая вид, что чем-то занимаются. Их одели во все стерильное, надели хирургические маски. Девочки должны были почувствовать свою важность.
И вдруг я увидел глаза. Не знаю, как это произошло, но я понял, что на этих глазах хочу жениться.
Дальше все прошло, как обычно. Я сдал кровь и в конце бухнулся в обморок. Потом минут пять, довольный, посидел в коридоре. Я своего добился.
Я мог спокойно ехать домой, но почему-то задержался.
Не знаю, как сейчас выглядит главный корпус института имени Пирогова, а тогда это было дореволюционное достаточно помпезное здание с широченной лестницей в холле, по которой, не задевая друг друга, в ряд могли проходить минимум пятеро.
Я стоял внизу. Мимо меня следовали знакомые парни и хлопали по плечу.
– Идешь на семинар? – спрашивали они.
– Халява, парни, – отвечал я и показывал талончик о сдаче крови.
Похоже, в тот день семинар не состоялся.
Но неожиданно по лестнице навстречу мне спустились… глаза. Они находились на прелестном личике, а к нему была еще приставлена изящная фигурка.
Я обмер. У меня с девушками всегда была одна проблема. Я не умею с ними знакомиться. Но она первой обратилась ко мне:
– Вы себя лучше чувствуете?
Мне по фигу был обморок, но, как мужчине, было не очень приятно. Подумайте сами, парень отключился от укола.
Я что-то глупо заблеял и не нашел ничего лучшего, как предложить ей свой талон на бесплатный обед. Та, естественно, отказалась.
А я вдруг подумал: сейчас или никогда. И попросил номер телефона. Не понимаю, как это произошло, но я его получил, хотя видел, как она сомневается.
Прошло не так уж мало времени, прежде чем я рискнул позвонить. Я снова что-то бекал-мекал, хотя в итоге предложил встретиться. И, к моему удивлению, девочка согласилась. Мы договорились встретиться на станции метро Белорусская.
Но у каждого свое счастье.
Была холодная осень. Все ходили закутавшись.
Я пришел минут за десять до назначенного времени. На соседней скамейке, метрах в пяти, сидела молодая, нахлобучившая на себя кучу теплых одежек женщина. Ее лица я не видел, а она не смотрела на меня.
Я прождал час и ушел. Понял, что шансов уже нет. Минут за пятнадцать до этого ушла и женщина. Она тоже, видимо, кого-то не дождалась.
Я не хотел звонить самой желанной девочке моей мечты. Но все же позвонил.
– Почему ты не пришла? – спросил я.
Она возмутилась.
– Да я тебя сорок минут прождала в метро.
Мы, сидя рядом на разных скамейках, не узнали друг друга.
Я, ужасно боясь отказа, снова предложил встретиться, и, странная вещь, она опять согласилась. Теперь мы долго и нудно обговаривали, как друг друга узнаем.
И мы встретились.
Я, а это не все понимают, ужасно застенчивый. Но первое, что я сделал, когда мы ехали в метро, предложил ей выйти за меня замуж. Ей всего-то было 18 лет, и видела она меня минут двадцать.
Ее глаза удивленно округлились. Она ушла от ответа.
Я не из богатой семьи, а какие могут быть доходы у студента? Я водил ее в кино. Иногда в кафе. Но дальше этого ни в чем не продвигался. Я знал, где она живет, но никогда не был у нее дома. На 8 марта я подарил ей тюльпаны.
Эта была типичная для меня ситуация. Ни тпру ни ну. В какой-то момент я решил все бросить.
Время, о котором рассказываю, называлось то ли развитым, то ли зрелым социализмом.
Многие студенты тогда увлекались тем, что называлось КСП, клуб самодеятельной песни. Это то, что начинали Окуджава, Галич, Визбор, Высоцкий и т. п., в песнях которых некоторые правительственные учреждения узревали протест против власти.
Эти люди умерли. Но зато вдруг запели все. Не пел и не придумывал песни только ленивый.
Только эти песни были про дырочку в правом боку. Про ежика, или еще кого-то. И правительственные органы совершенно резонно решили спустить молодежь с поводка и дать ей попеть. И отдали это дело под эгиду комсомолу.
Моя девочка тоже увлеклась этим и несколько раз водила меня на встречи каэспэшников. Одни пели хорошо, другие плохо. Я не мог в этом поучаствовать. Я приходил ради девочки. А если бы запел, то в радиусе 40 километров завыли бы все собаки.
Я терпел эти вечера как наказание. Хотя, по сути, это просто был вариант молодежной тусовки того времени.
Была уже весна, когда один мой приятель сказал, что организовывается всесоюзный слет КСП, и не хочу ли я на него пойти. Я стал отнекиваться. Но случайно выяснил, что девочка тоже на него идет, и в итоге согласился.
Надо понимать тогдашнюю нашу жизнь. Я не знаю подробностей процедуры, но были выделены официальные делегаты от институтов. Так называемые лучшие из лучших. Мы же с другом пошли на слет вольными казаками. Договорились, что я беру водку, а приятель жрачку.
Не знаю, какой идиот выбрал место для слета, но до него надо было несколько часов ехать на электричке, а потом семнадцать километров шлепать пешком. Может, несмотря ни на что, боялись студенческих беспорядков. Но в итоге мы дошлепали.
Мама дорогая. Было ощущение, что мы попали в развернутый полевой гарнизон. Симметрично, с геометрической точностью стояли ряды одинаковых брезентовых палаток. В середине высился купол большой палатки, медпункта.
Мы нашли ребят из нашего института, а я увидел девочку, которая довольно холодно со мной поговорила. Не судьба, подумал я.
Как потом выяснилось, она приехала туда с другим мальчиком моего возраста. По планам ее родителей он был завидным претендентом на ее руку. Он был из семьи дипломатов и вскоре должен был уехать на работу в консульство в Сирию.
Ну, не судьба значит не судьба. И мы с приятелем спросили своих сокурсников, где нам поставить отличавшуюся от остальных палатку.
Не тут-то было. Подошел какой-то придурок и сказал, что мы не значимся в списках. О'кей, не значимся, так не значимся. Мы отошли метров на сто и разбили свой оппозиционный лагерь. Разожгли костер, что-то перекусили, выпили водки.
Наступил вечер. Мы решили посмотреть, что же творится на пресловутом слете.
Русские пословицы умные. Например, заставь дурака молиться, он себе лоб расшибет. Между палатками торжественно стройными рядами ходило факельное шествие, а его участники надрывно пели хором:
– Под музыку Вивальди, Вивальди, печалиться давайте, давайте…
Да печальтесь хоть до послезавтра, если делать нечего.
Мы походили между палатками. Кое-где все-таки сидели нормальные ребята и пели под гитару. И совсем неплохо. Но и это нам быстро надоело. И мы пошли в медпункт. Там сидела хорошая девчонка с параллельного потока. И оторва. Мы не очень хорошо ее знали, но почему бы не потрепаться? Но вдруг появился какой-то комсомольский хмырь и начал спрашивать, кто мы такие.
Я вижу, друг собирается рассказать все, как есть. А у меня бывают закидоны.
– Слушай ты, канделябр с ушами, – спокойно заявляю я, – мы местные, деревенские. Хочешь, я сейчас всех парней сюда приведу?
Комсомольца как ветром сдуло.
Глядим, и девчонки нет. Однако нашли. Сидит в темном углу палатки и, извините, уссыкается от смеха. Она-то знала, какие мы деревенские.
И мы, похоже, получили негласный «карт бланш» гулять, где хотим. Вот и таскались туда-сюда, в легкую задирая народ.
В конце концов, это «первомайское» мероприятие стало сходить на нет. Люди начали расходиться по палаткам. И нам тоже было пора идти восвояси. Но мы не учли одну вещь. Наш костер в тумане не светил, а искры не гасли на ветру. Он просто погас. Если в лагере было освещение, то наша палатка стояла где-то в кромешной тьме. И мы еще нахлебались, пока ее нашли. На новый костер у нас настроения не было, и мы просто кое-как упаковались в спальные мешки.
Ночи были холодные, и утром мы проснулись, стуча зубами. Я спросил:
– Будем дальше тусоваться, или на фиг?
Тот удивленно на меня посмотрел. Слет был рассчитан еще на два дня.
– Конечно, на фиг. Я же не думал, что так будет. Тоже мне устроили пионерский лагерь усиленного режима.
Мы съели какие-то гадкие консервы и собрали манатки. Хотя я и был обижен, но перед уходом все-таки зашел к девочке. Сказал ей «до свидания», хотя поначалу намеревался сказать «прощай». Обменялись парой нейтральных фраз, и мы с другом потопали семнадцать километров обратно до станции.
Уже в электричке мы стали подводить баланс удовольствия и досады от путешествия и поняли, что оба – мазохисты.
Девочке я перестал звонить. Сколько можно. У нее есть свой мальчик, и пусть с ним ей будет хорошо.
Но жизнь противоречива. Все часто происходит наоборот. Она позвонила сама. Она была не дура и понимала, что я, который не любит КСП, прошел в сумме 34 километра, только чтобы повидать ее. А с будущим консулом она вусмерть разругалась. Причин не знаю, ибо не люблю лишние вопросы.
С тех пор наши отношения начали теплеть.
Я познакомился с ее строгими папой и мамой и с еще более строгой и волевой бабушкой по папиной линии. Я съездил в гости в загородный дом к ее добрейшим бабушке и дедушке по линии мамы. У нее, оказалось, была еще и младшая сестричка. Смешливая и симпатичная девчушка. Но всегда ужасно плакала, когда мы с девочкой обыгрывали ее в подкидного дурака. Тоже, на самом деле, два героя-умника, справившихся с семилетним ребенком…
Родители девочки за нашими отношениями наблюдали достаточно спокойно. Я думаю, они верили, и справедливо, в то, что дочь достаточно хорошо воспитана и умна, чтобы не влезть в неприятности. За нами, конечно же, присматривали, но не сильно.
А я продолжал ей капать на мозги, чтобы выходила за меня замуж. Она вешала мне на уши лапшу, мол, что ей только 18 и она начала учиться. Видимо то, что насвистела мама или бабушка. Но я продолжал настаивать. И со временем сопротивление начало ослабевать. Крепость пала. Однажды она сказала:
– Я согласна, но при условии.
Я сделал заинтересованное лицо.
– Я должна закончить институт.
В моей голове по странной аналогии мелькнула нелепая фраза: «Статья такая-то уголовного кодекса об условном заключении с испытательным сроком в 5 лет».
Но совершенно спокойно согласился. Девочка хуже меня знала русские пословицы. Например: коготок увяз – птичке конец. Птичка попалась. Через месяц мы подали заявление в загс.
По странному стечению обстоятельств я скрывал девочку от родителей, но, когда заявление уже было подано, мне стало неудобно. И я повез девочку знакомиться. Отец был на работе, а мама дома. Но вышел конфуз.
Если помните, тогда в практике домохозяек были короткие соломенные веники, и женщине, чтобы подмести, нужно было хорошо наклониться, подняв заднюю часть.
Окрыленный, я влетел в квартиру.
Мама спокойно мела что-то с коврика в коридоре спиной к нам. И я, счастливый остолоп, не нашел ничего лучшего, как сказать, обращаясь к попе:
– Мама! Познакомься. Это – девочка, на которой я женюсь.
Если мне не расшибли голову веником, то это чистая случайность.
А дальше произошла встреча на Эльбе. Переговоры титанов, моих и ее родителей.
С моими было просто. Девочка им понравилась, а мне было уже 23 года. Большинство друзей переженились. А я закончил институт и знал, где буду работать. В общем, грубо говоря, им было «по барабану». Может, стало бы только легче от того, что я создаю свою семью. У меня тоже была младшая сестра, которой тогда было пятнадцать. Проблемный возраст, когда дети начинают бороться за независимость, а за ними, наоборот, нужно присматривать. Так лучше за одним, чем за двумя.
Но с родителями девочки была проблема.
Они не были готовы. Представьте людей чуть больше сорока. В полном соку. Только совсем молодой человек думает, что они пожилые. У них полноценная самостоятельная жизнь. А тут юная дочь собирается выйти замуж. Та, с которой они всю жизнь сдували пылинки и очень гордились, когда она поступила в медицинский. Теперь ее учеба может полететь «под хвост». Или захочет завести ребенка, и тогда они обретут новый статус дедушки и бабушки. Не уверен, что каждый хочет стать дедушкой в сорок.
Но все обошлось мирно. Как я выяснил потом, мне помог «серый кардинал». Тот, кто на самом деле руководил семьей. Проголосовала «за» свекровь мамы девочки. Не знаю, чем я ей понравился, но она всегда хорошо ко мне относилась. Поэтому расскажу отдельную историю, не входящую в рамки этой. Бабушка с возрастом становилась все более сенильной4 и нуждающейся в уходе.
Как-то она спросила меня:
– Вы помните, как пленных немцев в 44-м году вели по Садовому кольцу?
А я родился в 57-м.
Мы все после этого долго посмеивались над этим, включая меня.
Но ведь я – доктор, и я задумался.
У сенильных людей в первую очередь путаются пласты памяти. Я знал многих пациентов, которые не узнавали детей и внуков. Они просто у них стерлись из памяти. А бабушка помнила мое имя, хотя знала меня не так уж много времени. Но в каком-то пласту я для нее остался. Так, может, то, что помнит, и есть самый лучший комплимент. Пусть лучше в 44 году, чем никогда.
А девочку я получил. Я женился на ней через месяц.
Я женат уже 25 лет. Она – мать моих детей.
И ни на кого ее не променяю.
2005
«Ученик чародея»
Все началось с Джуны Давиташвили, если вы помните или знаете, кто она такая. А она вряд ли меня помнит.
Это было лет 20 или 25 назад, когда я намеревался уйти из медицины. Но не мог, потому что это был постоянный заработок, и неплохой. Я начал подрабатывать в газете «Известия» и через нее попал к Джуне.
В традиционную медицину я уже мало верил.
Она тогда жила в хорошем доме рядом с Театром Вахтангова. Это скрывалось от публики, а услугами знаменитой целительницы пользовались многие высокопоставленные начальники, включая членов тогдашнего политбюро. А квартиру ей помог получить, кажется, Промыслов, председатель Моссовета.
Нетрадиционная медицина официально не признавалась. Но Джуна верила в то, что она делает, и огромное количество людей были ей благодарны.
Я, неимоверно стесняясь, вошел в ее дом, но все было не так, как я предполагал. Мне открыла дверь обаятельная грузинского вида женщина, а точнее – ассирийка. В доме была куча людей. Дверь, похоже, вовсе не запиралась. Меня тут же попытались чем-то угостить. Я отказался и попросил разрешения просто понаблюдать за работой Джуны. Она много говорила по телефону и как будто ничего не делала, но в какие-то промежутки времени вдруг звала очередного человека и делала какие-то пассы. Я внимательно смотрел, хотя ничего не понимал и очень во всем сомневался. Она потрогала мои руки и сказала, что у меня очень сильная энергия.
Я стал учиться, но оказался «учеником чародея»: у меня все получалось наоборот. Ведь энергией нужно уметь управлять, а у меня человек, который приходил со стенокардией от моих пассов хватался за сердце. Жена как-то попросила снять ей приступ мигрени и чуть не хлопнулась в обморок.
Как-то я пришел к ней, и в это время ввалились иностранцы с переводчицей. Телевидение Люксембурга. Джуну на западе знали тогда лучше, чем в СССР. Им нужно было интервью. А ей, видимо, все это уже надоело. И она вдруг брякнула, показав на меня:
– Вот мой ученик. Поговорите с ним.
У меня отвалилась челюсть. Конечно, приятно, когда тебя снимают для иностранного телевидения. Но и идиотом себя чувствовать не хотелось. Я судорожно искал выход из положения и в итоге сообразил. Я сказал:
– Вы не слушайте, что она говорит. Я никакой не ученик. Я представитель КГБ и приставлен за ней присматривать.
Нужно помнить те времена. «Люксембург» мгновенно от меня отвалил. А Джуна укоризненно на меня посмотрела.
Вскоре я это занятие забросил, но все же однажды позвонил Джуне и поздравил ее с 8 марта. По-моему, ее это, к моему удивлению, тронуло. Ходил-то я к ней, может, всего месяца три.
В итоге я вернулся к своей обычной профессии.
А потом началось послабление с выездом за границу. Перестройка. И моего близкого друга по работе, который в служебной иерархии занимал более высокое положение, отправили в недолгую командировку в Камбоджу укреплять местную медицину. Тамошние кхмеры только что освободились от коммунистического диктатора Полпота, но все еще шла партизанская война.
В целом их государство тогда еще не отказалось от коммунистических идей и пускало в страну только представителей социалистического лагеря.
Мы загрузились коробками с какими-то лекарствами, благотворительной помощью и полетели. Как выяснилось, с нами были еще несколько женщин из института эпидемиологии.
Все-таки те времена были удивительными.
Мы с приятелем отправились заграницу в первый раз.
Полет в Камбоджу длинный. Где-то 18 часов. Самолет для дозаправки сделал остановку в Индии, в Бомбее. Пассажиров, как принято, попросили выйти, и мы, приехавшие из унылой, тогда уже горбачевской Москвы, оказались в сумеречно освещенном зале, который вдруг расцвел ярким светом. Мы попали в «дьюти-фри».
Наши глаза полезли из орбит. Чего там только не было. Услужливые индусы наперебой предлагали разные товары.
Но все было не так просто. Для нас это был просто музей. Мы могли только посмотреть. В том советском прошлом никто не удосужился дать нам хотя бы 10 долларов в дорогу. Просто на мороженое. Мы пускали слюни, но ничего купить не могли. Рубли были не в ходу.
В конце концов добрались до Пномпеня. Никто не встречал нас с цветами. А точнее, не встречал никто. Мы долго и тупо, начиная волноваться, сидели в аэропорту, если этот большой барак можно было так назвать. Наконец, с большим опозданием, приехала какая-то машина.
Встреча была вежливо равнодушной. Мы не были инспекционной комиссией. Мы, в принципе, вообще там никому не были нужны, но все же поселили нас в красивом месте. Представьте себе странного почти красного цвета реку, название которой я не помню и которая не вызывала желания в нее окунуться, а на ее берегу – деревянные домики, построенные в виде пагод, причем со всеми удобствами внутри. А вокруг тропическая, но ухоженная природа с пальмами, цветами и т. п. Просто рай.
Вы помните, как раньше ездили русские заграницу. Со своими консервами, кипятильниками, чаем. Мы были такими же. И поскольку не имели ни гроша, то это нас, голодных представителей великой державы, здорово выручило. Но через пару дней нам в консульстве выдали деньги на месяц из расчета 18 долларов в день. И к тому же за жилье платить было не нужно. То есть каждый получил по 540 долларов карманных денег. И мы для постполпотовской Камбоджи вдруг оказались очень состоятельными людьми. Если пересчитывать их местные деньги, реалы, в доллары, то средняя зарплата коренного жителя составляла в месяц только 4 бакса.
Мы прошли строгий инструктаж: как себя вести, куда можно ходить, а куда нет. В принципе, оказалось, что никуда, кроме больницы. Впрочем, нам показали рынок, где мы могли тратить деньги. Для поездок по городу за нами закрепили какой-то задрипанный джип.
Мы познакомились с колонией русских врачей, которая, как бы сейчас сказали, в качестве гуманитарной помощи обслуживала бывший французский гопиталь: Камбоджа в прошлом – колония Франции.
Русские врачи говорили на плохом французском, который знали многие кхмеры, а мы не понимали ни бельмеса.
Вскоре выяснилось, что мы со своей двухмесячной командировкой скорее крутимся под ногами и мешаем, чем помогаем: все прекрасно справлялись и без нас. Нам тогда было лет по 30, и мы были намного младше тех, кто там работал, хотя оба были кандидатами наук.
В результате, мы, может, пару раз что-то и сделали по профессии, а в сущности просто приходили в больницу отмечаться. Привезенные нами благотворительные лекарства украли на второй или третий день нашего пребывания. Но удостовериться, что они существуют, можно было еще долго. Напротив госпиталя стояли ряды лавочек, где продавали все, включая лекарства. И скоро мы увидели распакованные коробки с русскими надписями.
Не думаю, что это был прибыльный бизнес.
Вообще, я до сих пор не понимаю, зачем кхмеры госпитализировались. Они не принимали таблетки, которые им прописывали доктора. Они верили в свою народную медицину, и мы не сразу поняли, почему у некоторых больных три круглых синяка на лбу, а на животе следы ожогов. Кхмеры ставили «банки», как в России, но не на спину, а на лоб. Или прижигали живот. А порядочную кхмерскую женщину, чтобы осмотреть, вообще нельзя было уговорить раздеться. И мы, грубо говоря, работали как шаманы, не понимая, что происходит.