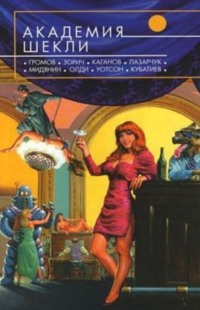Полная версия
Зверь с той стороны
– Ничего. Без дури нельзя, понял? – сказал он и с бульканьем отхлебнул из бутыл-ки. Вода побежала у него по подбородку. – Иди сюда, хватай кошака. Прижмёшь брю-хом к доске. Ну, шевелись, чё тормозишь?
Серый подошёл, двумя пальцами потрогал кошку и сказал:
– Блин, Клаус, ты не ругайся только. Я, короче, чё-то не могу. Прикинь, мне чё-то страхово так… Вообще шило! Ломы такие… Может, я пойду лучше? На фиг я тебе ну-жен?
Клаус со стуком поставил бутылку на стол, повернулся к нему и ожесточёно про-шипел:
– Ты, тупой! Как я без тебя гвозди забивать буду – одной рукой что ли? Давай хватай и держи! Если ссышь, глаза закрой. Баклан, твою мать! Ур-род!..
Серый вдруг почувствовал себя совсем крошечным – может, пятилетним, а может, и того меньше. Он, обмирая, поднял тёплое мягкое тельце, двинулся обратно к доске, держа его на вытянутых руках и поскуливая: «Клаус, слушай, чувак, давай бросим это дело, а? Всё равно же ни фига не получится. Давай лучше видик из учительской уведем, а? На фиг тебе это братство дурацкое, а?» Клаус, шумно дыша через рот, глядел на кошку бешено-восторженными глазами. Молоток в его руке мотался и дёргался, как живой.
Серый вздрогнул: пальцы припечатались к холодному текстолиту.
– Брюхом. К доске! – отчеканил Клаус. – Так. Лапы врозь. Зашибись!
Он размахнулся.
Удары смолкли. Серый, опустив глаза, чтобы не видеть того, что, слегка подёрги-ваясь, висело сейчас на классной доске, попятился, развернулся и почти бегом ушёл на «камчатку». Там он сел лицом к двери и сгорбился.
Клаус ополоснул руки, обтёр о штаны. Отхлебнул глоток воды, прополоскал гор-ло, сплюнул и раскрыл тетрадку.
Он начал монотонно нараспев читать, лишь изредка повышая тон – в конце фраз, а у Серого вдруг дико заломило во лбу и в затылке. Хоть вой. Замолчи, хотел крикнуть Серый. Заткнись, Клаус! Но язык наполовину вывалился наружу и болтался без толку, сухой, шершавый, как бумага. И всё-таки, всё-таки с него капало. С языка. Слюна. Или это сыпался песок? Серый поднялся и, пошатываясь, охая на каждом шагу – удары ступ-ней о пол, даже самые осторожные, отдавались новыми вспышками боли, – поплёлся к ставшей вдруг недостижимо далёкой двери.
Клаус читал:
– Птицы воздуха белые, птицы воздуха чёрные, птицы воздуха пёстры-е… Здесь ваше сердце! Здесь! Рыбы воды белые, рыбы воды чёрные, рыбы воды пёстры-е… Здесь ваше сердце! Здесь! Гады земли белые, гады земли чёрные, гады земли пёстры-е… Здесь ваше сердце! Здесь! Саламандры огня белые, саламандры огня чёрные, саламандры огня алы-е… Здесь ваше сердце! Здесь! Здесь!.. Листья воздуха живые, листья воздуха мёрт-вые, листья воздуха трепетны-е… Здесь ваши корни! Здесь! Струи воды живые…
Серому оставалось пройти совсем чуть-чуть, почти ничего – шаг, полшага, – ко-гда дверь рывком отдалилась. Серый разочарованно вскрикнул. Его обдало сладким воз-духом – прохладным, без душного тепла плавящегося стеарина. В возникшем на месте двери глубоком как колодец проёме стоял кто-то, серебристый от шеи до паха, и Лехи-ным голосом истошно вопил: Серый-серый-серый! А-а-а! Наверно, обеспокоено подумал Серый, это всё-таки брателло. Ветровка его и голос вроде его. Вот только что с ним слу-чилось? Вниз от блескучего кокона курточки брателлы Лёхи просто не было, а было что-то ветвящееся десятками тонких грязно-зелёных прутиков, пребывающих в беспрестан-ном движении. И вверх от курточки Лёхи не было тоже. Только крик. Се-ерый! Се-ерый! Серы-ы-ы… Брателло! Та-а-а-ам!
Серый сделал ещё один шаг, переступил границу кабинета… и сразу стало легче. Брат приобрёл нормальный вид – серебристая ветровка, камуфляжной расцветки широ-кие штаны, испуганная, но бесконечно родная рожа.
– Чё ты орешь? – встряхнул Серый Леху. – Чё, ну?!
– Там тетка. В окошке тетка. Большущая. Страшная. Бля, брателло, здесь же тре-тий этаж, как она могла, а? Брателло, надо сваливать!
– А ну, глянем, – сказал Серый. Ему было стыдно за себя («Чё я, дряни какой-то надышался у Клауса, что ли?», – думал он), и он желал реабилитироваться. Перед бра-том. А в первую очередь перед собой.
– Дурак, не ходи туда. Отсюда гляди. Вон, – махнул рукой Лёха. – Третье от нас окошко. Не, не – второе! С-с-сучка… Всё ещё тута!
Серый присмотрелся – и попятился. За стеклом маячило бледное, серо-свинцовое женское лицо, словно бы подсвеченное изнутри мертвенным, серым же. Огромные чер-нильные глаза, гладкие чёрные волосы, зеленовато мерцающие зубы. Просвечивающие сквозь кожу тонкого с небольшой горбинкой носа червеобразные каналы ноздрей. Виш-нево-чёрные губы – плоские, как раздавленные. Лицо, превосходящее размерами обыч-ное человеческое раза в два, то приближалось, растекалось по стеклу жирным пятном – и стекло делалось мутным, то отдалялось – и становилось видно колыхание рваных сизых тряпок, вырастающих из затылка и короткой, жестоко разодранной шеи. Худые ломаные пальцы без ногтей елозили по раме, отбивая неприятный ритм, созвучный с заклинания-ми Клауса, и плохо закрепленное стекло глухо дребезжало.
– Белая Баба, – выдохнул Серый. – Молитву читай, Богородицу!
– Богородица Дево, радуйся… – начал Лёха торопливо, но вдруг сбился: – Э, бра-телло, фиг там! Богородица – бесполезняк, отвечаю! Блин, это не Белая Баба! Она же на Троицу вылетает. А щас! До Троицы ещё… Это же дьяволица к Клаусу прилетела! – осе-нило его вдруг. – Тикать надо! – взвизгнул он.
Серый тоже читал Богородицу, укладывая на грудь один за другим размашистые двуперстые кресты, напрочь забыв о том, что ещё совсем недавно собирался приобщить-ся к богомерзкому промыслу. Но и до него уже стало доходить, что надёжнейшее средст-во прогнать пришелицу не помогает, а потому уговаривать его не пришлось. Он ринулся на дверь, запирающую лестницу, мощно протаранил её плечом раз, другой; проушина, на которой висел замок, вылетела, и братья понеслись вниз, перелетая через три ступени.
Вслед им неслось и неслось унылое:
– …угли огня жаркие, угли огня стылые, угли огня в прахе, в золе-е-е…
Дневник Антона Басарыги. 2 мая, пятница.
Отдыхаем, праздничаем. Теплынь стоит – непередаваемая. Родственники ещё по-утру отбыли в уезд. Повезли Машеньку глядеть кукольный спектакль. Гастролирует театр Образцова. Если это даже не «липа», думаю, приехал отнюдь не первый состав. Ну, да и это в нашей-то глуши удивительно – почти за гранью фэнтэзи. Ещё в культурной про-грамме мороженое, колесо обозрения и комната смеха. Я остался стеречь дом от цыган, которых понаехало, пускать скотину – когда она воротится с пастбища, и ждать Ольгу. Она сегодня на службе, у неё какой-то очередной финансовый отчет.
В начале месяца.
Надеюсь, это не означает прискорбного факта, что у меня проклёвываются рога.
Город наш уездный, где гостит театр кукол, зовется прелюбопытно: Сарацин-на-Саране. Сарана – река, Сарацин – незнамо кто. Хоть существовал в реальности и сказок о нём – уйма. С достоверными документами хуже. Скупо, мало, неправдоподобно. Версии краеведов о его этнических корнях расходятся. В народе любовью пользуется следующая легенда, официально подвергнутая остракизму и осмеянию за нагромождение хроноло-гических ляпсусов и идиоматических нелепиц:
(Воспроизвожу в собственной редакции.)
Сарацин, смуглый мавританский однорукий рыцарь с кривой саблей, приехал в здешние края при Царе Горохе и Царице Полянице из страны Гишпании, провинции Гранада, с конной полусотней чёрных лицом головорезов. На родине он был приближен-ным самого Абу Абдаллаха, но вызвал монарший гнев, окрестившись в православие и окрестив личную гвардию, гарем, а также любимого наложника Абы. Сарацин был уда-лец. Здешнему вольному люду поглянулся оттого сразу. Способствовала росту народного расположения и его товарно-денежная щедрость и пушка, коей сарацинские янычары расстреливали царёвых сборщиков податей, несогласных со свободолюбивой политикой новоявленного князька. Самочинно возвел он деревянную крепость на высоком берегу Сараны, церковь Святаго Александра Невского, и наладился создавать Великую Право-славную Тмутаракань. Крепость назвал Новым Белым Саркелом. Султан-королем, ни-чтоже сумняшеся, провозгласил себя. Без дозволения опять же государя Гороха и госуда-рыни Поляницы. Горох, знамо, осерчал: «Где налоги? Какая ещё тьфу, Таракань? Ах, не-зависимый эмират! Вольный шахиншах! Бунтовать вздумали, негодные! Ну, погодите у меня ужо!» Свистнул Горох с Дона казаков, туго учёных борьбе с басурманами, и Сара-цину в два счета дали по шапке. И не только по шапке. Башку ему оттяпали тут же. Но не потому, что поторопились, а потому что в горячей сече. Нахлобучили её на высочайший кол подле крепостных ворот и не велели снимать. Рядом, на колах пониже, торчали голо-вы соратников. Их клевали вороны, а главу Сарацина почему-то нет.
Зато она светилась по ночам глазами и вещала. Некоторые пророчества звучали не по-русски, население их не понимало. Приглашали соседей-башкир, марийцев и про-чих черемис – те не понимали тоже. Один из уцелевших янычар понимал, но у него был усечен язык, вырваны ноздри, выколоты глаза, на лбу выжжено царско клеймо, он был оскоплён и навек закован в колодки. Сами соображаете, какой от этакого толмача прок. Пророчества, однако, сбывались вне зависимости от языка, на котором реклись. Не все были хорошими. Плохие определялись по отрицательной реакции сарацинского спод-вижника. Он принимался исступленно мычать и биться в падучей. Когда тот умер – по результатам. Так, слова о пришествии известного в те годы смутьяна Емельки Пугачева – сбылись. Как обещала голова, крепость пала, с остатками гарнизона поступили мятежни-ки без разных там экивоков. Емельян, пьяный от победы, пришёл к голове (уже в то вре-мя черепу) с благодарностями и подарком – шёлковым тюрбаном. Голова пообещала ему скорую перемену в судьбе, расставание с удачей, а также схожесть грядущего конца со своим собственным. Емельян расхохотался: «Это я и сам знаю! Ты конкретней давай – царем перед тем стану али нет?» Голова привычно увильнула от ответа в дебри инозем-ной лексики. «Будь ты живой человек, я б тебе за такую хитрожопость…» – пригрозил невнятно Емельян, но не уточнил, а махнул рукой да отправился дальше пировать.
Тюрбан вышел голове велик. Чтобы не спадывал, приклеили его столярным кле-ем. Клей в те годы варили качественный, шапка держалась намертво…
Этим легенда практически кончается. На изумруд во лбу новой сарацинской чал-мы кто-то позарился, или ещё как, однако же вскорости на колу было пусто.
Где говорящий череп сейчас, никто не знает.
А город в конце концов либерально назвали именем неудачливого мавританского свободолюбца.
Выдавшееся свободным время мещански проводил у телеэкрана. Ну не с дозором же ходить вокруг усадьбы, отпугивая вороватых детей степи и ветра деревянной коло-тушкой, в самом деле!
По MTV давали Кайли Миноуг. Аппетитная австралиечка с сексуальным голосом и сексуальным же телом пела и приплясывала в австралийской какой-то забегаловке, возбуждая в мужчинах мужское. Оператор клипа работал мастерски, концентрируя вни-мание зрителя на наиболее выигрышных точках Кайлиной фигуры. Поскольку возраст девушки перевалил уже за роковой тридцачик, а силикон нынче не в моде, камера сколь-зила преимущественно по участку пониже спины и участок этот, полуприкрытый коро-тюсенькими рваненькими джинсовыми шортиками, был выше всяких похвал, признаю. Грудь её, коя без силиконовой подмоги поддалась уже гнёту лет и земного притяжения, в кадр практически не попадала, зато попадали губы – яркие и чувственные – загляденье просто!
Я помаленьку вожделел, капельку завидуя посетителям забегаловки, перед кото-рыми она вытанцовывала. Потом веселье кончилось вместе с клипом, но австралийская Минога появилась в следующем ролике – на пару с инфернальным красавчиком-брюнетом Ником Кейвом. Красавчик сдержанно гудящим голосом выводил под завора-живающую музыку минорные рулады, нежно лаская тело прекрасной утопленницы, ко-торую девушка-Минога и изображала. Картинка была некротически-прекрасна: прозрач-ная вода, прозрачное одеяние, облипающее бледное женское тело, полумрак австралий-ского прибрежного леса, скольжение бабочек, солнечных лучей, дробимых листвой. Скольжение речных струй, колыханье камышей и осоки… и всё возрастающее ощуще-ние, что мужичок сам же и притопил подружку, дабы создать подходящее этому пейзажу настроение.
Потом на экране возникло около десятка голых отечественных, ущербных голоса-ми и фигурами однодневок, сипло блеющих что-то о любви трагической и несчастной. Бездарность этих горе-канареек была столь велика, что я совсем отключил телевизор.
Опустевшее информационное пространство тотчас заполнили ворвавшиеся через окна громкие голоса с улицы. Напротив дома, ровно посреди дороги, как это у нас при-нято, стояла стайка девок лет пятнадцати-семнадцати и беседовала. По-простому, по-нашему же. По-пейзански.
«Я, такая, ему говорю: «Да пошёл ты, козлина!» А он, такой: «Я ща пойду! Я ща так пойду, что ты окуеешь!» А я ему, такая: «Сам не окуей, гондурас». А он, такой…»
Или что-то в этом роде.
Девахи были ничего себе – кровь с молоком и сало с пряностями. Что и демонст-рировались всем желающим посредством юбчонок и майчонок позапрошлогоднего мод-ного фасона. Особого внимания и особой отметки заслуживали ножки – пропорций пря-мо-таки аллегорических. Каждая из ножек, взятая в отдельности, превышала объемами, должно быть, две моих, накачанных по методе исторического силача Евгения Сандова (он же Юджин Сэндоу), вычитанной мною в стареньком номере журнала «Спортивная жизнь России». Децибелов девичьего разговора не способны были бы удержать в узде никакие оконные блоки от фирмы «Евровиндоу». Тем паче наши, производства местного деревообрабатывающего комбината.
Я откинул крючок, распахнул рамы и позвал: «Эй, подруги!»
Они приумолкли, обернулись.
«У меня ребенок маленький спит, – не моргнув глазом, соврал я. – Давайте, орите потише. И где-нибудь в другом месте».
Девки недовольно фыркнули, буркнули, плечиками дёрнули и, показательно от-считав шагов как бы не десяток в сторону, возобновили высоко информационную свою и громозвучную беседу.
Я окна не закрывал и продолжал с укоризной изучать их сплоченную общим кру-гом интересов группу. Было им от этого, по всему видать, неуютно. Так неуютно, что од-на из девушек, самая толстомясая, решилась на крайнюю отпугивающую меру. Повер-нувшись ко мне спиной и закинув подол свой (длиною хорошо коли в четверть) наверх, тряхнуть несколько раз необъятным задом, туго обтянутым широкими розоватыми тру-сами, из стороны в сторону. Представление сопровождал глумливый смех подружек и шумный звук пущенного смелой девушкой ветра.
Я с немалым трудом одолел дрожь – не похоти телесной, нет – ужаса почти экзи-стенциального. В долгу оставаться нельзя было ни в коем разе. Тем более, супротивник с нетерпением ждал – либо ответного хода, либо признания поражения. Соорудив на лице гримасу высокомерия, я захватил щепотью нос и шумно-шумно, с переливами, булькань-ем и хлюпаньем высморкался. Быстрые умом деушки сообразили, что содержащееся сей-час в моей горсти – не что иное, как плата за их интимную красоту, и, сдержанно ропща, тяжелым полугалопом отправились восвояси. Стриптизёрка, приобретшая вдруг цело-мудренность, пыталась на ходу опустить нижнюю границу задираемого недавно предме-та одежды до уровня минимального приличия, однако же тщетно.
Торжествуя, я закрыл окно. В ладони моей ничего не было. Ничегошеньки. Чиста она была, аки рука сказочного чекиста из утопии, пригрезившейся товарищу Железному Феликсу в припадке раскаяния за содеянное в прошлом, настоящем и вероятном буду-щем.
Приему этому, с соплями в горсти, которых на самом-то деле и нету, обучил меня в Чебаркульской учебке младших командиров «замок» наш, старший сержант Грошев-ский, по прозвищу Блямба. Очень это весело получается, когда сует тебе руку для пожа-тия какой-нибудь малоприятный в общении, но надоедливый человечек, а ты эдак фее-рически сморкаешься в ладонь да и жмёшь с открытой улыбкой протянутую грабельку. Смена выражений на лице контактного организма просто потрясает – уверяю вас! От безграничного ужаса через безграничное же блаженство к полной враждебности. Особ-ливо к враждебности, ежели имеются в зоне контакта пристрастные зрители, не обреме-нённые чувством ложного интеллигентского такта. Каковых в армейских частях, как во-дится, – исключительное большинство.
Некоторое время я лежал на диване и наслаждался эйфорическим мироощущени-ем триумфатора.
А затем пришла моя Оленька, которая могла без малейшего труда заткнуть за поя-сок, охватывающий её талию, десяток австралийских миног – в плане сексуальности, уточняю. И я, истосковавшийся, повлек её в интимный дортуарчик наш, в бесстыдный вертепчик наш, на просторное наше ложе любви…
…Оленька моя сидела на краешке кровати – голышкой неземной совершенно и совершенной неземно – и расчёсывала волосы. Волосы у неё длиннющие, тоненькие и мяконькие, что у младенчика, и в страсти путаются – беда! Вот она их и расчёсывает по-сле: перво-наперво гребешком, затем «массажкой», а затем уж и щёточкой густой – кон-ского жёсткого волоса. То на грудь она их перебросит через левое плечо, то мотнёт голо-вой – летят они крылом платиновым, драгоценным – и падают на правое плечо, то свесит их водопадом перед лицом, склонив головушку так, что трогательный её затылочек обри-суется, а я смотрю – любуюсь, глаз отвести не смею. И нежность – невыразимая…
«Антон, – сказала она негромко и посмотрела на меня так, что я сразу вскочил, полный нехороших предчувствий. – Антон, вчера ночью в школе сатанисты опять кошку распяли. Я за Машку боюсь, Антон». Губы у неё задрожали.
Я бросился обнимать её и успокаивать, но она таки расплакалась.
Сволочи, думал я, прижимая её к себе. Какие же сволочи! В каких подвалах взросло это дьявольское отродье? Эпидемия же прямо какая-то! В нашей-то деревне, по-нятно, подростки-дегенераты модному веянию подражают. Скорее всего. А вообще? Гу-берния содрогается. Страна пока не содрогается, следит издали, но тоже, надо думать, не в восторге. Мразь же чёрная лютует. «Люцифериты», ни дна им, не покрышки! Кто та-кие? Власть безмолвствует. Губернатор наш, орёл, коего корреспонденты посетили в Альпах, где он катается на лыжах, проводя отпуск, отмахнулся раздражённо. Чепуха, дескать! Бабьи сказки, дескать. Не стоит разводить панику, дескать. Гляньте на меня – не волнуюсь же, вот и вам не нужно. Всё чики-чики, под контролем. Преступность у меня знаете, где? Вот она где у меня, в кулаке! Уяснили? То-то же! Идите с богом, не мешайте с горки скользить.
Говорю же, орёл.
А люцифериты? Положили они на губернатора. Денег у них, говорят, до чёрта и адвокаты лучшие. И транспорт, связь, компьютерные сети. И лапы когтистые во всех властных структурах. Боевики у них, говорят, высший класс, притом едва ли не поголов-но смертники. Аналитические отделы у них, говорят, высший класс, притом едва ли не поголовно гении. Всё у них высший класс. Прокламации цветные, на глянцевой бумаге, как снег летят.
«ОН идет! ОН почти пришёл! 666 ступеней осталось ЕМУ преодолеть. Знайте, ОН преодолеет те ступени! И взрастет Великая Россия! ОН – семя! Мы, “Предстоящие свету Люциферову”, ЕМУ поможем! Бомжи, извращенцы, преступники и наркоманы будут распяты во имя ЕГО. Не бойтесь этих смертей, они – ступени; они – во благо. ЕМУ. Нам с вами. Преклоните головы перед НИМ, и ОН не обойдёт вас своей милостью! Мессии, приходившие до него, были слабы. ОН будет могуч! Церковники оклеветали ЕГО, изол-гали путь ЕГО, а ведь это ОН превратил нас в людей! ОН любит нас! ОН изринет сквер-ну из нашей жизни, наполнит её новым содержанием, распахнёт невиданные горизонты перед нашими детьми! Радуйтесь, соотечественники, ибо мы – избраны ИМ!»
Восклицательные знаки, везде восклицательные знаки.
«ОН».
Как же это прохлопали те, кому положено знать всё обо всех? Ладно бы одна группа сатанистов была. Ну, две, пяток. А то ведь десятки! Счёт человеческих жертв уже по слухам на десятки идёт! И какого рожна им в нашей отдаленной губернии надо? По-чему гнездо их гнилостное здесь? Неужто и в самом деле тут, у нас, народится Анти-христ?
Чёрт, этак с катушек слететь недолго.
Чёрт?!!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
короткая, в которой я сперва исполняю роль короля лгунов, а затем – заинтере-сованного читателя
– Уже приступил, – сказал я бодро в трубку, честно помахивая перед телефоном перекрещёнными пальцами свободной руки в знак изрекаемой лжи. А то, что Большой Дядька этого не видит, так это уж его проблемы. Я придал голосу оттенок доверительно-сти: – Не скажу, что прочёл до самого конца, но – приступил.
– Ну и как вам? Нравится? – спросил Игорь Игоревич.
– Заинтригован. – Я понимал, что ступил на неверный лёд обмана враз обеими ногами. Тонкая корочка предательски похрустывала; под нею же разверзлась бездна. Единственное, что могло меня спасти – суеверно скрещённые пальцы. Я продолжал са-мозабвенно врать: – Местами так, пожалуй, и вовсе поражён.
– Что думаете предпринять? – прямо в лоб засветил мне конкретный вопрос Игорь Игоревич.
Предпринять? Если б я хоть знал, что к чему. Помявшись для правдоподобия и задумчиво хмыкнув, я сознался:
– Знаете, пока не определился. А стоит ли вообще что-либо предпринимать? Мо-жет, пусть всё идет как есть?
– Ага, наш осторожный друг всё-таки решил вильнуть в кусты… – невесело сказал сам себе Большой Дядька. – Что же, Филипп, это ваш выбор. Достаточно разумный. Не смею осуждать.
– Погодите, вы не поняли. Никуда я не виляю. Просто… Игорь Игоревич, – выпа-лил я наугад, – вам не кажется, что это ваше «Фуэте» – полная ерунда?
Пальба в белый свет приносит иногда неожиданные результаты. Вот и я – ухит-рился, похоже, попасть. Причём в довольно чувствительное место.
– Во-первых, оно не моё, – обиделся сеньор Тараканни. – А во-вторых, такие (он выделил голосом это «такие») совпадения не могут быть ерундой. Тем более, полной. Я вам, Филипп, советую взяться, и дочитать-таки рукопись до конца. Может, тогда и по-убавится у вас скепсиса. Ариведерчи!
Сказав умолкшей трубке «пока», я со вздохом поплелся на поиски злополучной папки. Отыскал, раскрыл, вздохнул вторично – куда как протяжнее – и нехотя принялся читать. Однако уже в третьем абзаце повстречал самого себя – в роли длинноволосого качка со спортивной сумкой… и втянулся.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ФУЭТЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНОГО ЗЛА
1. …И ДОРОГИ
Автобус остановился. Пыль, сдуваемая на ходу ветерком, что врывался через рас-крытые люки и окна, густыми клубами повисла в салоне. Пассажиры поспешно ринулись наружу, толкаясь и весело сквернословя.
Дальновидные аборигены повскакивали с мест задолго до остановки – вместе со своими здоровенными сумками и рюкзаками. Костя сидел в самом хвосте автобуса, про-браться к передней двери по их примеру заранее не догадался, понадеявшись, что води-тель откроет заднюю.
Не тут-то было!
Утомлённый тряской дорогой, пылью и жарой Костя пасмурно решил сперва, что водитель-извращенец таким образом издевается над людьми. Потом он разглядел обре-зок сплющенной трубы, который стягивал раздвигающиеся половинки задней двери по-средством пары заржавленных болтов. По-видимому, решил Костя, дверь самопроиз-вольно распахивается на ходу, и не скрепи её намертво – могут появиться жертвы. Он вспомнил, как его самого подбрасывало на ухабах, тут же представил, что однажды не смог удержаться – вылетел на дорогу через неисправную дверцу… и простил водителя. Его милосердию способствовало и то, что выход наконец оказался свободен.
Подхватив с рубчатого резинового пола ранец, он бодро прошествовал наружу. И даже сказал шофёру спасибо. Шофёр увлеченно болтал со здоровенным, длинноволосым и треугольно-бугристым качком. У здоровяка из уха свисала серебряная серьга в виде древнеегипетского символа жизни, а с плеча – спортивная сумка, полная угловатого же-леза (о сумку Костя довольно чувствительно ударился боком). На Костину учтивость во-дитель не отреагировал вовсе, словно не заметил. И то верно – не бог весть, какая важная птица: худой, невысокий мальчишка неполных шестнадцати лет. Пацан – так, наверное, здесь говорят. Качок же, почувствовав, что его дурацкую сумку кто-то задел, оборотился и широко улыбнулся Косте, оскалясь нечеловеческим количеством зубов, и сказав: «Ой, прости. Сильно ушибся, турист?» И даже вознамерился, кажется, потрепать Костю по плечику.
Костя отрицательно мотнул головой и поспешил прошмыгнуть мимо. Вдруг этот красавчик-культурист с серьгой – педик? Запросто!
Дядю Тёму, симпатичного усатого мужика лет тридцати, с которым родители до-говорились о транспорте до Серебряного, Костя заметил сразу. Тот сидел бочком на не-молодом зеленовато-голубом «Иже» с коляской и играл в карманный тетрис. На дяде Тё-ме была надета застёгнутая под горло штормовка, и Костю это несколько удивило. В та-кую-то теплынь? Кстати, внешне дядя Тёма смахивал на покойного «квина» Фредди Меркьюри. Его тоже за педика примешь? – спросил себя Костя, и ему сделалось стыдно.