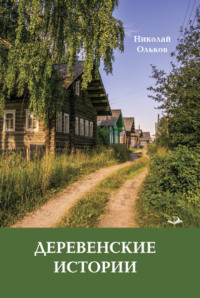Полная версия
Собрание сочинений. 2 том
Дымчаков внимательно на него посмотрел:
– Перед кем? Хорошо, откровенность за откровенность. Вы утратили власть и собственность, я имею в виду коммунистов, Советы, к прошлому возврата не будет. О народе вы напрасно беспокоитесь, он будет выживать и потихоньку сокращаться количественно. Возвращается капитализм, приходит собственник, мы станем частью мировой экономической системы. Россию будут уважать.
– Вы, наверное, образованный человек, а простых вещей не понимаете. Страну, государство прежде всего должен гражданин уважать, а остальные – как хотят. Новоявленные собственники, по сути, жулики, потому что в нашей стране невозможно было стать миллионером, не нарушив закон. Так что вся ваша знать, от наших торгашей и до государственных чинов, ставших миллионерами, я уж не говорю об уважаемых олигархах, – преступники, и теперь уже не важно, признает их таковыми суд или не признает. Главное, что народ это очень хорошо понимает.
Дымчаков собрал бумаги:
– Достаточно, Григорий Яковлевич, заговорились мы с вами. Об одном прошу: не мешайте нам работать. Уехать бы вам, например, в Тюмень, мы и с квартиркой поможем.
– Спасибо, не стоит забот. Я тут останусь, вы пришли и ушли, а тут родина моя. Все!
Он положил на стол ключ от кабинета и вышел. Дарья Мартемьяновна домывала полы в коридоре…
2008 год
Гриша Атаманов
Повесть
П Р О Л О Г
Первому сибирскому снегу Данилка нарадоваться не мог, белый пух два дня валился из серого неба и укрывал землю, еще вчера уныло мерзнувшую в наступающих холодах. Снег превратился в сугробы, поднявшийся студеный ветер, называемый здесь сиверком, распределил его поближе к плетням и заплотам, старался втиснуть в подворотни и завалить ограды, а на задах все усадьбы утеплило под самые крыши. Данилка не шел со двора, широкой тесаной лопатой, по совету местных мужиков приготовленной с лета, сгребал легкий снежок на завалинку, крутой валик сухого чернозема, по второе бревно обнявший избу со всех сторон. Тоже мужики подсказали, что лежки, короткие комлевые бревна, уложенные в основание избы, под первое окладное бревно, на зиму надо обваливать землей, а потом снегом под самые окна, чтобы теплее.
Мужиков не шибко удивило появление в селе Смирном нового человека, кругом окапывались переселенцы из Расеи, рыли землянки на первый случай, некоторые выкупали на зиму угол у старожилов, а после посевной рубили избы или даже дома. Народишко был при копейке, власти снабжали на обзаведение, местные, хоть и не любили новоселов, но готовы были продать и скотину, и что из инвентаря. Одно было странно, что молодой мужик прибыл без семьи, жил у старухи Рогожихи, ни с кем не общался, быстро сориентировался в ценах, закупил красный сосновый лес и плахи в городе, нанял бригаду и поставил большую избу. На замечание строителей, что можно бы перегородить сруб на избу и горницу, как заведено, кратко ответил, что изба – дело временное, осмотрится, и дом станет строить из кирпича. Строители хохотнули, и слух прошел, что парень себе на уме.
Столько снега он никогда не видел, в родных краях, о которых дал себе слово не вспоминать, чтобы не тревожить память и в чем-нибудь не проболтаться случайно, выпадал, бывало, снежок, но только на несколько дней, сразу подтаивал, мутнел, никакой красоты, одни неудобства. Расчистив ограду, обнесенную высоким бревенчатым заплотом, он поставил под сарай к поленнице дров лопату, начисто обмел веником-голиком новенькие пимы-самокатки и пошел в избу. Теплую фуфайку набросил на железную вешалку, скованную здешним кузнецом, поправил приготовленный к холодам полушубок. Вынул из печи горшок с кашей, поел, убрал на залавок посуду: «Потом помою». Холостяцкая жизнь была скучна, летом работы много, так вымотаешься, что не до гулянок и вечерок, как тут принято, только бы до постели добраться. А теперь тоскливо. Пока жил у Рогожихи, все ее советы выслушивал: «Ты, паря, не засиживайся, найди себе девку ко влазинам в новую избу, вот тебе и хозяйка». И все на Веру Тагильцеву указывала, мол, и телом полна, и лицом чиста, да и порода не гульливая, работящая. Данилка и сам видел эту девку, при встрече она смущенно закрывала лицо платком или полушалком, но он знал, что с чужими так и положено себя вести.
А встретился с Верой на воскресной службе в церкви Покрова, он ходил туда редко, чаще уезжал в город, где в большом кафедральном соборе всегда людно и ты можешь тихонько исповедовать Богу свои грехи. А тут сон привиделся, да столь ятный, что и, проснувшись, Данилка долго еще находился там, в родном краю, в доме пана Ецука. Потому и отправился в ближайшее воскресенье на службу, дождался исповеди.
– Грешен ли, раб Божий Даниил?
– Грешен, батюшка.
– Кайся, Господь видит твои деяния и простит, если не смертны грехи твои.
– Каюсь, батюшка, что на жен чужих посматриваю.
– Сие есть грех, уже прелюбодействовал ты в сердце своем.
– Еще каюсь… (что бы ему такое сказать, чтобы он назначил епитимью, да и делу конец?), каюсь, прибил как-то соседскую курицу, в огород залетела.
– Ты, сын мой, перед Богом стоишь, а не в курятнике. Сие вы с соседом замирите, а за то, что таишь в душе своей, назначаю тебе по десяти раз утром и вечером неделю кряду читать «Отче наш». По истечении срока придешь к исповеди, а пока лишаю причастия. Пойди вон.
Повернулся, а Вера лицом к лицу, чуть не столкнулись, опять покраснела вся и ушла на клирос. Решил дождаться, походил вокруг церкви, срублена надежно, а у нас все каменные, дерева нет. Тьфу ты, опять за свое! Что же Вере сказать? Позвать вечером на встречу – только отпугнешь, а как по-другому? Она вышла на паперть, повернулась к иконе над входом, трижды перекрестилась и метнулась, вроде, в другую от него сторону.
– Обожди, Вера Павловна, чего ты от меня закрываешься?
– Не место тут говорить про это, – шепнула она.
– Укажи место, я на край света приду.
– После управы подойди к керосиновой лавке.
Ах, как хороша! И одета скромно да аккуратно, потому что в церковь не можно расфуфыриваться, и волосы прибраны под платком, росточком чуть разве его пониже, но в кости широка и лицо строгое. Губки только маленько подвели, пухловатые, вот там была у него зазноба… Он опять спохватился и заставил себя думать о встрече с Верой. Раз согласилась придти, значит, тоже его приметила, а он долго ждать не будет, сговор с родителями совершить и назначить свадьбу с венчанием.
В тот вечер он дождался потемок, подошел к лавке, керосином несло, как от пролитой неловко лампы, была у него дома такая оплошность. Постоял, увидел неспешно идущую Веру, свернула к лавке, степенно остановилась.
– Чего сказать хотел, Данила Богданович? Торопись, мне не след с парнем незнакомым подолгу стоять.
Данилка оробел, но понял, что его час, и сказал шепотом, сделав еще шаг поближе к девушке:
– Выходи за меня замуж, вовек не пожалеешь.
Вера улыбнулась, он видел это даже в сумерках.
– Да как же я могу тебе хоть что сказать, если знать совсем не знаю, и кто ты, и откуда, и что за душой? Спрошу у тяти, если разрешит, буду с тобой на людях встречаться. А замуж мне не к спеху, года не ушли, да и женихов табун. – Вера говорила это скорей от девичьей гордости, чтобы не больно зазнавался, что вышла к нему. – Все, пошла я.
Данилка улыбнулся такому воспоминанию, задернул занавески, зажег лампу, достал книгу по маслоделию, купил в городе у старого мастера. Всю от корки до корки прочитал, целую тетрадку записал, теперь начал чертежи рисовать, как и что сделать, какие машины прикупить. Не просто молоканку, какую видел в соседней деревне Чирочки, а маслоделательный заводик надо строить, кирпичный, чтобы век стоял, и кирпич надо свой лепить, так дешевле. Сепаратор, маслобойка, пресс – все следно найти хорошего качества, тогда и масло будет цену иметь. А ледник, а добрые кони, а дрожки с утепленным ящиком для переброски масла в город. Дел много, одной пашней и подворьем прожить, конечно, можно, но ему широты хотелось, виделась жизнь в достатке, семья большая, жена – красавица, и чтобы люди приезжали в дом умные, которых послушать приятно и полезно. Дом. Да, дом придется строить после заводика, а то любопытных много, поинтересуются, откуда средства. И может начаться… Оборони Бог! Прочь мысли дурные, они не доведут до добра.
* * *
Хлеб убирать подошла пора, Данила нанял двух мужиков и трех баб, за неделю все выкосили, в снопы связали и в сарай свезли на берегу озера, купил его Данила еще весной. Из уездного Ишима машину молотильную притащили четверкой лошадей, в сарае установили, мастер сам запустил и первые снопы обмолотил. Посмотреть на невидаль съехались мужики. Конечно, в четыре руки надо крутить машину, но это не цепами махать, а зерно какое сыплется – хоть сейчас на мельницу.
– Данила Богданович, сколько запросишь, если работницу твою на мое гумно перетащить?
– Верно, определись с ценой, мы прикинем.
Данилка уже готов был к такому разговору:
– Из десятой доли соглашусь, думайте, но все работники ваши, а мой только надзор. Обучу толкового мужичка, вот и будет смотреть.
Крестьяне отошли в сторону, пошептались, один вернулся к хозяину:
– Мы согласны, только работники твои, а харчи наши.
Данилка улыбки с лица не спускал, так и ответил почти радостно:
– Из десятой доли соглашусь, я же сказал, а дважды повторять не люблю, но пришлось. Надумаете – знаете, где найти, скажете.
– Упрямый, сволочь, хоть и молодой, – один выругался, подходя к лошадям. – Деньжищи, знамо, вывалил он за эту молотилку, что нам и не грезились. А где напахал, он что, с приисков к нам явился?
– Да како наше дело? Ты бы язык-то поприжал, а то, не ровен час, отскочит. У него и фамиль знатная, Атаманов, одному Богу известно, что на душе.
Мужики пороптали, но уже к вечеру привезли Данилке список, кому за кем молотить и сколько примерно у кого хлеба ожидается.
Через пару недель, уже ближе к октябрю, молотилку перетащили на гумно Павла Тагильцева, Верочкиного отца, Данилка сам приехал установить и опробовать. Хозяин крутился тут же, заискивающе заглядывал в глаза:
– Данила Богданович, ты своему скажи, чтоб поаккуратней, у меня пашеничка отменная от других, я семена в Шадринске брал, хлеб из нее пышный и не старится пятидневку.
– Не беспокойся, Павел Прохорович, все сделаем лучшим образом. Не беспокойся.
Уловил чутким свои умом Данилка, что ждет мужик разговора о Верочке, ждет, и приятен ему этот разговор, но торопиться не стал, через три дня приедет за молотилкой, вот тогда можно будет.
Кули с зерном в счет уплаты стояли у ворот сарая, ворох отборной пшенички выглядел солидно. Хозяин поблагодарил за машину и указал на кули:
– Данила Богданович, это как есть десятая доля, можешь не сомневаться.
Данилка в тон ответил:
– Сомнений нет, но зерна не возьму, а попрошу тебя, Павел Прохорович, сватов моих принять и отдать мне Веру Павловну в жены.
Мужик так и сел на мешки:
– Вот как обернулось! Ну да, мне сказывали, что интересуешься девкой моей, славно. Приходи в субботу со сватами, поговорим. А плату забери, чтоб народ не судачил.
– Заберу, Бог даст – сочтемся, – степенно ответил Данилка, велел мужикам грузить кули и цеплять молотилку.
Сватовство получилось для Данилки неловкое, сам Тагильцев оказался не столь прост, каким воспринят был им на гумнах. Принял он гостей радушно, как водится, про товар и купца, мать с отцом невесту хвалят, сваты – жениха. И тут Павел Прохорович говорит:
– Хотел бы я знать, Данила Богданович, почему ты на поселение один приехал, без отца, без брата, ведь молод еще, в чужие края я бы сына одного не отпустил. Что ответишь?
Данилка взглянул ему прямо в глаза:
– Отец у меня кожевенным делом занят, это из старины идет, так что достаток есть. Я младший в семье, не могу сказать, по какому случаю, дело семейное, размолвка с отцом вышла, потому выдал он мою долю деньгами и велел удалиться с глаз родительских. Вот так.
Тагильцев крякнул:
– Не густо! А на родину тебя не потянет? Отдам тебе дочь, а совьешься в свою Рассею?
Тут Данилка улыбнулся:
– Разве ты не видишь, Павел Прохорович, что обживаюсь основательно? Зерно, что на молотилке заработаю, продам, новое дело хочу освоить, и уже все подготовлено, об этом после скажу, среди своих. Кирпичный пресс куплю, материала для строительства много потребуется. И дом буду делать, как в городе, на два этажа. Так что семья у меня будет большая, никуда не стронусь, а на кладбище место отгорожу, на все времена.
Хозяин смутился:
– Зря ты про кладбище заговорил, не время, а планы твои заманчивы, да и начало выказыват мужика сообразительного.
Повернулся к жене, которая смиренно дожидалась главного: отдаст Веру отец, откажет или срок назначит для испытания?
– Твое слово, мать, говори.
– Решайся, Варвара Петровна, – подсказала сваха.
– Да что же ты, отец, и согласия дочери не спросишь? А ежели он ей не люб? Проклянет нас навеки.
Отец засмеялся:
– Похоже, что дочь плакать не будет. Вера, выйди к людям и скажи, как родителям поступить.
Вера вышла из горницы, прикрыла лицо платком, от смущения слезки на глазах:
– Воля ваша, тятя, так и будет, как скажете.
– Тогда, мать, ставь на стол, закрепим сговор, как положено.
На стол богато наставили, и гусь жареный с крупой, и картошка тушеная со свининкой, и копченое мясо, а солонины огородной во всяких видах, а сдобы хлебной! Налил хозяин всем по стопке, встал над столом:
– Провозглашаю вас, Данила Богданович, и дочь моя Вера Павловна, женихом и невестой, завтра после обедни в церкви объявлю, так что проздравляю. А свадьбу назначай сам, Данила Богданович.
* * *
И четвертому сынку Данила Богданович был рад, как первому, когда повитуха вышла из спальни и объявила:
– С сыном тебя, благодетель!
Данила пал на колени и троекратно перекрестился. Вот какую силу поимел в сибирских краях новый род Атамановых, пять мужиков, пять семейств будет со временем, ничем не пережать и ничем не перекусить наше слово и дело! Встал с колен, поклонился повитухе и прошел в комнату. Вера Павловна лежала на широкой кровати и кормила грудью новорожденного.
– Покажи-ка мне сына, Верочка, дай взглянуть.
Нянька отняла ребенка от груди и повернула личиком к отцу.
– Ты мне его разверни, хочу видеть мужика!
Все исполнили, несмотря на морозы, в доме было тепло, разомлевший отец сюсюкал:
– Верочка, да он в твою породу будет, беляна, и личико твое, красавец, беда для девок, помяни мое слово!
– Ладно тебе, давай, Палаша, будем кормить, он уж плачет.
Отец еще минутку полюбовался и вышел. Ваня, Петр и Володя стояли в зале, он обнял их всех сразу:
– Брат у вас появился, ребята, но к маме пока нельзя, пойдите в свои комнаты, займитесь делом.
– Каким, батюшка?
– Ванюша, учи меньших азбуке и счету, счет надо знать назубок, так я тебя наставлял?
– Так, батюшка.
До глубокого вздоха, до тайной слезы, до боли сердечной рад был жизни Данила Богданович: и с женой ему повезло несказанно, хозяйка, красавица, на ребят плодовита; и дела его выстраиваются в заметное предприятие, вот маслоделательный заводик направит, и на всю жизнь занятие, потому что никогда не исчезнет с деревенского двора корова-кормилица; и ребята растут, сначала в доме помощники, потом на хозяйстве, а следом в армию идти, отслуживать своё.
Гришаня рано стал помощником в лавке, где вся деревня отоваривалась необходимым в зачет сданного молока, был он, как девица – круглолиц, лицом бел, волосом рус, да наглажен всегда и начищен, звали его бабы любовно белоручкой. Грамоту знал хорошо, газеты отец выписывал и книги привозил с городских ярморок. Не раз и Гришаня вместе с отцом ездил в Петропавловск, в Шадринск, в Ишим с маслом и мясом, несколько дней проводили, отец выжидал цены, потом оптом отдавал товар за наличные золотые монеты. Возвращались в разных упряжках, Гриша налегке на рысаках, а Данила Богданович в заплатном полушубочке и рваной шапке на ленивой Пегухе в простых дровенках, золотишко за пазухой, с другой стороны револьвер, а в ногах двухствольный обрез, картечью заряженный. Было дело – в женское одеяние оболокался, лишь бы разбойничьи глаза отвести.
Когда Грише подошло время для военной службы, во всю шла Германская, и Даниле Богдановичу многих средств стоило добиться, чтобы сына направили на Восток, подальше от фронта. Незадолго до этого вдруг приехал старый Богдан, держал связь с отцом письмами через надежного человека в уездном городишке, тот все передавал, вплоть до денег, а вот о приезде старого не упредил. И рад был Данила обнять отца, вместе поплакали по матушке, умершей прошлым годом, но вместе с гостем в память вернулось забытое, душа растревожилась, дурные предчувствия обуяли. Война эта проклятущая, да революции, в городе и то против властей выступают деповские.
Все хозяйство показал отцу Данила Богданович, и доброе стадо сементалок на выпасах, и маслоделательный завод, на котором перерабатывается в год по двадцать тысяч пудов молока. Но старого Богдана особо восхитил дом, сложенный из кирпича, первый этаж – лавка и столовая для работников, а второй жилой. Красавец, не дом, заезжие мастера такими каменными узорами изукрасили стены, что любо посмотреть. Богдан и с той стороны походил, и с другой – все хорошо, а потом вдруг расхохотался:
– Вот они где, панские-то злоты!
– Ты что, батя, со свету меня хочешь сжить? – Зашипел насмерть перепуганный Данила Богданович. – Или самогонка сибирская покрепче твоей горилки?
– А чего я такого сказал несуразного? Аль не видели сибиряки, что ты с добрыми грошами явился к ним?
– Видели, да ничего не знают, и ты бы помалкивал.
– Ладно, коли так, – покорно согласился старик.
1
Григорий шел по заснеженным улочкам уездного городка походкой военного человека, за годы окопной жизни не растерявшего навыки строевой подготовки: слишком строг, даже суров был ротный фельдфебель, ножку тянуть учил, спинку держать, ручку наотмашь кидать правильно. Он так и говорил ласково, поучительно: ручку, ножку, а новобранцы после строевых занятий валились прямо на плацу, так уставали. Пожухлый, но молодцеватый фельдфебель поучал сморившихся ребят:
– Не для себя, для вашей же пользы следно строевым шагом идти, словно лебедушка, чтобы волос на голове не шелохнулся, ежели космачом. Вот я призван был в Шагаловку, небольшенький гарнизон, а строем ходить учили сурьезно. И представьте себе, что я, к примеру, отлынивал бы и не желал успеха, и что бы с этого получилось? А на принятие присяги к нам нагрянул сам Государь Император! Эх, как же мы прошли, как прошли! Государь прослезился и велел выдать каждому по полтине. Вот и вы расчет имейте, а вдруг…
Месяц назад январским ранним утром высадили новобранцев на перроне Томского вокзала, построили, повели в казармы. Григорий Атаманов шел налегке, домашняя стряпня давно кончилась, пустой мешок отдал ребятам. Помыли в бане, выдали форму, целый день дали командиры, чтобы каждый под себя подогнал гимнастерку, брюки и шинельку. Вечером опять построение, суровый поручик обошел строй, отрапортовал подполковнику.
– С сего дня началась ваша служба в Русской Армии, которая сейчас воюет на западных рубежах. Мы будем учить вас воевать, учить быстро и строго. Начнете с уставов, примете присягу на верность царю и Отечеству, дальше – конкретное дело. С Богом, сынки! Поручик, командуйте!
За обедом Григорий вспомнил, что именинник сегодня, 29 января, исполняется 18 лет. Осмотрелся, знакомых никого, так что и говорить не стал. Вестовой остановился в дверях столовой:
– Атаманов! Есть такой?
Григорий вскочил:
– Есть!
– Быстро за мной в штаб!
В штабе пожилой штабс-капитан предложил сесть, открыл картонную тетрадку:
– Атаманов Григорий Данилович, так? 29 января 1898 года рождения, так? Э, брат, с именинами тебя. Не вставай! В твоих бумагах есть рекомендации, где показан ты как человек грамотный, это соответствует?
– Так точно, господин штабс-капитан, но это все самоподготовка, тренировка. Отец у меня деловой человек, у нас все братья грамотные, меня хотел в Санкт—Петербург отправить учиться, да война помешала.
– Пишешь хорошо?
– Пишу красиво, – похвастал Гриша и покраснел. – Много тренировался, почерк нарабатывал.
– А ну, напиши вот тут, к примеру, «Русский солдат служит правому делу Государя своего».
Григорий написал бегло, офицер взглянул и одобрительно улыбнулся:
– Пройдешь подготовку до присяги вместе со всеми, а после к себе заберу, писарем будешь при штабе, тут и койку тебе организуем. Все, беги в казарму, и никому ни слова.
Через несколько дней в казарму привели маленького кучерявого человека со странным ящиком и треногой. Фельдфебель крикнул:
– У кого гроши есть, могут фотокарточку сделать и родным выслать. Быстро!
Гриша тоже встал у высокой тумбочки, на которой лежала раскрытая книга устава. Кто-то бросил солдатскую папаху:
– Надень, чтобы лысину прикрыть, дома не узнают без кудрей!
Вспыхнул магний.
На фотокарточке Гриша сам себе понравился, две прибрал в тумбочку, на одной написал своим красивым почерком: «гор. Томск, 12/11—1916 г. Первая неделя службы. Г. Атаманов» и с письмом отправил домой.
…Григорий улыбнулся теплым воспоминаниям, свернул в ограду большого дома и уверенно отворил дверь с табличкой на куске картона: «Уездный военный комиссариат». Сюда месяц назад демобилизованный солдат явился для взятия на воинский учет, как требовал порядок. Он тогда еще весь был в казенной службе, так надоевшей и противной его существу, воевал за Веру, Царя и Отечество, потом переворот и все перевернулось, сменили командиров и знамена, прошли скоротечные братания со вчерашним врагом, солдаты которого тоже не понимали, что происходит. Комиссар, глянув в его документы, заулыбался:
– Это хорошо, что ты писарем при штабе служил, мне человечек с хорошей рукой ой, как нужен.
И предложил работать в военкомате, пока в учетном столе, а там видно будет.
Отец Данила Богданович эту новость воспринял с нескрываемой радостью:
– Соглашайся, сынок, мы в деревне и без тебя управимся. Невесту себе присмотришь в городу, домик куплю, человеком станешь. Власть к деловому человеку враз повернулась, поняла, что с голодранцами можно только митинги митинговать, на нас все держится. Ей Богу, глянется мне власть эта, лишь бы не мешала.
Григорий не узнавал отца, какой-то он стал суетный, неровный, с работниками мог заигрывать, нарочито заботливо интересуясь семейством и близкими, которых и без того хорошо знал, перед председателем волостного совета противно лебезил, хотя тот всего три года назад был на маслозаводе в работниках. Даже флаг красный Григорий в казёнке увидел, стоит на обструганном древке в трубочку свернутый. Спросил отца, тот гневно бросил:
– Не лезь, а так надо.
Григорий прошел в дальнюю комнатку к своему столу, открыл металлический шкаф и положил на стол стопку бумажных папок, это и была сегодня его служба: учитывать всех лошадей в уезде, будь то в крестьянстве, в городе или в новых советских учреждениях. Особого удовольствия он не испытывал, каждую неделю выезжал в волости, сверял свои данные с записями в волисполкомах. Часто и там никакого учета не было, приходилось жить по нескольку дней, обходить дворы и записывать, у кого что есть: лошади, телеги, дрожки, сани, кошевки, сбруя.
В комнату заглянула Танечка, симпатичная машинисточка из приемной комиссара:
– Григорий Данилович, к нам прибыл уполномоченный из губернии, фамилия Разбашев, вы в отъезде были, так он хотел встретиться.
Григорий кивнул, такую фамилию он не слышал, но надо так надо. Стал сверять списки и вносить поправки, несколько листов переписал заново. Бестолковая работа, но другой нет.
Он поднял глаза на неожиданный и в то же время довольно настойчивый, почти хозяйский стук в дощатую дверь, но не успел сказать уместное в таких случаях слово «Войдите!», дверь отворилась и высокий человек в строгом гражданском костюме, наклонив голову под низеньким косяком, вошел в комнату и повернулся к столу, за которым сидел Григорий:
– Здравствуйте, я Разбашев, офицер губкомиссариата.
Григорий вскочил, но Разбашев предупредительно поднял руку:
– Сидите, я на минутку.
Григорий все еще растерянно смотрел на гостя, совсем ничего не понимая, не понимая, почему полковник Деркунский, начальник штаба полка, в котором служил Атаманов до смутного семнадцатого года, вдруг стал Разбашевым, почему он сбрил бородку и усы, которые украшали его и были предметом зависти молодых солдат. Почему, наконец, он здесь, в Ишиме, ведь весной семнадцатого он исчез из полка, поговаривали, что сбежал к немцам, это большевичок Изместьев больше пропагандировал, но Григорий и другие солдаты не особо верили, потому что Деркунский был хороший человек, кровей благородных, но не гнушался общением, и даже унтера из соседней роты отдал под суд за мордобой, и в атаку ходил, и на митингах выступал, призывая быть верными Отечеству и Государю.