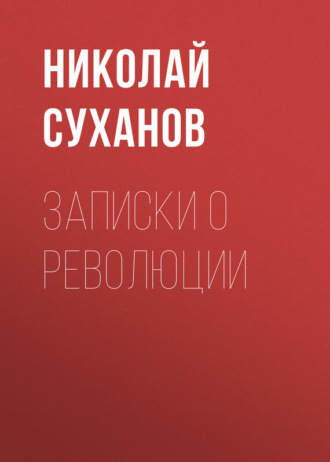 полная версия
полная версияЗаписки о революции
Я наблюдал панораму города, раскрывшуюся из окна квартиры Горького. По городу начинали шнырять автомобили, наполненные вооруженными людьми. В одних были солдаты вместе с рабочими; они были украшены красными флагами и восторженно приветствуемы толпой. В других были одни солдаты с винтовками, направленными на тротуары и несущими угрозу неизвестно кому. Куда они мчались, зачем, по чьему распоряжению, по чьей инициативе, на чьей стороне были они – все это было неведомо, и толпа была склонна держаться от них подальше.
Говорили, что с Петропавловской крепости, также видной из окна, некоторые из этих автомобилей были обстреляны у Троицкого моста…
Далеко за рекой, налево, по городу стлались клубы дыма и было видно пламя огромного пожара. Это горел ни в чем не повинный Окружной суд, разгромленный и подожженный возбужденной толпой, по соседству и за компанию с Предварилкой. Там горели архивы и бесчисленные документы гражданского судопроизводства и нотариальных актов. Наблюдая все это, я все вспоминал сцены Московского восстания.
И. П. Ладыжников возвратился, конечно, без автомобиля, на который было убито лишних часа полтора. Я предлагал остановить первый попавшийся, но это было отвергнуто, как предприятие рискованное. Было решено идти пешком.
Mы вышли уже часу в шестом при заходе солнца: я, Тихонов, Горький и еще двое или трое, не помню кто. Не доходя до Троицкого моста, мы не преминули растерять друг друга в густой толпе. Горький отстал, а вернувшись за ним, мы увидели, что его остановил знакомый член большевистского Центрального Комитета, вероятно, виднейший в то время представитель партии в Петербурге, будущий большевистский министр Шляпников, с которым я до того встречался мимоходом несколько раз. В былые времена он, не будучи вообще писателем, немного сотрудничал в «Современнике» из-за границы.
Партийный патриот и, можно сказать, фанатик, готовый оценивать всю революцию с точки зрения преуспеяния большевистской партии, опытный конспиратор, отличный техник-организатор и хороший практик профессионального движения, он совсем не был политик, способный ухватить и обобщить сущность создающейся конъюнктуры. Если тут была политическая мысль, то это был шаблон древних партийных резолюций общего характера, но ни самостоятельной мысли, ни способности, ни желания разобраться в конкретной сущности момента не было у этого ответственного руководителя влиятельнейшей рабочей организации.
Нам пришлось зачем-то вернуться в квартиру Горького; у дверей мы заметили филера, о существовании каковой породы все уже успели забыть: старый знакомый уже казался явлением потустороннего мира. Мы снова отправились, теперь втроем. Горький остался дома. Я добросовестно старался использовать всю дорогу на разъяснение Шляпникову создавшейся конъюнктуры, как я понимал ее, с целью добиться какой-либо координации действий в том направлении, как я писал выше. Но результат был один: я убедился в только что указанных свойствах наличного «центрального» большевика. Однако вместе с тем я убедился, что в самой влиятельной рабочей организации Петербурга, и именно в левой организации, от которой как раз и могла исходить опасность разнуздывания стихии и бесшабашно радикального решения вопроса о власти, – что в этой организации не было никакого решения этого вопроса, что он до сих пор сколько-нибудь серьезно не ставился в ее руководящих центрах и что никаких готовых лозунгов, никаких попыток планомерной борьбы за какой-либо готовый план с ее стороны ожидать нельзя. Это во всяком случае я расценил как благоприятный фактор.
При таких условиях решение политической проблемы в значительной степени находилось в руках более умеренных элементов демократии, поскольку их влиянию оставляла место стихийная борьба сил и случайная комбинация обстоятельств. Ниже мне еще придется набрасывать картинки, иллюстрирующие, насколько примитивны и неосновательны были тогдашние заправилы петербургских большевиков, насколько не способны они были взять в руки свои собственные основные задачи, насколько не умели они из-за деревьев своей партийной техники разглядеть лес революционной политики и насколько они поистине должны были приводить в отчаяние своих собственных партийных лидеров, знающих, где раки зимуют, но отделенных от Петербурга тысячами верст на восток и на запад. Более умеренные элементы в данной обстановке мне представлялись более надежными.
Уже темнело, когда мы трое – Шляпников, Тихонов и я – быстро, чуть не бегом, шли с Кронверкского проспекта к Таврическому дворцу. Троицкий мост был свободен, но довольно пустынен. Толпа, густо усеявшая площадь и сквер перед мостом, побаивалась того оживления, той деятельности, которую проявляла Петропавловская крепость и видневшиеся на ее стене около пушек солдаты. Однако никаких нападений оттуда, насколько я знаю, не последовало…
Нам встречались автомобили, легковые и грузовики, в которых сидели и стояли солдаты, рабочие, студенты, барышни с санитарными повязками и без них. Бог весть откуда взялось все это, куда мчались и с какими целями! Но все пассажиры этих автомобилей были возбуждены до крайности, кричали, размахивали руками и едва ли отдавали себе отчет в том, что они делают. Винтовки были наперевес, и паническая пальба, конечно, открылась бы при первом малейшем поводе.
Признаки «опьянения», грозные при полной распыленности революции и при возможности погромной провокации полицейско-черносотенных банд, были, несомненно, налицо. Один автомобиль почему-то остановился на набережной, неподалеку от английского посольства. Мы подошли к нему, попробовали заговорить, расспросить и, отрекомендовавшись, просили захватить нас с собой. Кроме возбужденного и нечленораздельного гвалта, из которого мы ровно ничего не поняли, мы ровно ничего не получили в ответ и, махнув рукой, побежали дальше.
У Фонтанки мы свернули к Шпалерной и Сергиевской. Слышались довольно часто ружейные выстрелы, иногда совсем рядом. Кто, куда и зачем стрелял, никто не знал. Но настроение встречавшихся рабочих, обывательских, солдатских групп, вооруженных и безоружных, стоявших и двигавшихся в разных направлениях, от этого повышалось чрезвычайно.
Оружие в руках рабочих было видно в огромном количестве. Солдаты-одиночки, с винтовками или отдав или продав винтовки, разбредались во все стороны в поисках крова, пищи и безопасности. Как в Московском восстании, встречные заговаривали друг с другом, спрашивая, что делается там-то и можно ли пройти туда-то.
Уже в сумерках мы вышли на Литейный близ того места, где за несколько часов была стычка царских и революционных войск. Налево горел Окружной суд. У Сергиевской стояли пушки, обращенные дулами в неопределенные стороны. За ними стояли, на мой взгляд, в беспорядке снарядные ящики. Тут же виднелось какое-то подобие баррикады. Но было кристально ясно для каждого прохожего: ни пушки, ни баррикады никого и ничто не защитят ни от малейшего нападения.
Господь ведает, когда и зачем они сюда попали, но около них почти не было ни прислуги, ни защитников. Группы солдат, правда, находились около. Иные чем-то распоряжались, командовали, кричали на прохожих. Но никто их не слушал…
Видя эту картину революции, можно было бы прийти в отчаяние. Но нельзя было забывать другой стороны дела: орудия, оказавшиеся в распоряжении революционного народа, были, правда, в его руках беспомощны и беззащитны от всякой организованной силы, но этой силы не было у царизма.
Какой-то солдат, изображавший из себя, очевидно, начальника редута, что-то кричал нам и куда-то показывал пальцем. Но мы не слышали и, спокойно перешагнув через баррикаду, помчались по Сергиевской к Таврическому дворцу… Выстрелы продолжались.
На Шпалерной, там, где начинаются постройки Таврического дворца, оживление было значительно больше. Смешанная толпа, разделяясь на группы, толкалась на мостовой, тротуарах, далеко, однако, не запружая их. Митингов и ораторов заметно не было. Ближе к входу во дворец стоял ряд автомобилей разных типов. В них усаживались вооруженные люди, грузились какие-то припасы. На иных было по пулемету. Обращало на себя внимание присутствие чуть не в каждом из них женщин, которые в таком количестве казались излишними.
Очевидно, кем-то, куда-то снаряжались экспедиции. Был крик и беспорядок. Охотников приказывать было явно слишком много, и был явный недостаток в охотниках повиноваться.
Та же картина наблюдалась и за заповедными воротами Государственной думы, на всей площади сквера, до самого входа в Таврический дворец. Попытки вступить в разговор с людьми, сидящими в автомобилях и участниками экспедиций, ровно ни к чему не привели.
Мы направились внутрь дворца, через главный вход, куда ломилась густая толпа и самая разнообразная публика. У дверей стоял и распоряжался цербер-доброволец, в котором я узнал одного левого журналиста. Не знаю, какими признаками руководствовался он, пропуская и преграждая путь во дворец. Но мне, несколько отставшему от моих спутников, он разрешил протискаться внутрь дворца сквозь плотную заставу солдат как редактору «Летописи» и представителю социалистической печати.
В недра нашего дореволюционного парламента (если не считать пребывания на хорах, в качестве публики, которую пускали из особого закоулка) мне пришлось проникнуть впервые. Отныне это место игры в политику нашей буржуазии, место единственной свободной трибуны для скованной демократии превращалось в храм народной победы и в лабораторию русской революции.
В огромном вестибюле и в прилегающей Екатерининской зале, довольно слабо освещенных, было более людно, чем, надо думать, бывало обыкновенно, но все же почти пустынно сравнительно с тем, что было здесь в последующие дни. Необъятная территория дворца легко и незаметно поглощала многие сотни сновавших с деловым видом и явно скучавших от бездействия людей. Это были «свои» – депутаты, имевшие вид хозяек дома, несколько шокированных бесчинствами незваных гостей. Оставив верхнюю одежду на привычных местах, у швейцаров, они выделялись блестящими манишками, мрачными рясами и степенными армяками. Но они были в меньшинстве. Дворец явно заполняло постороннее население – в шубах, рабочих картузах и военных шинелях. Среди этой категории на каждом шагу встречались лица, хорошо знакомые по петербургским интеллигентским политическим кружкам. Сюда уже стягивались все политические и общественные петербуржцы.
Я бросился с расспросами на первого попавшегося депутата-трудовика, живого и энергичного человека, варившегося сегодня целый день в самых недрах событий. Он, однако, мало удовлетворил меня. Самая крупная сообщенная им новость состояла в том, что в министерском павильоне под арестом сидит Щегловитов. А вместе с тем ведутся переговоры с премьер-министром, к которому поехал Родзянко и еще кто-то из умеренных лидеров. Кем именно арестован Щегловитов (явно вопреки большинству Комитета Государственной думы) и о чем конкретно ведутся переговоры, депутату в точности неизвестно. Сам он уходил в заседание своей фракции на Суворовский проспект, но не умел объяснить цели заседания, да и не надеялся на него, так как многие непременные члены мелькали тут же и не желали идти туда. И в частности, Керенский заведомо не мог туда явиться… Разговор позволял умозаключить, что «высокая политика», в общем, в прежнем положении.
Но и действительно, обстоятельства момента были таковы, что все внимание приходилось устремить на технику независимо от политики. Какая ни создалась революционная власть, каковы бы ни были планы буржуазии, необходимо было защищать начатое восстание, защищать восставший народ и армию от сил царизма, еще формально не сдавшихся и фактически мобилизуемых. Защищать все это можно было, лишь наступая, доламывая решительно, без пощады и колебания остатки царской крепости. Если «высокую политику» в интересах революции надо было делать в связи с думским комитетом, совместно с ним, при помощи его, то технику, стратегию революции должна была делать демократия, не дожидаясь думского комитета, независимо от него, против него.
Между тем что было сделано? И что надо было сделать? Заняты ли вокзалы на случай движения войск с фронта и из провинции против Петербурга? Заняты ли и охраняются ли казначейство, государственный банк, телеграф? Какие меры приняты к аресту царского правительства и где оно? Что делается для перехода на сторону революции остальной, нейтральной и, быть может, даже «верной» части гарнизона? Приняты ли меры к уничтожению полицейских центров царизма – Департамента полиции и охранки? Сохранены ли от погрома их архивы? Как обстоит дело с охраной города и продовольственных складов? Какие меры приняты для борьбы с погромами, с черносотенной провокацией, с полицейскими нападениями из-за угла? Защищен ли хоть какой-нибудь реальной силой центр революции – Таврический дворец, где через два часа должно открыться заседание Совета рабочих депутатов? И созданы ли какие-нибудь органы, способные так или иначе обслуживать все эти задачи?..
Тогда я не знал и не умел бы ответить на эти вопросы. Но теперь я хорошо знаю: не было сделано ничего и не было никаких сил, чтобы сделать что-либо… Быть может, это неизбежно и обязательно во всех революциях? Ничуть не бывало. Оставив в стороне исторические параллели, я опишу со временем по личным воспоминаниям по нотам разыгранный октябрьский переворот. Картина была иная!..
В вестибюле, недалеко от входа, с левой стороны от него стоял длинный стол, около которого толпилось, наклонившись над ним, много людей, особенно военных. В центре их я увидел Керенского, отдававшего какие-то распоряжения. Здесь, очевидно, происходила работа какой-то стратегической революционной организации или, по крайней мере, ее эмбриона. Керенский здесь действовал в качестве члена Военной комиссии, о которой я упоминал выше и которая утвердилась территориально в первом крыле дворца, в комнате 41. Там в эти дни кроме Керенского, Мстиславского я помню бессменно дежурившего Филипповского, с которым не раз нам придется встретиться дальше, и еще двоих-троих с примелькавшимися физиономиями, но неизвестными до сих пор фамилиями. В этой Военной комиссии одной из деятельнейших фигур был также Пальчинский, игравший впоследствии немалую и скверную роль в правление Керенского. Во главе же этого учреждения стоял сам Керенский, причем мне совершенно неясно, каким именно способом совмещались в нем функции руководителя боевой организации, призванной добивать царизм военными средствами, и звание члена Временного комитета Государственной думы, продолжающего переговоры об «уступках» с царским правительством и доселе не вступающего на революционный путь…
Задачи Военной комиссии в данный момент были именно стратегические и боевые, задачи технического завершения революции в отличие от последующих модификаций этого учреждения, которое в дальнейшем под тем же названием, но уже под начальством сначала Гучкова, а затем других лиц меняло свое назначение и свои состав, превращаясь в классовую и тоже довольно боевую организацию командного состава армии.
Мне сообщили, что вокзалы заняты по распоряжению Военной комиссии воинскими частями. О занятии других важнейших пунктов города говорили неопределенно, говорили, что распоряжение сделано, отряды посланы и т. п. Судя по тому, как снаряжались некоторые экспедиции у Таврического дворца, результаты их были сомнительны.
Но не лучшее впечатление производила и работа в «штабе» революции, которую я некоторое время наблюдал в вестибюле, у упомянутого стола. До сих пор явно не было ни малейшего стратегического плана, ни исполнителей его. На улице солдатские отряды представляли собой случайные группы, перемешанные со случайной публикой. В штабе не было их командиров, а были также случайные военные и штатские люди, в распоряжении которых не было никаких определенных кадров вооруженных солдат или хотя бы рабочих. Для операций, также случайных, Керенский не назначил из присутствующих определенных людей, а вызывал добровольцев, желающих. Тем же, кто вызвался, не оставалось ничего делать, как разыскивать и собирать себе добровольческий отряд, желающий отправиться в данную экспедицию.
Я напомнил Керенскому об охранке. Оказалось, что она не взята, и Керенский предложил мне взять на себя ее захват и обеспечение целости ее архивов. Он говорил так, как будто для этого имеется отряд и перевозочные средства, но я видел, что это не так. Во всяком случае, как глубоко штатский человек, я отказался от этого предприятия, тяготея больше к политике, чем к стратегии, и желая принять участие в работе политических центров революции, в Совете рабочих депутатов, члены которого уже понемногу стягивались в Таврический дворец.
Словом, революционная армия и в прямом и в переносном значении этого слова была явно и совершенно распылена. Положение было критическое и грозное. Казалось, если будет так продолжаться еще несколько часов, силы царизма возьмут революцию голыми руками. Но тем не менее какая-то группа, правильно понимавшая свои задачи и состоявшая из лиц политически авторитетных и технически компетентных, уже действовала как готовая организация. Независимо от результатов своих распоряжений она распоряжалась авторитетно и энергично. И как индивидуальное лицо я не имел никаких оснований соваться в ее недра и в ее распоряжения. Задача состояла в том, чтобы как-нибудь укрепить передаточный механизм, сообщить реальную силу организации. Но здесь всякое индивидуальное начинание было бессильно. Маховым колесом здесь мог явиться лишь Совет рабочих депутатов. Я ждал его открытия и, уже будучи в центре событий, продолжал находиться в состоянии бездействия…
Из города доносились неопределенные слухи о начавшейся анархии, погромах и пожарах. Дворец наполнялся. Лица деятелей социалистического движения мелькали все чаще. Собирался весь социалистический и радикально-интеллигентский Петербург. Сходились рабочие депутаты.
По Екатерининской зале в одиночестве ходил П. Н. Милюков, центральная фигура буржуазной России, лидер единственного в данный момент официального органа власти в Петербурге, фактически глава первого революционного правительства.
Он также находился в состоянии бездействия. Вся его фигура говорила о том, что ему нечего делать, что он вообще не знает, что делать. К нему подходили равные люди, заговаривали, спрашивали, сообщали. Он подавал реплики, видимо, неохотно и неопределенно. Его оставляли, и он снова ходил один.
Милюкова остановил профессор Военно-медицинской академии Юревич, будущий (через несколько часов) «общественный градоначальник» Петербурга. Энергично, дельно и сжато он говорил ему о том, что уже было предусмотрено Временным Исполнительным Комитетом Совета рабочих депутатов, – о положении солдат восставших частей. Таких солдат сейчас в городе десятки тысяч. Из них многие тысячи принадлежат к частям и казармам восставшим, вышедшим на улицу не целиком, не в полном составе; они, распыленные, конечно, не решатся вернуться в казармы, где могут ожидать ловушки; они не имеют ни крова, ни хлеба; они, естественно, будут тяготеть к Таврическому дворцу как к центру движения; на Временном комитете думы или, если угодно, на иных организациях, на всех, кто может, лежит обязанность позаботиться об этих солдатах, обеспечить для этого хлебом Таврический дворец и дать приют нуждающимся в нем на его обширной территории; в противном случае именно кадры бесприютных и голодных солдат могут явиться первоисточником анархии и грабежей.
С другой стороны. Таврический дворец как центр революции нуждается в надежной охране и сплочении вокруг себя солдатской массы; соответствующие отряды могут и должны быть образованы именно из таких солдат, тяготеющих к Государственной думе, как к центру духовного сплочения, физического прибежища и безопасности.
Вескость всех этих соображений, обращенных к Милюкову, очевидно, как к официальному лицу, была велика и бесспорна. Юревич требовал немедленных соответственных мер и предлагал себя в распоряжение тех, кто станет во главе дела. Милюков слушал внимательно и, казалось, сочувственно. Но его вид не оставлял сомнений в том, что он здесь беспомощен и ничего предпринять не может, а быть может, это совсем не входит в его планы… Юревич поспешил двинуть свое дело иными путями. Не знаю, было ли ему известно, что об этом уже позаботился Временный Исполнительный Комитет Советов рабочих депутатов и что над этим уже несколько часов работала созданная им продовольственная комиссия с Громаном во главе… Милюков продолжал гулять по Екатерининской зале.
Во дворец действительно прорывались солдаты все в большем и большем количестве. Они сбивались в кучи, растекались по залам, как овцы без пастыря, и заполняли дворец. Пастырей не было.
Из города сообщали не только о погромной тревоге и о наблюдавшихся кое-где эксцессах каких-то темных элементов. Сообщали и о присоединении к революции новых полков, о грандиозных манифестациях, об энтузиазме, охватывающем широкие слои народа… Сообщали, что обыватели останавливают солдат, зовут их в свои квартиры, беседуют, расспрашивают, агитируют и угощают на славу, чем бог послал.
Раньше, чем откроется Совет рабочих депутатов, я все же непременно хотел ориентироваться в настроении буржуазных кругов и выяснить путем непосредственных расспросов отношение их лидеров к вопросу о революционной власти.
Из Екатерининской залы через многолюдный вестибюль я направился в правое, еще пустынное крыло Таврического дворца на поиски какого-нибудь знакомого буржуазно-либерального депутата повиднее… Это правое крыло, все его комнаты и коридор, прорезывающий его насквозь, были в течение всего первого периода революции резиденцией Временного комитета Государственной думы и вообще сфер и учреждений, группирующихся вокруг Временного правительства. Члены Государственной думы, формально сохранившие в течение этого периода свое звание (и свое жалованье), считали это правое крыло дворца своими владениями.
Впрочем, как я упомянул, там же помещалась в эти дни (комната 41) и Военная комиссия, то есть военный штаб переворота. Наоборот, левое крыло с самого начала попало в ведение демократии в лице Совета рабочих депутатов и его учреждений. Будущие взаимоотношения и будущая борьба между демократией и буржуазией, между Советом рабочих депутатов и Временным правительством (плюс Временный комитет Государственной думы) в первое время имели свое территориальное воплощение в борьбе между левым и правым крылом Таврического дворца.
Заглянув в начале коридора в кабинет Родзянки, я увидел там знакомую фигуру одного из лидеров партии прогрессистов, достаточно мне знакомого В. А. Ржевского. Если бы он хотел быть откровенным, то это был источник совершенно достаточный. Со своей стороны он не замедлил обнаружить желание проинтервьюировать меня, человека из другого мира. Я вошел, и мы уселись в комфортабельных креслах недалеко от входа. Огромная слабо освещенная комната была почти пуста. Вдали за столом сидели и вяло переговаривались два-три умеренных депутата. А неподалеку от нас, вставляя реплики в наш разговор, верхом на стуле сидел в военной форме небезызвестный казачий депутат Караулов, член Временного комитета Государственной думы, решительный сторонник переворота, по своим тогдашним заявлениям, но циник и реакционер на деле, будущий скандалист справа на идиотском Государственном совещании в Москве и будущая жертва левого террора во время Донского восстания большевиков…
Ржевский находился в состоянии, характерном для представителя нашего либерального общества.
– Мы все, – сообщил он первым долгом, – находимся в большой тревоге… Родзянко с некоторыми членами Временного комитета уже несколько часов назад поехал к председателю совета министров, князю Голицыну для переговоров о положении дел. До сих пор Родзянко не вернулся и никаких вестей о нем нет. Мы опасаемся, что он арестован в ответ на задержание Щегловитова…
Я поспешил высказать свое глубокое убеждение, что такая тревога ни на чем не основана.
Если думский комитет видит выход в переговорах с царскими чиновниками даже после всего случившегося, даже после ареста на территории Думы царского министра, то тем более очевидно, на мой взгляд, должно быть для Голицына, Трепова и их товарищей, что вне переговоров с думским большинством сейчас выхода для царского правительства быть не может. Отклонить переговоры, направленные к спасению самодержавия или его обрывков, царские министры сейчас ни в каком случае не решатся. Тем более не посмеют они открыто объявить войну думскому большинству, так охотно до сей минуты демонстрирующему свою лояльность.
– Поверьте, – добавил я, – они отлично оценят положение и уцепятся за якорь спасения в лице Родзянки. Они не поступят, как утопленник, схваченный за волосы водолазом, и не схватят своего спасителя за горло, чтобы потонуть вместе с ним. Ведь думский комитет достаточно далек и от поддержки «анархии», и от сочувствия «социалистической республике»…



