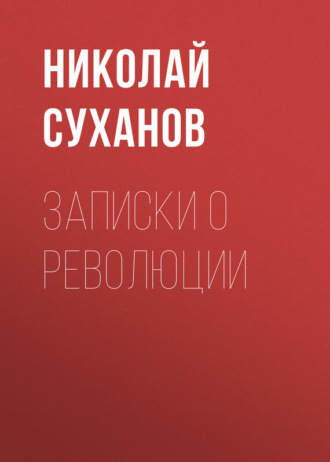 полная версия
полная версияЗаписки о революции
Но в это время в комнату влетел бледный, уже совершенно истрепанный Керенский. На его лице было отчаяние, как будто произошло что-то ужасное.
– Что вы сделали? Как вы могли! – заговорил он прерывающимся трагическим шепотом. – Вы не дали поезда!.. Родзянко должен был ехать, чтобы заставить Николая подписать отречение, а вы сорвали это… Вы сыграли на руку монархии, Романовым. Ответственность будет лежать на вас!..
Керенский задыхался и смертельно бледный, в обмороке или полуобмороке упал в кресло. Побежали за водой, расстегнули ему воротник. Положили его на подставленные стулья, прыскали, тормошили, всячески приводили в чувство. Я не принимал в этом участия и мрачно сидел в соседнем кресле. Сцена произвела на меня отвратительное впечатление.
Что Керенский, не спавший несколько ночей, затративший нечеловеческое количество нервной энергии за дни революции, ослаб до тривиальной истерики, это было еще терпимо. Что он в важном деловом вопросе, требовавшем быстрой деловой ориентировки, подменил здравый смысл и трезвый расчет полутеатральным пафосом, в этом также еще не было ничего особенно злостного. Хуже было то, что Керенский на второй день революции уже явился из правого крыла в левое прямым, хоть и бессознательным орудием и рупором Милюковых и Родзянок… Кроме того, я опасался за судьбу принятого решения насчет поезда. Керенский, понятно, явился с тем, чтобы его аннулировать, а его нажим и его истерика могли оказать влияние на многих.
И действительно, очнувшись, Керенский произнес тут же длинную и бестолковую речь не столько о поезде и об отречении, сколько о долге каждого перед революцией и о необходимости контакта между правым и левым крыльями Таврического дворца. Он говорил нудно и раздраженно, подчеркивая не раз, что он, Керенский, пребывает в правом крыле для защиты интересов демократии, что он уследит за ними, обеспечит их, что он – достаточная гарантия, что при таких условиях недоверие к думскому комитету есть недоверие к нему, Керенскому, что оно при таких условиях неуместно, опасно, преступно и т. д.
Сейчас «sub specie aeternitatis»[19] при свете всего дальнейшего вся эта наивная, истерично-эгоцентричная речь представляется мне чрезвычайно характерной: это зародыш будущего беспомощного истерика, вообразившего себя не «математической точкой русского бонапартизма», а действительным Бонапартом, призванным спасти страну и революцию, вообразившим себя субъектом диктаторской власти, а не объектом власти стихий и контрреволюционных групп…
Керенский потребовал пересмотра принятого решения о поезде Родзянке. Несмотря на протесты меньшинства, указывавшего, что нет налицо никаких новых обстоятельств, было решено пересмотреть вопрос. На этот раз прения шли довольно долго, причем размягченным ораторам правой стороны удалось вслед за Керенским запутать вопрос и растворить дело о поезде в общих разговорах о взаимоотношениях между крыльями Таврического дворца.
В результате произошло нелепое голосование: всеми наличными голосами против трех (Залуцкого, Красикова и меня) была отдана дань истерике Керенского, и поезд Родзянке был разрешен.
Родзянко, однако, не уехал. Времени прошло слишком много, а снарядить поезд было можно не так скоро. Был, вероятно, уже второй час дня. Царь не дождался Родзянки в Дне и выехал в Псков… Меня же встреченный в советской зале известный старый меньшевик Крохмаль поспешил ядовито поздравить с тем, что в только что состоявшемся голосовании я вотировал вместе с неистовым Красиковым, который не пользовался репутацией вразумительного человека.
Заседание Совета уже началось. На председательском месте, на столе, стоял Н. Д. Соколов, геройски не сходивший с него до самого вечера. На очередь были поставлены исключительно или главным образом «военные» вопросы: об отношении солдат к возвращающимся офицерам, о выдаче оружий, о Военной комиссии, ее составе и компетенции. На ораторской трибуне, то есть на столе, сменяли друг друга солдаты и «прапорщики». Что они говорили, я не слышал и не знаю. Но все заседание прошло под знаком тревоги и требований отпора думскому комитету в связи со вчерашним выступлением Родзянки и с попытками разоружить солдат.
Дело о поезде не дало нам кончить дело о власти. За это время накопилась целая куча вермишели, и правильная работа вновь была нарушена. Началась и текущая «канцелярская работа»; пришлось подписывать десятки бумаг, разрешений, удостоверений…
Не помню, зачем было необходимо отправиться в Военную комиссию, которая перебралась в какое-то новое неизвестное помещение наверху, в отдаленном углу дворца. Было страшно подумать об этом путешествии через непроницаемые толпы, через сквозняки, через митинги, через шпалеры просителей, которых нет возможности удовлетворить, сквозь строй всяких делегатов с экстренными заявлениями и просто «преданных революции» обывателей с неотложными делами и без оных, с одним любопытством.
Сообщили, что во дворец только что пришел «конвой его величества» выразить покорность и предложить службу революции. Ясно, вся армия отряхнула от ног своих прах царизма, и сейчас для переворота не страшно ни кадровое, кастовое реакционное офицерство, ни черносотенный генералитет. Всем приходилось прикинуться «преданными революции».
Во главе конвоя явился какой-то великий князь – Кирилл Владимирович, тоже оказавшийся исконным революционером. Его немедленно оцепили честные служители печатного слова буржуазно-бульварные журналисты и долго носились с ним, не обращая внимания на все то, происходящее у них под носом, в чем бился действительный пульс революции, что было захватывающе интересно и для истории, и для непосредственного наблюдения культурных людей…
Дворец имел вчерашний вид – непролазной толпы, невыносимой давки, бесконечных шинелей, неразберихи и подъема. В Екатерининской зале поднимались над толпой бесчисленные знамена и фигуры ораторов там и сям.
Что было нового – это лавочки, раскинутые партийными организациями, с листками, справками, всякой литературой. Их плакаты: «Центральный Комитет партии социалистов-революционеров» или «Военная организация РСДРП (большевиков)» и тому подобная «нелегальщина», вынырнувшая из подполья, непривычно красовалась на глазах тысячных толп, удивляя и путая закоренелых конспираторов.
Партийная работа уже шла в городе на всех парах. Массы организовывались… Как и вчера, взволнованные люди добивались членов Исполнительного Комитета и сообщали впопыхах об эксцессах, столкновениях, стрельбе, погроме в той или иной части города. Исполнительный Комитет был тут ни при чем; он ничего не мог поделать, и посылаемые отряды по-прежнему не внушали никаких надежд. Но город сам, местными силами, самодеятельностью районов залечивал свои раны, обслуживал и терапевтику, и хирургию, и санитарию революции. И чем дальше, тем больше экстренные заявления об эксцессах, погромах и проявлениях анархии оказывались плодом перепуганного воображения.
Я поспешно двинулся и медленно пробирался в Военную комиссию. Но меня догнали с директивой отправиться в Петропавловскую крепость, откуда донесли о каком-то важном столкновении или разгроме. Я должен был ехать вместе с Керенским в автомобиле, но, выбравшись на двор, я в указанном месте не нашел ни Керенского, ни автомобиля и, проплутав по митингу в сквере, с величайшим трудом пропущенный обратно во дворец, я сдал это дело встреченному случайно Гвоздеву, стремившемуся хоть немного побыть на воздухе и охотно взявшему на себя поездку в Петропавловку. Узнав в Исполнительном Комитете, что дело в Военной комиссии все еще не сделано, я, выбиваясь уже из сил, стал снова пробираться туда.
Во главе Военной комиссии был уже кем-то назначенный Гучков, кандидат в военные министры. Вместе с тем весь облик Военной комиссии приобретал не только чуждый, но злокачественный вид. Потратив невероятное количество энергии и времени на передвижение, я попал наконец в сферу Военной комиссии, в какие-то верхние коридоры над кухней, где, нарушая все законы непроницаемости, сплошь стояли военные, ломившиеся к Гучкову. Гучков же, как говорили, заперся с великим князем Кириллом Владимировичем и был занят с ним важными делами.
Затрудняюсь сказать, почему именно, но я почувствовал, что меня охватила в этом месте атмосфера не революции, а самой доподлинной контрреволюции. Офицеры были не наши и не прежние, из комнаты 41, а совсем иного сорта, каких я видел потом около Керенского и Пальчинского в Главном штабе, в эпоху корниловщины… Я не нашел никого из прежних центральных лиц Военной комиссии. Меня посылали к Гучкову, с которым я, однако, совсем не желал иметь дела.
Но, с другой стороны, к Гучкову, занятому с великим князем, не пускали, пока не узнали, что я член Исполнительного Комитета. Тогда вдруг все офицеры, ординарцы, приближенные стали более чем любезны, стали просить меня только две минуты подождать Александра Ивановича, стали усиленно приглашать меня к нему и убеждали поговорить с ним, прибавляя, что он сам искал и желал повидать кого-либо из «рабочих депутатов». Передо мной стали рассыпаться до того, что я почувствовал какое-то смутное подозрение, сам не знаю в чем. Во всяком случае, было вполне вероятно, что с Гучковым пришлось бы вести политический разговор. Я решительно отказался от этого рандеву и, назвав комнату, где можно видеть членов Исполнительного Комитета, отправился назад, ничего не добившись…
Технические условия нашей работы не стали лучше за эти сутки, с тех пор как я снаряжал «капитана Тимохина».
Заседание Совета было в полном разгаре и имело на этот раз деловой характер, несмотря на ту страстность, какую вносили солдаты в обсуждение своих наболевших вопросов. Соколов неутомимо стоял на столе и энергично управлял бушующим под его ногами морем шинелей, совершенно подавивших черные рабочие фигуры.
Исполнительный Комитет, как таковой, не руководил этим собранием и не знал толком, что там происходит. У него не было к тому никакой возможности, но все же это было упущением, имевшим довольно существенные последствия.
Исполнительный Комитет не заседал, когда я вернулся. Все по группам или в одиночку были заняты текущими делами. Иных не было налицо…
Пришло известие из Кронштадта, что там избивают офицеров, что убит адмирал Вирен и другие. Событие было чрезвычайное и могло послужить сигналом к грандиозной резне ненавистного офицерства болезненно настроенной массой. В связи с настроением, царившим в советской зале (на почве бестактного поведения думских политиков), в связи с возможной провокацией кронштадтские избиения могли вылиться в безудержную и гибельную стихийную бурю. Было необходимо потушить движение в зародыше… Кого-то в экстренном порядке отрядили в Кронштадт…
Приходили и другие известия о насилиях над офицерами. Было решено немедленно опубликовать воззвание к солдатам с протестом против самосуда, с призывом установить «контакт» между солдатами и офицерами революционной армии, с указанием на «присоединение» офицерской массы к революции, на безопасность ее для солдатской вольности в новых условиях и на необходимость заменить массовую огульную месть привлечением к ответу одних лишь виновных… Я среди шума и беспорядка написал краткую прокламацию в этом духе, но довольно неудачно. Стеклов взялся переделывать. Наскоро прочли и отправили в типографию, чтобы расклеить по городу к ночи или за ночь…
Пришла бумага от нового петербургского общественного градоначальника, назначенного думским комитетом. Это был вышеупомянутый Юревич, который просил Исполнительный Комитет назначить ему помощника.
Понятно, никаких назначенных градоначальников быть впредь не должно. Но временно, в процессе установления нового порядка, в градоначальстве могла быть произведена крайне полезная работа, хотя бы по разрушению старого полицейского гнезда. И авторитет Совета, и его контроль в этом деле также могли оказаться весьма целесообразными. Но работа требовала, во-первых, большой энергии и неменьшего такта, а во-вторых, специального человека. Кого послать?.. Случайно встретив в кулуарах моего старого друга и единомышленника, финансиста и государствоведа Никитского (будущего товарища петербургского городского головы), я без долгих разговоров снарядил его в градоначальство. Тут же была написана бумага; к Никитскому в качестве секретаря был прикомандирован также случайно попавшийся мой коллега по туркестанским делам, будущий левый эсер Горбунов – и места доблестных генералов от полиции Вендорфа и Лысогорского, ныне пребывающих в министерском павильоне, были достойно замещены.
Позднее, вечером, перед открытием знаменитого ночного заседания на 2 марта, в апартаментах думского комитета я сообщил, проглатывая стакан чая, Юревичу и Некрасову об этой смене членов градоначальства, добавив, что я, нелегальный, подал прошение Никитскому о разрешении мне жительства в Петербурге и надеюсь на благоприятный ответ.
Часу в шестом было возобновлено заседание комитета. Приступили к продолжению прений о власти. На этот раз Исполнительный Комитет был в полном составе, всего с представителями партий было свыше 20 человек. На половине заседания в Исполнительный Комитет влились еще девять человек, избранных солдатской частью Совета, в качестве временных представителей петербургского гарнизона. Это были большевики Садовский, Падерин, затем левый центр.
– Борисов, Барков, Баденко и дальше люди неопределенной партийности, невыясненной физиономии и невысокого уровня, вскоре исчезнувшие с горизонта… Сейчас вся эта группа, внезапно появившаяся из-за портьеры и переполнившая маленькую комнату Исполнительного Комитета, конечно, не могла войти в курс давно начатого обсуждения и, пытаясь деятельно участвовать в прениях, только мешала работе.
Порядок обсуждения был установлен такой: сначала самый характер, классовый состав первого революционного правительства – буржуазный, коалиционный или демократический; затем требования, к нему предъявляемые, и, наконец, личный состав кабинета. С первым оказалось наибольше возни и разногласий. Правда, о советском демократическом правительстве никто не заикался (несмотря на вчерашний большевистский манифест, казалось бы, к чему-то обязывавший), но зато основательный бой дали сторонники «коалиции», мобилизовавшие большие силы, чем утром.
Во главе коалиционной партии в этом заседании шли бундовцы Рафес и Эрлих. К ним пристали некоторые оборонцы, социал-демократы, а главное – представители народнического толка. Остальные дружно отстаивали невхождение в цензовое правительство. В результате было постановлено 13 голосами против 7 или 8: в министерство Милюкова представителей демократии не посылать и участия их в нем не требовать.
Это надо заметить: это имеет значение для оценки недоразумений с Керенским, о которых речь будет дальше.
Гораздо дружнее прошел второй пункт. Выдвинутые мною три требования от правительства были развиты и дополнены. Но идея отказа от расширения требований в перспективе свободной борьбы за неурезанную программу, идея одного лишь обеспечения свободы борьбы, эта идея так или иначе легла в основу разработки этого пункта. Дополнения не имели самостоятельного значения; они лишь комментировали и углубляли общие требования полной политической свободы и наиболее последовательного воплощения принципа народовластия в виде Учредительного собрания.
Но все же это развитие и дополнение, эта детализация условий передачи власти буржуазии были очень важны. И я считал бы огромным упущением, если бы они не были сделаны и наши требования остались бы в том виде, в каком они рисовались мне лично до их обсуждения…
Председательствовавший Стеклов записывал отдельные пункты на листе бумаги по мере их утверждения. Насколько помню, голоса здесь почти не делились. Работа шла на редкость дружно и напряженно. Реплики ораторов были на удивление кратки. Времени было мало, и все хотели быть на высоте. Но, разумеется, избежать «экстренных сообщений» и «чрезвычайной важности дел» было невозможно. И свои, и посторонние несколько раз прерывали работу. Помню комическое выступление Шляпникова, ворвавшегося в разгар прений и закричавшего своим классическим владимирским говором:
– Пока вы тут занимаетесь академическими вопросами, у нас на вокзале конфисковали нагну партийную литературу. Исполнительный Комитет должен принять экстренные меры…
В развитие пункта о политических свободах был предложен и принят пункт о распространении всех завоеванных гражданских прав на солдат, которые вне строя должны быть переведены на гражданское подозрение. Насколько помню, предложение это было сделано одним из вновь вступивших солдатских членов Исполнительного Комитета.
Трудно оспаривать огромное значение этого пункта, который в чрезвычайной степени облегчил дальнейшую работу Совета. Пункт этот, правда, сам собой разумелся и был бы проведен в жизнь независимо от торжественного обещания правительства выполнять эта требование демократии. Но совершенно неоспоримо, что выделение в особый пункт этого требования и конкретное упоминание о будущей жизни армии избавило нас впоследствии от массы вредных осложнений и парализовало сопротивление буржуазии вновь созданному, чрезвычайно одиозному для нее положению армии. Борьба за армию сильно облегчилась для демократии благодаря этому, специально выговоренному условию, и благодаря ему армия несравненно более быстро и безболезненно перевила в руки Совета.
Другой стороной того же дела, развитием и гарантией пункта о свободах было требование уничтожения полиции и замены ее народной милицией, не подчиненной центральной власти. Ценность этого дополнения также огромна и вполне очевидна. Надо только удивляться, как могли сознательные пролетарские элементы в Германии через полтора года после всех уроков русской революции упустить это необходимое и элементарное требование и оставить полицию кайзера на своем месте, в руках шейдемановско-плутократической контрреволюции. Шейдеман не замедлил воспользоваться этим незаменимым орудием в январские дни, так же как воспользовался бы им Милюков в апрельские, если бы демократия не вырвала этого орудия из его рук в самом начале… Однако наша полиция была уничтожена самим процессом переворота.
В развитие требования Учредительного собрания и народовластия были выставлены и утверждены, во-первых, возможно скорые и максимально демократические выборы в городские и сельские муниципалитеты; а во-вторых, после интенсивных поисков надлежащей формулировки было решено требовать, чтобы правительство «не предпринимало никаких шагов, предрешающих будущую форму правления», с тем чтобы Учредительное собрание свободно решило вопрос о республике или монархии.
Муниципальные выборы, которых нельзя было осуществить без официальной власти, являлись первостепенным фактором организации и закрепления демократизма в стране. Требование же насчет формы правления имело два противоположных источника: с одной стороны, Милюков в одной из речей к народу уже успел предрешить отношение к этому вопросу будущего правительства и высказался в пользу регентства Михаила Романова; с другой стороны, в прениях Исполнительного Комитета немедленное объявление республики не в пример другим пунктам было выдвинуто с особой остротой. Было найдено третье, компромиссное решение, которое облегчило создание цензового министерства и вместе с тем обеспечивало республику: было утверждено полновластие Учредительного собрания во всех вопросах государственной жизни, и в том числе в вопросе о форме правления …
Следует упомянуть о довольно любопытном факте. Мы сошлись со Стекловым в мыслях по следующему предмету: мы предложили не настаивать перед «Прогрессивным блоком» на самом термине «Учредительное собрание»… Совсем недавно Милюков противопоставлял в Государственной думе либеральную позицию демократическому лозунгу «какого-то Учредительного собрания», указывая на всю нелепость и несообразность этой затеи. Мы считали возможным, что психологические импульсы окажутся для него непреодолимыми и, признав неизбежным самый институт, думские заправилы не смогут переварить его названия. Мы предлагали на такой случай допустить какое-либо иное его официальное название,[20] категорически установив его полновластность… Но этого не потребовалось. Милюков решил, что, снявши голову, по волосам не плачут, и не уделил этому обстоятельству внимания. Он дал бой на другом…
Наконец, как мера гарантии, Исполнительным Комитетом было выставлено техническое требование невыхода из Петербурга и неразоружения воинских частей, принимавших участие в перевороте.
Возник вопрос, тщательное решение которого могло оказаться очень важным, но который был скомкан и как следует, насколько помню, не доведен до конца. Вопрос о том, что может предложить Совет в ответ на требование противной стороны, взамен выполнения всех этих условий. Правая часть Исполнительного Комитета в лице тех же элементов, которые стояли за «коалицию», настаивала на поддержке будущего правительства, настаивала на том, чтобы не чинить ему оппозиции, поскольку оно не нарушает наших условий.
Я решительно восстал против этого, говоря: «Если это правительство, с нашей точки зрения, есть лишь правительство закрепления переворота, если мы способствуем его образованию лишь для этой цели, то соблюдать с ним контакт, не чинить ему оппозиции, то есть, в сущности, не развертывать своей собственной демократической программы, мы можем лишь в самом процессе переворота и его закрепления». Отказаться же от всего этого вообще или на сколько-нибудь длительный период времени Совет не может и не должен. Это было бы самоубийством, хуже того, это было бы убийством движения, полной капитуляцией демократии и смертным грехом перед Интернационалом. Я ставил на вид, что ведь в наших условиях нет даже упоминания о мирной политике перед лицом нашего ультраимпериалистского «контрагента».
Но что до того было обывателям и оборонцам! Ведь именно здесь, в бургфридене, пред лицом «германского милитаризма» был основной смысл той капитуляции перед буржуазией, которую они проповедовали… Вопрос был скомкан и не доведен до конца… В этом заседании появился на свет лишь зародыш будущей пресловутой формулы «поскольку-постольку».
Вопрос мог бы оказаться в высшей степени существенным. Дипломатическая задача состояла теперь в том, чтобы так же не довести его до конца при самом заключении договора, как он был смазан в Исполнительном Комитете. Но эта задача разрешилась сама собой и не доставила нам затруднений: на мудрецов думского комитета оказалось довольно простоты, чтобы не заметить проблемы и устремить несравненно больше внимания на сравнительные пустяки…
Последний пункт – о личном составе правительства – был решен без всяких затруднений. Было решено не вмешиваться в это дело и предоставить буржуазии как угодно формировать министерство. Было известно, что формальным главой намечен земец Львов, обычный кандидат в премьеры еще в эпоху «оппозиции его величества». Вместе с тем и распределение функций между представителями думских фракций также показывало, что формируемый кабинет будет левее «Прогрессивного блока» и большинства столыпинской думы… Милюков, сидевший в ней налево, должен был представлять центр, если не правый фланг будущего министерства.
Но, во всяком случае, от всякого влияния на личный состав мы отказались. Было только условлено, что мы будем осведомлены о нем и отведем особо одиозных лиц, если таковые будут приглашены в правительство.
Обсуждение было закончено. Все эти решения Исполнительного Комитета было необходимо провести через Совет. Повторяю, откладывать все это дело было невозможно, так как происходящее в правом крыле – позиции руководящих групп буржуазии, их планы и возможные замыслы – нам было в точности неизвестно.
Было, вероятно, около восьми часов. Заседание Совета все еще продолжалось, но было уже на исходе. Совет уже таял, подобно митингам и толпам в других залах дворца, затихавшего к вечеру. В Совете кончалось обсуждение солдатских дел и принимались практические решения, касавшиеся жизни гарнизона.
Было решено конституировать солдатскую секцию Совета и организовать выборы в нее: по одному на роту. Затем было постановлено: во всех политических выступлениях подчиняться лишь Совету. Военной же комиссии подчиняться постольку, поскольку ее распоряжения не расходятся с постановлением Совета. Кроме того, было решено дать директиву выбирать ротные и батальонные комитеты, которые заведовали бы всем внутренним распорядком жизни полков и казарм. Далее, ввиду тревоги по поводу обезоружения солдат было постановлено никому не выдавать оружия и хранить его под контролем ротных и батальонных комитетов (напомню, что полковник Энгельгардт одновременно послал в типографию приказ, в котором запрещал отбирать у солдат оружие под страхом расстрела). И наконец. Совет объявлял «равноправие солдат с прочими гражданами в частной, политической и общегражданской жизни при соблюдении строжайшей воинской дисциплины в строю».

