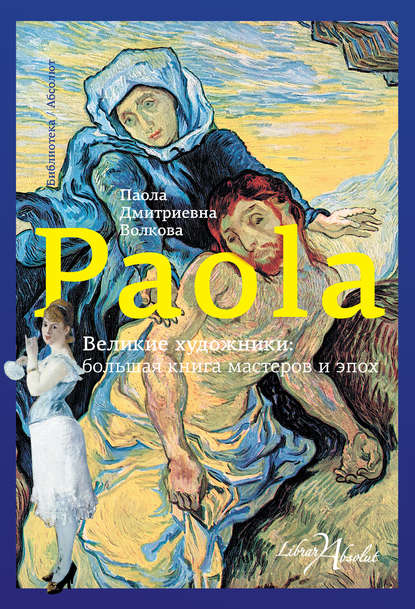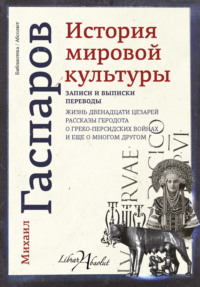Полная версия
История мировой культуры
Однажды дирекция захотела от нашего античного сектора какой-то срочной внеочередной работы. Я с наслаждением сказал: «Никак нельзя: не запланировано». Директор – почти просительно: «Ну, на энтузиазме – как Возрождение». – «Возрождение было индивидуалистическое, а у нас труды коллективные». Лица окружающих стали непроницаемыми, а мне объяснили, что речь идет о «Возрождении» товарища Брежнева. «В таком случае прошу считать сказанное игрой слов». Это было уже при директоре Бердникове – том, который когда-то, в 1949-м, был деканом в Ленинграде и делал там погром космополитов, а помощником его был Ф. Абрамов, потом – уважаемый писатель.
При директорах были заместители, ученые секретари, парторги. Заместителем был В. Р. Щербина («Ленин и русская литература»). Директора сменялись, а он сидел: бурый, деревянный, поскрипывающий, с бесцветными глазами, как будто пустивший корни в своем кресле. Почерк у него был похож на неровную кардиограмму. Мы спрашивали институтских машинисток, как они с такого почерка печатают, они сказали: «Наизусть».
(А мне хочется помянуть его добром за то, что я слышал от него запомнившийся рассказ – в застолье, после защиты одного грузинского диссертанта. Ездил он по делам Союза писателей в Тбилиси к их начальнику Григорию Леонидзе. Кончили дела, пошли в ресторан, отдыхают. Подходит официант: в соседней комнате пирует бригада рабочих, сдавших постройку, они узнали, что здесь поэт Леонидзе, и хотели бы его приветствовать. Пошли в соседнюю комнату. И там каждый из этих рабочих поднял тост за поэта Леонидзе, и каждый прочитал на память что-то из его стихов, и ни один не повторился. Но это уже не относится к Институту мировой литературы.)
Когда Щербина кончился, заместителем директоров стал П. Палиевский. На одной конференции в этом же зале он мне сказал: «Я всегда восхищаюсь, как четко вы формулируете все то, что для меня неприемлемо». Я ответил: «Моя специальность – быть адвокатом дьявола».
Здесь устраивались историко-литературные юбилеи. Каждый сектор подавал план на будущий год: будут круглые даты со дня рождения и смерти таких-то писателей. Вольтер и Руссо умерли в один год, их чествовали вместе. «Всю жизнь не могли терпеть друг друга, а у нас – рядом!» – сказал Аверинцев.
«Ну, у вас, античников, как всегда, никаких юбилеев?» – устало спросил, составляя план, секретарь западного отдела старый циник Ф. С. Наркирьер с отстреленным пальцем. «Есть! – вдруг вспомнил я. – Ровно 1900 лет назад репрессированы Нероном сразу Сенека, Петроний и Лукан». – «Репрессированы? – проницательно посмотрел он. – Знаете, дата какая-то некруглая: давайте подождем еще сто лет».
Юбилейные заседания были очень скучные, явка обязательна. На пушкинском юбилее рядом тосковала Е. В. Ермилова – та, у которой в статьях даже Кузмин получался елейным и богоугодным. Когда в третий раз с кафедры процитировали «На свете счастья нет, а есть покой и воля», она вздохнула: «А что же такое счастье, как не покой и воля?» Я подумал: «а ведь правда»…
Сучков
Считалось, что лучшим директором Института мировой литературы на нашей памяти был Б. Сучков: умный и не злой. Я тоже так думаю. Но моя приязнь к нему – скорее за одно-единственное слово, сказанное с неположенной для директора интонацией.
Он был сытый, важный, вальяжный, барственный. Когда-то начинал делать большую карьеру при ЦК, вызвал зависть, попал на каторгу, после возвращения был в редколлегии «Знамени», а потом стал директором ИМЛИ. Говорил по-немецки, а это в Институте мировой литературы умел не каждый. Переводил на официальный язык Фейхтвангера, Манна и Кафку, и оказывалось: да, в их мыслях ничего опасного нет, их можно спокойно печатать по-русски. А роман Достоевского «Бесы» нужно не замалчивать, а изучать, потому что это – предупреждение о китайской культурной революции. Тогда, в 1971-м, только такая логика и допускалась.
К институтским ученым он относился с откровенным презрением. На расширенном заседании дирекции говорил: «Ну вот, пишете вы о революционных демократах, а кто из вас читал Бокля? поднимите руки!». Ни один маститый не поднял. Мне стало так стыдно, что я поднял руку, – хоть и не имел на это права: я читал не Бокля, а Дрэпера.
Наш античный сектор готовил сборники «Памятники средневековой латинской литературы». До этого о такой поповской литературе вообще не полагалось говорить. В 1970-м вышел первый том, в 1972-м второй. Мы, конечно, отбирали тексты самые светские и просветительские, но все равно в них на каждой странице были и Бог Отец, и Сын, и Дух Святой, все с большой буквы. Кто-то заметил и обратил на это внимание высокого начальства. Высоким начальством был вице-президент Академии Федосеев, имя его было нарицательным еще со сталинских времен.
Мне позвонили из института: в 10 часов явиться к директору. Я пришел, его еще нет, жду у него в кабинете. Размашисто входит Сучков; снимая пальто, вполоборота говорит: «Ну что, неприятности из-за вас?!» Я не успел поставить голос и спросил по-обыкновенному просто: «От кого?» И он, шагая от дверей к столу, так же, по-разговорному просто ответил: «От Федосеева». А потом сел за директорский стол и начал говорить по-положенному – официально и властно. Вот эту человеческую интонацию одного только слова я и запомнил, потому что больше ни при каких обстоятельствах, никогда и ни от кого из начальства я таких не слышал.
Официальных разговоров было еще много. Весь сектор вызывали к директору, и он объяснял нам, какая была мракобесная средневековая культура. Мы говорили «понимаем», но, видимо, недостаточно убежденно, и Сучков усиливал гиперболы. Когда он сказал, что в европейских монастырях процветало людоедство, я заволновался и раскрыл рот. Аверинцев, сидевший рядом, меня удержал. Потом он сказал мне: «Вы хотели выйти из роли».
Венцом события должно было быть осуждение работы на заседании Отделения литературы и языка под председательством командующего филологией, академика М. Б. Храпченко. Я написал признание ошибок по всем требованиям этого жанра и прочитал его по бумажке. Бумажка у меня сохранилась.
«Сосредоточившись на историко-литературных проблемах, мы упустили из виду ближние цели нашей науки в условиях современной идеологической борьбы вообще и антирелигиозной пропаганды в частности. Показ и разбор памятников отодвинул на второй план их прямую оценку с точки зрения сегодняшнего дня. За выявлением гуманистических тенденций в культуре средневековья утратилась критическая характеристика средневекового религиозного обскурантизма в целом, крайне актуальная в современной идеологической обстановке. Ошибки такого рода привели к объективизму, к потере идейно-политического прицела, к идеологической близорукости в работе. Предложенный в книге подбор текстов (одну пятую часть которого составляют тексты с религиозной тематикой) может быть ложно понят массовым читателем. Руководящие высказывания Маркса и Энгельса о средневековье и средневековой культуре не использованы в должной мере. Коллектив античного сектора признает указанные критикой ошибки «Памятников средневековой латинской литературы» и примет меры к тому, чтобы полностью изжить их в дальнейшей работе».
После такого отчета обсуждение на отделении стало вялым. Взбодрить его попробовал Р. А. Будагов, академик по романской филологии (когда-то элегантно читавший нам, первокурсникам, введение в языкознание по товарищу Сталину). Какой у него был интерес, я не знаю. Вот тут Сучков взметнулся громыхающим голосом: «Мы признаем свои ошибки, но мы не допустим, чтобы ошибки идеологические выдавались за политические. Книга прошла советскую цензуру и была признана пригодной для издания; те, кто в этом сомневаются, слишком много на себя берут» и т. д. Конечно, он защищал собственную репутацию, но делал это не за наш счет – и за то ему спасибо.
Третий том «Памятников средневековой латинской литературы» был уже готов к печати; его вернули на доработку под надежным надзором Самарина. Дорабатывали его трижды, всякий раз применительно к новым идеологическим веяниям. Один раз он даже попал в издательство, два месяца редактировался до идеального состояния и все-таки был возвращен – на всякий случай. Так он и не вышел за 30 лет.
Через год после того заседания Аверинцев летел на конференцию в Венгрию: дальше тогда не пускали. В самолете ему случилось сидеть рядом с Храпченко. Храпченко посмотрел на него проницательно и сказал: «А ведь неискренно покаялся тогда Гаспаров! неискренно!».
Я почти уверен: причиной всему было то, что в «Памятниках латинской литературы» слово «Бог» было напечатано с большой буквы. Это раздражало глаз Федосеева и других. Но теперь, кажется, наоборот, слово «Бог» полагается писать с большой буквы даже у Маяковского.
Так наказывают власти
Неумеренные страсти.
П. ПотемкинСамарин
В институте умер очередной директор, наступило междуцарствие. Все имена возможных кандидатов были какие-то слишком бледные. «А почему не Самарин?» – спросил меня мой знакомый историк. «Он не член партии». – «Странно, – задумчиво сказал мой собеседник, – его нужно бы принять в партию honoris causa». Позже я узнал, что Самарин все-таки был членом партии, но, кажется, вскоре после войны его исключили (не по политическим, а по морально-бытовым мотивам), чем, видимо, и объяснялась его сверхосторожность во всем – избегал любого риска.
Роман Михайлович Самарин заведовал в университете романо-германской кафедрой, а в институте мировой литературы зарубежным отделом. Круглый живот, круглая голова, круглые очки, гладкие волосы. Круглые движения и круглые слова. Западную литературу нам, античникам, изучать было необязательно, но на Самарина мы ходили: читал он красиво. «И вот Боэций с друзьями, сидя в саду, обсуждал диалоги Платона, а из-за ограды виллы слышались песни проходивших солдат на непонятном готском языке. Последний римлянин старался их не замечать; но за ними было будущее». О Боэции в это время мало кто знал даже понаслышке. Но писал Самарин очень мало и очень блекло. Он был карьерист, но осторожнее многих: помнил, что слова – серебро, а молчание – золото.
Он много знал не только о Боэции. В наш античный сектор хотел поступить Г. С. Кнабе – античник, он служил на кафедре немецкого языка во ВГИКе. Самарин этого не хотел. Мы думали, что по антисемитству (Кнабе евреем не был, но это неважно). Оказалось, нет. М. Е. Грабарь-Пассек пришла с ним к Самарину, я был при них, как секретарь сектора. Сели за тесный стол, и Самарин спросил: «Ну-с, так что с вами было такого-то июня 1944 года?» Выяснилось, что в этот день Кнабе поссорился с воксовским начальством и взял назад уже поданное заявление в партию. Дальнейший разговор был уже ненужным.
В самаринском отделе работал тогда еще молодой Г. Гачев; его отец только что был посмертно реабилитирован. Гачев писал о различном образе космоса в различных национальных сознаниях. «Как будто взбесившаяся газета заговорила языком Андрея Белого!» – тоскливо заметил С. Аверинцев. Но Самарин не любил Гачева за что-то другое. Обсуждалась его работа «Индийский космос глазами древних греков»: если ее не утвердят, то его уволят. Позвали меня как античника, спросили первым. Я сказал: по-видимому, хорошо и утверждения заслуживает, но, конечно, я не специалист и т. д. Самарин стал направлять дальнейшие прения: «Видите, так как античник не считает себя специалистом, то будем осторожны…» Когда он повторил это в третий раз, я сказал: «Еще раз: считаю, что заслуживает утверждения». Работу утвердили, но Гачева все равно уволили. В нашем античном секторе не было тогда заведующего, я больше года числился исполняющим обязанности. Мне сказали: «Директор давно хочет сделать вас заведующим, но Самарин против: он не прощает вам того гачевского заседания». Я не поверил. Но, видимо, это было так: когда меня наконец объявили заведующим, Самарин вызвал меня, встал из-за стола и зычно спросил: «Ну как, будем дисциплинированными?» Я сделал соответственное лицо и ответил: «Так точно!»
Он был родом из Харькова. В начале 1920-х годов там был хороший культурный центр, оттуда вышел А. И. Белецкий, друг моего шефа Ф. А. Петровского: украинский академик, мемориальный бюст у подъезда. Лет через десять после самаринской смерти я познакомился в писательском доме со старой, доброй и умной переводчицей А. Андрес (письма Флобера и пр.). Она тоже была из Харькова, хорошо знала отца Самарина – гимназический, а потом школьный учитель, это он сделал людьми всех, кто вышел из Харькова. О сыне она говорить избегала. Однажды она упомянула Белецкого. Я ничего не сказал, но она перебила себя: «Вы, верно, слышали, будто Роман Михайлович – незаконный сын Белецкого? Нет. Этот слух пустил сам Роман Михайлович уже после войны – потому что старый Самарин в 1942-м не успел эвакуироваться, оставался в Харькове при немцах и Роман Михайлович боялся, что ему, сыну, это испортит карьеру. А Белецкий появился в самаринском доме, когда Роману было уже лет четырнадцать». После этого я стараюсь о Самарине не вспоминать.
Соболевский
Античным сектором в институте заведовал Сергей Иванович Соболевский. Когда я поступил под его начальство, ему шел девяносто второй год. Когда он умер, ему шел девяносто девятый. Было два самых старых античника: историк Виппер и филолог Соболевский. Молодые с непристойным интересом спорили, который из них доживет до ста лет. Виппер умер раньше, не дожив до девяноста восьми. Виппер был хороший ученый, я люблю его старый курс греческой истории. Зато Соболевский знал греческий язык лучше всех в России, а может быть, и не только в России.
Он уже не выходил из дому, сектор собирался у него в квартире. Стол был черный, вроде кухонного, и покрыт газетами. Стены комнаты – как будто закопченные: ремонта здесь не было с дореволюционных времен. У Соболевского было разрешение от Моссовета не делать ремонта – потому что от перекладки книг с его полок может потерять равновесие и разрушиться весь четырехэтажный дом в Кисловском переулке.
Над столом с высочайшего потолка на проводе свисала лампочка в казенном жестяном раструбе. Соболевский говорил: «А я помню, как появились первые керосиновые лампы. Тогда еще на небе была большая комета, и все говорили, что это к войне. И правда, началась франко-прусская война».
Чехов для него был писатель непонятный. «Почему у него архиерей умирает, не дожив до Пасхи? жалко ведь!» «Анна Каренина» была чем-то вроде текущей литературы, о которой еще рано судить. Вот Сергей Тимофеевич Аксаков – это классик.
Он был медленный, мягкий, как мешок, с близорукими светлыми глазками; рука при пожатии – как ватная. Почерк тоже медленный, мелкий и правильный, как в прописях. Подпись – с двумя инициалами и до последней буквы с точкой на конце: С. И. Соболевский. Иначе – невежливо. Семидесятилетний Ф. А. Петровский расписывался быстрым иероглифом, похожим на бантик с фитой в середине, но что с него взять – молодой.
«Никогда не начинайте писем “уважаемый такой-то”, только “многоуважаемый”. Это дворнику я могу сказать: “уважаемый”».
Античных авторов он читал, чтобы знать древние языки. Когда нужен был комментарий о чем-то кроме языка, он писал в примечании к Аристофану: «Удод – такая птица». О переходе Александра Македонского через снежные горы: «Нам это странно, потому что мы привыкли представлять себе Индию жаркой страной; но в горах, наверное, и в Индии бывает снег». О «Германии» Тацита: «Одни ученые считают, что Тацит написал “Германию”, чтобы предупредить римлян, какие опасные враги есть на севере; другие – что он хотел показать им образец нравственной жизни; но, скорее всего, он написал ее просто потому, что ему захотелось». Две последние фразы – из «Истории римской литературы», которую мне дали редактировать, когда я поступил в античный сектор; я указал на них Ф. А. Петровскому, он позволил их вычеркнуть.
«Вот Соломон Яковлевич Лурье пишет, что Евангелие похоже на речь Гая Гракха: «У птиц – гнезды, у зверей – норы, а человеку нет приюта». Ну и что? Случайное совпадение. Если Евангелие на что и похоже, то на Меморабилии Ксенофонта», – говорил он. И правда.
Из античных авторов он выписывал фразы на грамматические правила, из фраз составлял свои учебники греческого и латинского языка – один многотомный, два однотомных. Фразы выписывались безукоризненным почерком на клочках: на оборотах рукописей, изнанках конвертов, аптечных рецептах, конфетных обертках. Клочки хранились в коробках из-под печенья, из-под ботинок, из-под утюга – умятые, как стружки. Он был скуп.
«Какая сложная вещь язык, какие тонкие правила, а кто выдумал? Мужики греческие и латинские!»
Библиотеку свою, от которой мог разрушиться дом, он завещал Академии наук. У Академии она заняла три сырых подвала с тесными полками. Составлять ее каталог вчетвером, по два дня в неделю, пришлось два года. Среди полных собраний Платона ютились пачки опереточных либретто 1900 г. – оказывается, был любителем. В книгах попадались листки с русскими фразами для латинского перевода. Некоторые я запомнил: Недавно в нашем городе была революция. Люди на улицах убивали друг друга оружием. Мы сидели по домам и боялись выходить, чтобы нас не убили.
«Преподавательское дело очень нелегкое, – говорил он. – Какая у тебя ни беда, а ты изволь быть спокойным и умным».
Была там и мелко исписанная тетрадка, начинавшаяся: «Аа – река в Лифляндии… Абак… Аббат…» Нам рассказывали: когда-то к нему пришел неизвестный человек и сказал: я хочу издать энциклопедию, напишите мне статьи по древности, я заплачу. – «А кто будет писать другие разделы?» – «Я еще не нашел авторов». – «Давайте я напишу вам все разделы, а вы платите». Так и договорились: Соболевский писал, пока заказчик платил, – кажется, до слова «азалия».
Когда ему исполнилось девяносто пять, университет подарил ему огромную голову Зевса Отриколийского. «И зачем? Лучше бы уж Сократа». За здоровье его чокались виноградным соком. От Академии пришел с поздравлением сам Виноградов, он жил в соседнем доме. Оказалось, кроме славянской филологии в духовной академии Виноградов слушал и античность у старого Зелинского на семинарах-privatissima и помнил, как Зелинский брызгал слезами оттого, что не мог найти слов объяснить, почему так прекрасна строка Горация. С Соболевским они говорили о том, что фамилию Суворов, вероятно, нужно произносить Су’воров, Souwaroff: «сувор» – мелкий вор, как «сукровица» – жидкая кровь.
«А Сергей Михайлович Соловьев мне так и не смог сдать экзамен по греческому языку». Это тот Соловьев, поэт, который дружил с Белым, писал образцово-античные стихотворения и умирал в мании преследования: врач говорил: «Посмотрите мне в глаза. Разве мы хотим вам дурного?», а он отвечал: «Мне больно смотреть людям в глаза».
Работал Соболевский по ночам под той самой лампой с жестяным абажуром. В предисловии к переводу Эпикура он писал: «К сожалению, я не мог воспользоваться комментированным изданием Гассенди 1649 г. …В Москве он есть только в Ленинской библиотеке, для занятия дома оттуда книг не выдают, а заниматься переводом мне приходилось главным образом в вечерние и ночные часы, имея под рукой все мои книги… Впрочем, я утешаю себя той мыслью, что Гассенди был плохой эллинист…» и т. д.
В институте полагалось каждому составлять планы работы на пятилетку вперед. Соболевский говорил: «А я, вероятно, помру». Когда он слег и не мог больше работать, то хотел подать в отставку, чтобы не получать незаслуженную зарплату. Петровский успокаивал его: «У вас, Сергей Иванович, наработано на несколько пятилеток вперед».
Он жил неженатым. Уверяли, будто он собирался жениться, но невеста перед свадьбой сказала: «Надели бы вы, Сергей Иванович, чистую рубашку», – а он ответил: «Я, Машенька, меняю рубашки не по вторникам, а по четвергам», и свадьба разладилась. Ухаживала за ним экономка, старенькая и чистенькая. Мы ее почти не видели. Лет за десять до смерти он на ней женился, чтобы она за свои заботы получила наследство. Когда он умер, она попросила сотрудников сектора взять на память по ручке с пером из его запасов: он любил писчие принадлежности. Мне досталась стеклянная, витая жгутом, с узким перышком. Я ее потерял. Правда потом, после публикации этих воспоминаний, мне специально привезли такую же из Венеции.
Сталинская премия
Есть такая награда – Государственная премия Российской Федерации: отдельно за литературу и искусство и отдельно, кажется, за науку и технику. При Сталине она называлась Сталинской премией, после Сталина – Государственной премией СССР, а после СССР все запутались и уже не помнили, откуда она взялась и что значит. Получали ее идейно выдержанные писатели и артисты, иногда хорошие, иногда плохие.
Было «общество независимой интеллигенции» под названием «Мир культуры». В нем числились писатели Фазиль Искандер, Андрей Битов, композитор Шнитке, режиссер Любимов, Аверинцев, академик Лихачев, митрополит Питирим, а дела делали люди менее знаменитые и мало мне знакомые. Я думал, что оно давно развалилось, а оказалось, оно еще существовало. Когда я был в американской командировке, мне позвонила жена и сказала, что «Мир культуры» выдвинул меня на Государственную премию. Я сказал: «С ума они сошли». Выдвигать можно было работы последних лет, а у меня таких работ было всего лишь научно-популярная книжка по занимательному стихосложению и перевод с латинского стихов Авсония со статьей и комментарием; Кто такой Авсоний, об этом даже среди филологов знал не всякий.
Кто присуждал премии, я не знаю. Список награжденных оказался пестрым. Там были эстрадная звезда Алла Пугачева, руководитель иконописной школы архимандрит Зинон, старый фронтовой поэт Юрий Левитанский, православный композитор Свиридов и Лидия Чуковская (за «Записки об Ахматовой» – бывшая Сталинская премия!); там же оказался и я. Позвонили по телефону, сказали жене: 7 мая будут торжественно вручать аттестаты. «Где?» – «В Георгиевском зале». – «Где это?» С презрением в голосе объяснили: в Кремле. «У вас, конечно, есть машина?» – «Нет». – «Тогда за вами заедут».
Приехала широкая рассидистая машина, в ней сопровождающая дама. При въезде в Кремль – вдали видны огромные буквы «Россия»: это на гостинице в Зарядье. При входе в зал – картина во всю стену, вроде очень пестрой гигантомахии: кони, кольчуги и луки, видимо Ледовое побоище или Куликовская битва. В зале скамьи обтянуты георгиевскими цветами, рыжим и черным, чтобы сидеть на них задом. «Вон – три микрофона, средний с орлом – президентский, когда вызовут – подойдите туда, а для ответного слова – к правому». От мысли об ответном слове («две-три фразы!») мне стало нехорошо. Постепенно набирался народ: мешковатый седой Левитанский; режиссер Покровский с носом, как хобот; «вон в первом ряду – кудрявые затылки: рыжий – это Пугачева, а черный – Киркоров».
Полный свет, музыка-туш, входит Ельцин с калашной улыбкой, все встают, как перед учителем. Перед орленым микрофоном он читает одобрительные слова: сперва обо всех («почтить высший смысл жизни и ее предназначение…»), потом о каждом. Поэт Владимир Соколов – съеженный, с палочкой и бабочкой – получает Пушкинскую премию и говорит ответные слова: «Пушкин с нами всегда…». За Чуковскую получает премию и говорит за нее речь ее дочь: «В своих записках я старалась создать образ Ахматовой…» Каждому – красный диплом, коробка с орлом, рукопожатие сверху вниз, цветы, поворот в фас, вспышка фото, музыка-туш, аплодисменты. Ельцин – крупный и тяжелый, лауреаты рядом кажутся маленькими (у Гоголя о Собакевиче сказано: «похож на средней величины медведя»). Запнулся на ударении: «икόнопись? иконопи́сь?» – из публики подсказывают, но неправильно. К дамам наклоняется и целует в щечку. Кругленькая архитекторша, возвращаясь на свое место, удовлетворенно говорит: «Теперь неделю не буду умываться». Маленькая высохшая Юлия Борисова, которая играла Клеопатру, роняет медаль и падает, путаясь в длинном платье: она больна, ее недавно избили хулиганы на улице. Толстая Пугачева, лицо – как розовая маска, мини-юбка и легионерские ремни по голеням, говорит: «Эта премия – олицетворение народной любви…» – и жертвует ее пострадавшим от сахалинского землетрясения. Только Левитанский сказал неположенное: «Я был на двух войнах, и мне горько, что эту премию мне дают, когда идет третья…» Третья – это чеченская.
Заключительное слово Ельцина: «Вы должны возрождать великую духовность России…» Я записал.
Когда меня поставили к микрофону, я сказал: «Когда я начинал, моя отрасль филологии была несуществующей – идейно подозрительной. Теперь, как я понял, стиховедение получило государственное признание: я благодарен от лица всех ученых, которые им занимаются. Премию получила книга переводов из латинской поэзии. Пушкин сказал: переводчики – почтовые лошади просвещения; я чувствую себя вот такой лошадью, которой после очень большого перегона засыпали овса». Кроме пушкинского, у меня на уме был другой подтекст, из Гумилева: «Мой биограф будет очень счастлив, будет улыбаться два часа, как осел, перед которым в ясли свежего насыпали овса…» – но я его не подчеркивал. Так как это была единственная шутка за всю церемонию, то ее показали в «последних известиях» по телевизору; потом меня поздравляли с фразой про овес. А когда говорили «поздравляем с премией!», я отвечал: «со Сталинской!», и поздравлявшие смущались.