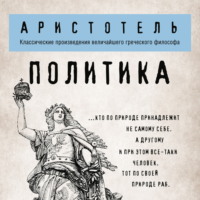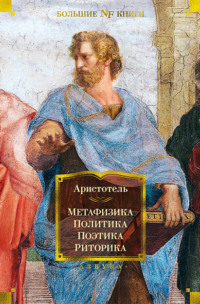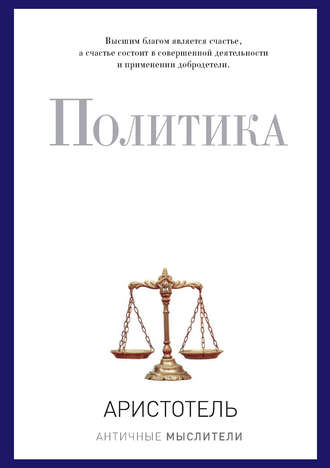
Полная версия
Политика (сборник)
Каллисфен, будучи учеником Аристотеля, занимался исследованием явлений природы и записывал свои наблюдения, доставляя Аристотелю материал для выводов. Таким образом связь Каллисфена с Аристотелем была, так сказать, органическая – кровная. Легко понять, что должен был перечувствовать Аристотель, узнав, что Каллисфен погиб от руки его царственного ученика.
Софисты и льстецы сердились на Каллисфена за то, что молодежь увлекалась его красноречием; любили его и пожилые люди за глубину его мыслей, умеренность и правильность образа жизни. Каллисфен был родом из большого и цветущего города Олинфа, разрушенного Филиппом. Аристотель убедил его сопровождать Александра в Азию, обещая добиться от Александра восстановления его родного города и возвращения на родину его сограждан. Каллисфен не скрывал истинной цели своего пребывания в Македонии. В характере Александра в то время произошли уже резкие перемены, которые не нравились независимому философу; он часто отказывался от царских приглашений, а когда бывал у царя, то всегда смотрел на него мрачными глазами и хранил глубокое молчание. Александр чувствовал и имел полное основание подозревать, что Каллисфен не одобряет его образа жизни и поступков. Это сдержанное глубокое недовольство было острым ножом для Александра; он говорил: «Я ненавижу мудреца, у которого не хватает мудрости пересилить самого себя».
Мы говорим, что Каллисфен был нервом, соединявшим Аристотеля с Александром. В отношениях Александра к Каллисфену проявлялось до некоторой степени то, что испытывал он к Аристотелю. Мы сказали, что Каллисфен вырос в доме Аристотеля и был не только его учеником, но также и воспитанником. Но он был значительно моложе Аристотеля и на беду свою, как мы видели, отличался меньшею сдержанностью.
Плутарх рассказывает, что однажды у царя македонского было, по обыкновению, много гостей, в числе их невольный собеседник и гость Каллисфен. Когда Каллисфену подали кубок с вином, то все стали его просить сказать хвалебную речь македонянам. Он выполнил это со своей полугрустной, полупрезрительной улыбкой, но говорил так хорошо, что вызвал неистовые рукоплескания. Гости не могли усидеть на своих местах и забросали его венками. Но царь ему заметил: «На богатую тему нетрудно хорошо говорить, не так легко тебе было бы сказать что-нибудь против нас. А может быть, это было бы полезней, послужило бы к нашему исправлению». Каллисфен согласился и на это; откровенно и смело выставил он недостатки македонян, сказал, что могущество Филиппа целиком создано раздорами греческих государств между собой и заключил свою речь стихом из Эврипида: «В мятежное и смутное время возвыситься могут и злейшие люди». Эта речь возбудила к нему ненависть. Александр сказал: «Всем этим ты убедил нас больше в своей к нам ненависти, чем в ораторском таланте».
Термин, уроженец Смирны, написавший биографию Аристотеля, свидетельствует, что все это с мельчайшими подробностями сообщено было Аристотелю Стрэбом, чтецом Каллисфена. Тот же Стрэб писал Аристотелю, что Каллисфен, заметя сильный гнев Александра, три раза подходил к нему, говоря: «Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный». Аристотель, зная характер Александра, ужасался безумной смелости Каллисфена и совершенно ее не одобрял. Это объясняется не одной житейской опытностью, какою в то время обладал Аристотель, но теми воззрениями на нравственность, с какими мы познакомимся в этике Аристотеля. Основным правилом этики Аристотеля было: «Ничего через меру». Поступки же Каллисфена прямо противоречили этому правилу. Каллисфен, хотя и был воспитан Аристотелем, все хватал через край и потому погиб. Это, может быть, еще более убедило Аристотеля в справедливости его нравственных воззрений. Во всех других отношениях Каллисфен мог служить и служил представителем Аристотеля при македонском дворе. И к науке, и к философии, и к Александру Македонскому он относился так же, как и сам Аристотель.
Нам остается теперь дополнить несколькими чертами историю отношений Аристотеля и Александра Македонского, которых мы коснулись в первой главе. Приехав в Македонию по приглашению друга своего Филиппа Македонского, Аристотель деятельно принялся за воспитание Александра. Молодой Александр был замечательно щедро одарен от природы. Несокрушимая сила уживалась в нем с большою нежностью и восприимчивостью. Плутарх рисует его живым и целомудренным юношей. Он вскоре всей душой привязался к Аристотелю и говорил сам, что любил Аристотеля не меньше родного отца; отец дал ему жизнь, Аристотель же учил его жить хорошо и любить добродетель. История не сохранила подробностей воспитания великого монарха великим философом, но можно себе представить, какие чувства внушал Аристотель своему питомцу. Он сам в то время был проникнут живейшей ненавистью к Персии и был убежден в гибельности персидского ига для цивилизованных народов. Он сознательно и бессознательно разжигал честолюбие в своем ученике и внушал ему ненависть к Персии. Александр не расставался с «Илиадой» Гомера, и любимым его героем всегда был Ахилл. Любовь к Гомеру была так велика и постоянна, что он и в позднейшие годы никогда не расставался с этою книгою, даже во время походов держал ее у себя днем под седлом, а ночью под изголовьем. Аристотель дал чисто энциклопедическое образование Александру, сообщил ему свои медицинские познания и развил вкус к исследованиям природы. Известно, что Александр впоследствии лечил своих приближенных. Александр рос и развивался не по дням, а по часам и по смерти отца своего вступил на престол двадцати лет от роду. Афинские демагоги ожили и подняли свои головы при известии о смерти Филиппа. В Афинах презрительно относились к молодости Александра, который говорил: «Демосфен называет меня ребенком; под стенами Афин я покажу ему, что я теперь вырос и возмужал». Действительно, афиняне это скоро почувствовали, и надежда на освобождение их покинула снова. Первые шаги Александра на поприще монарха Македонии были не только блестящи, но и прекрасны. Аристотелю выпало в то время на долю счастье видеть, как все посеянное им в душе ученика прекрасно взошло. Мы знаем, что Александр осыпал милостями своего учителя и тратил большие суммы для доставления ему богатых коллекций редких животных, растений и минералов. Любовь его к науке была настолько известна, что покоренные им народы подносили ему свои астрономические наблюдения, которые он передавал Каллисфену для пересылки их Аристотелю. Аристотель с глубокою страстью предавался своим наблюдениям, исследованиям и размышлениям в то время, как от руки его ученика падали городские стены; и в ушах Стагирита постоянно раздавался несмолкаемый гром побед македонского государя. Не так легко было Аристотелю покорять умы афинян. Перед ним преклонялись, у него действительно учились немногие. Семья перипатетиков была не особенно велика. Философия Аристотеля, как мы сказали, заключала в себе чуждый элемент для афинян – естественно-научную подкладку. Она туго принималась и росла, как сосна, пересаженная из песчаной почвы в черноземную. Слава Александра между тем все увеличивалась, но в то же время сверхъестественные успехи, лесть и поклонение его опьяняли. Он редко приходил в себя, и до Аристотеля все реже и реже доносился его человеческий голос. Радуясь победам его в Персии, Аристотель сокрушался, что победитель покорялся сам персидским нравам.
Мало-помалу Аристотель совершенно охладел бы к Александру, если бы глубокая привязанность к ученику не была вырвана из души его с корнем, оставив, конечно, в ней глубокую, неизлечимую рану. Нибур говорит: Александр в юности был бесспорно привязан к Аристотелю; в этом нет ничего удивительного: тигренок и львенок также лижут руки у тех, кто ухаживает за ними в детстве, и это продолжается до тех пор, пока не разовьется в них зверство. То же можно сказать об Александре: удачи и постоянные войны превратили в зверя этого по природе своей совершенного человека. Добросовестные историки свидетельствуют единогласно, что никаких изображений Александра не уцелело, сохранилось только следующее описание его наружности: черты лица его были чрезвычайно тонки и правильны; цвет лица матовый, нежный; орлиный нос, живые, огненные большие глаза и белокурые вьющиеся волосы; он был среднего роста, строен и гибок. Его тело отличалось удивительной пропорциональностью и крепостью, мускулы его были хорошо развиты упражнением. Слух у него был тонкий, голос сильный и звучный. От всего его тела, белого и нежного, распространялся какой-то удивительный аромат. Он высоко держал свою голову, слегка наклоняя ее к левому плечу, по свидетельству других – к правому. В глазах его, однако, замечалось какое-то неправильное движение, говорившее о его чрезмерной, безумной любви к славе. Такое описание служит доказательством удивительной наблюдательности греков и рисует нам Александра лучше, чем всякий портрет. Можно себе представить, какое сильное впечатление производил Александр на своих современников, когда даже спустя много лет его набальзамированное тело внушало восторг Юлию Цезарю и Августу. Цезарь признался, что для него это было самое интересное в Александрии, Август же вынул его из гроба, надел ему на голову золотую корону и осыпал его цветами. Власть Александра над людьми заключалась в обаянии его необыкновенной личности.
После смерти Каллисфена сношения Александра с Аристотелем были столь же редки, сколь и тягостны для них обоих. Глубокое молчание обеих сторон говорило яснее слов о том, что происходило в душе каждого из них. В Александре было столько хорошего, что он не мог не чувствовать угрызений совести; необходимо же было чем-нибудь их заглушать, и болезненная жажда ослепительной славы все росла и росла. По временам сознание освещало ему мрак земли могильной; в такие минуты он, конечно, любил Аристотеля, но он, разумеется, избегал их, потому что тогда перед ним всплывали образы его жертв: Клита и Каллисфена!
Из биографии Аристотеля ничего не известно о его сношениях с Александром в последние годы жизни царя; однако, видно, что философ находился в постоянном общении с лицами, приближенными к македонскому государю. Полководец Александра Антипатр был другом Аристотеля; мы видели, что философ поручил Антипатру исполнение своей последней воли, сделав его своим душеприказчиком. Александр под конец своей недолгой жизни (он жил тридцать три года) перестал надеяться на покровительство богов и сделался подозрительным и недоверчивым ко всем, кто считал его человеком, а не богом. Более всех он опасался Антипатра и его сыновей; младший из них, Кассандр, только что прибыл из Афин, где, очевидно, находился в тесных сношениях с Аристотелем. Кассандр, увидев, как персы падают в ноги Александру, громко рассмеялся, потому что, получив воспитание в Греции, он никогда не видел ничего подобного. Александр рассердился, схватил его за волосы и сильно ударил об стену. Когда Кассандр назвал клеветниками каких-то македонян, приехавших издалека, Александр заметил: «Кто же поедет так далеко, чтобы без малейшего основания клеветать на твоего отца». Находчивый Кассандр отвечал: «Для этого и надо было уехать подальше, ведь на месте их легко было бы уличить во лжи». Александр, услышав такой ответ, сказал с презрительным смехом: «Вот образец софизмов учеников Аристотеля, они одинаково хорошо умеют говорить и за и против». И это был последний дошедший до нас отзыв великого завоевателя о своем учителе. В оправдание ему можно сказать, что он тогда находился уже в ненормальном состоянии. Плутарх говорит, что Александр в то время весь свой досуг проводил в гадании, при этом он сильно волновался и самые незначительные вещи считал чудом и худым предзнаменованием…
Бессмертный учитель и бессмертный ученик живут и теперь в памяти людей, но представляют резкие примеры двух видов бессмертия. Александр Македонский жил так, как будто чувствовал, что каждому его слову и движению предназначено жить в потомстве; это была не жизнь, а какая-то бессмертная драма жизни, у которой автор и исполнитель – одно лицо. Деятельность Александра не оставила ни малейшего следа даже в самом ближайшем к нему будущем, но его жизнь врезалась в память людей. Писать биографии Александра находилось всегда бесчисленное множество охотников. Аристотель в этом отношении был далеко не так счастлив; его жизнь известна не только менее жизни Александра, но о ней знают немногое сравнительно с жизнью Сократа и Платона, может быть потому, что Аристотель завещал потомству не свою жизнь, а свои мысли, жизнь же его послужила только простым и прочным пьедесталом для такого рода бессмертия.
Глава III
Общий характер философии Аристотеля и сравнение ее с философией Платона. – Логика Аристотеля. – Реальное знание согласно Аристотелю. – Физика. – Астрономия. – Метеорология. – Учение об органической природе
В философии Аристотеля нужно отличать критический разбор учений, ему предшествовавших, от развития его собственной философии. Бэкон утверждал, будто Аристотель разбирал мысли прежних философов единственно для того, чтобы их опровергнуть и затем одному безраздельно владычествовать в науке и в философии. Но это неверно; великий Стагирит не обладал таким безграничным честолюбием, как великий канцлер. Критические разборы Аристотеля отличаются сдержанностью и справедливостью; он не искажает мыслей своих предшественников, а стремится дать о них верное понятие. Потомство оценило такое отношение Аристотеля к философии древних. Сочинения Аристотеля служили и служат лучшим источником сведений о греческих философах. Прежние учения сделались основой его собственного вполне самобытного учения; последнему суждено было бессмертие в будущем также и потому, что оно было органически связано с прошлым.
Аристотель, как и предшественник его Платон, имел самое возвышенное мнение о назначении философии. В первых книгах своей «Метафизики» он говорит: философия есть наука, имеющая предметом исследование первых начал и причин вещей или сущности явлений. Многие науки нужнее философии, но она выше всех наук. Все другие знания имеют целью удовлетворение нужд житейских, а философия чужда всякой корысти. Она зарождается в то время, когда добыты средства для удовлетворения физических потребностей. Источник философии – это наше стремление постигнуть все непонятное и поразительное силою мысли. Впрочем, сочинение Аристотеля собственно о философии, в котором он излагал подробно свои понятия об этой науке, потеряно.
Аристотель, соглашаясь с Платоном, что предмет философии – исследование сущности вещей, расходился со своим учителем в определении последней. У Платона сущность вещей отделялась от них самих и обитала в царстве вечных и неизменных идей. В глазах Аристотеля сущность вещей и явлений заключалась в них самих; исследуя эти явления, наука составляет общие понятия, устанавливает начала и через сочетания их образует свои теории и доказательства. Платон утверждал, что всякое явление только затемняет, портит свою идею; Аристотель же, наоборот, говорит: «Каждое явление проникнуто идеей и служит живым ее выражением». Платон, не выходя из идеального мира, не объяснял явлений; Аристотель первый поставил новую задачу философии: исходить из общих начал для объяснения частных явлений.
Наконец Аристотель отделил в философии науку о явлениях внешнего мира от учения о нравственности. Этим он оказал величайшую услугу знанию. Указав философии новую цель, Аристотель дал ей и средства для достижения этой цели, которые заключаются в его логике. В сочинениях его, относящихся к логике, он рассматривал различные формы нашего мышления («Категории», «Об истолковании», «Первая аналитика»), способы доказательств, или логический метод («Вторая аналитика»).
В «Первой аналитике» Аристотель подробно объясняет образование понятий, суждений и умозаключений и перечисляет их различные виды. Он говорит: каждый предмет или имеет данные свойства, или их не имеет. Эти свойства, или общие понятия, которые мы находим или не находим в данных вещах, Аристотель называет категориями; он насчитывает их десять, а именно: категории бытия, количества, качества, отношения, времени, места, положения, владения, действия и страдания. Первой из этих категорий обусловливается самое значение подлежащего и сказуемого, соединяем ли мы их или разделяем. От утвердительного или отрицательного соединения подлежащего и сказуемого происходят суждения, умозаключения, или силлогизмы. Во «Второй аналитике» Аристотель дает учение о доказательствах[2]. Задача науки, по Аристотелю, есть познание причин явлений; объяснять явления – значит выводить их из необходимых причин, служащих им основанием, это и называется доказывать. Наука есть знание, основанное на доказательствах, в которых подлежащему приписывается известное сказуемое на основании причины, почерпнутой из наблюдения. Но знание, основывающееся на доказательствах, требует чего-нибудь несомненного, иначе доказывать пришлось бы без конца. Аристотель различает два рода знания: непосредственное и посредственное; первое относится к высшим началам и к чувственному восприятию, второе состоит в доказательстве с помощью умозаключений. Начала, или аксиомы, не могут быть выведены из чего-нибудь более несомненного; в таком случае они не были бы началами. Однако и для них возможно находить основание – оправдывать их принятие. Наведение[3] состоит в восхождении от частного к общему, от известного нам к известному всем и каждому, одним словом, к началу. Доказывание и наведение являются, таким образом, процессами обратными и образуют научное знание. Истина всегда и везде устанавливается не наблюдением, а размышлением, наблюдение же убеждает нас в действительном существовании истины, то есть в присутствии ее в данных явлениях. Из сказанного легко усмотреть, как объяснял Аристотель происхождение знания. Он говорил, что прежде всего необходимо отличать возможность (потенцию) от действительности. В качестве возможности (способности) наш ум содержит в себе все общие понятия; в действительности же он обладает ими, когда их приобретет. Отношение между возможным и действительным знанием Аристотель объясняет примером, сравнивая возможное знание с чистою доской, а действительное с доскою исписанною. Последователи Аристотеля дали ложное толкование этому примеру и заключили, что Аристотель относил происхождение нашего знания исключительно к внешнему миру. Но есть основание думать, что Аристотель своим примером хотел только сказать: мы не родились на свет с готовыми понятиями; они образуются впоследствии, обусловливаясь и свойствами нашего ума, и влиянием внешнего мира.
Платон совершенно иначе объяснял происхождение идей, то есть высших понятий, на которых основывается философское знание. Если мы сравним этот взгляд Платона с приведенными нами воззрениями Аристотеля, то увидим, как далеки мы в настоящее время от первого и близки ко вторым.
Начала знания согласно Аристотелю двоякие: формальные (логические) и реальные. Главное между формальными началами, или аксиомами есть закон противоречия, с которым сопряжено так называемое начало исключенного третьего. Но формальные начала не могут дать определенного содержания исследованиям, они представляют собой только орудия, которые для создания чего-нибудь нуждаются в материале; последним служат реальные начала, свойственные каждому особенному роду предметов исследования. Общие формальные начала во всех науках одни и те же, но предметы их различны; это различие относится и к реальным началам. Из всего этого видно, что Аристотель совершенно правильно понимал значение логики, для которой так много сделал. Но судьба всех мыслей Аристотеля, как мы увидим дальше, заключалась в превратном толковании их. Философы Средних веков стремились доказывать то, в чем можно было убедиться только опытом и наблюдением, и думали, что следуют наставлению Аристотеля. Аристотель же утверждал со свойственной ему ясностью и определенностью, что мышление приспособлено к тем законам, которые управляют миром, и находится с ними в полной гармонии; первое он ставил выше законов природы.
Логика Аристотеля состоит из шести трактатов, из которых некоторые в древности и в Новое время неосновательно признавались подложными; эти трактаты следующие: 1) «Категории»; 2) «Об истолковании»; 3) две книги «Аналитики», или так называемый трактат о силлогизме; 4) две книги «Второй аналитики», или трактат о доказательстве; 5) трактат о диалектике и 6) «О софистических опровержениях». Все эти сочинения известны под общим названием аристотелевского «Органона». Это название не принадлежит самому Аристотелю. Мы видели, что в философии своей Аристотель дает надлежащее место логике и строго различает два источника знания: законы логики и наблюдение действительности. Но предписывать правила всегда легче, чем их выполнять. Сознание какой-нибудь истины всегда предшествует применению ее к практике. Этого общего закона не избегнул и Аристотель. Дело в том, что в применении какой-нибудь истины на деле человек всегда повинуется привычке. Рассматривая деятельность Аристотеля в области физики и естественных наук, мы увидим, что он нередко сам действует в духе своих предшественников и вопреки собственному мнению. Сверх того, нельзя не признать справедливым мнение Вундта, что в самых основных метафизических воззрениях, взятых в целом, между Платоном и Аристотелем замечается гораздо больше сходства и согласия, чем противоречий. Не сами идеи, не бытие понятий отрицает Аристотель; он отрицает лишь отделимость этого бытия от материи.
Говоря о логике Аристотеля, нам следует привести его учение о силлогизме.
По определению Аристотеля, силлогизм есть такое общее предложение, которое, после установления известных частных предложений, выводит заключение, отличное от этих предложений, но не содержащее никакой не заключающейся в них идеи. Так, все дурные люди жалки; всякий тиран – дурной человек: следовательно, все тираны жалки. Аристотель дал нам анализ шестнадцати форм силлогизма, который в настоящее время с логической точки зрения признается удовлетворительным.
Мы не войдем в подробное рассмотрение этого капитального сочинения Аристотеля, которое одно могло бы сделать имя его бессмертным, но приведем суждение о нем самого великого творца: «Пытаясь создать науку о суждениях, мы не могли воспользоваться трудами предшественников; все сделано нашими собственными усилиями. Поэтому, если только вы не поставите это сочинение далеко ниже сочинений по другим наукам, созданным трудами целого ряда поколений, вы снисходительно отнесетесь к недостаткам нашего труда и почувствуете признательность за обнародованные открытия».
Вольтер для того чтобы дать понять всем и каждому, что сделал Аристотель в области логики, приводит одно весьма сомнительное рассуждение Платона о бессмертии души и рассматривает его с точки зрения аристотелевской логики, доказывая его полную несостоятельность. Мы считаем также уместным привести мнение Шопенгауэра об Аристотеле, хотя оно относится и не к одной логике.
Шопенгауэр, принимая во внимание самый способ изложения предмета, находит большое различие между Платоном и Аристотелем. Он говорит, что Платон представляет и характером своего мышления, и способами изложения своих мыслей нечто совершенно противоположное Аристотелю. Платон не выпускает из своих железных рук главной мысли, прослеживает нить последней, как бы тонка она ни была, во всех ее разветвлениях. Такое изложение свидетельствует о том, что он, прежде чем писать, строго и в подробностях обдумывал свои сочинения. Поэтому каждый диалог Платона представляет удивительно цельное, связное развитие главной мысли, освещаемой примерами и подкрепленной многочисленными ссылками. Такая склонность Платона к образцовой диалектике могла послужить к недовольству Аристотелем в этом отношении, и нам нисколько не удивительно, что Платон несколько раз выражал это свое недовольство в резкой форме. Слова Шиллера о «ширине» и «глубине» лучше всего выражают противоположность Аристотеля и Платона. Несмотря на свое стремление к наблюдению и опыту, Аристотель не мог сделаться последовательным и систематическим эмпириком; этим и объясняется борьба с ним творца современного эмпиризма Бэкона. В сочинениях Аристотеля о природе мы видим стремление построить естественные науки, например химию, из понятий отвлеченных. Бэкон вооружился против этого и указал на новый источник знания – на опыт и на наблюдение. Попытки Аристотеля выдумать то, что необходимо изучить, теперь возбуждают наше сожаление и смех. Эти сочинения Аристотеля о природе послужили основанием схоластики. Немудрено, что с таким желанием предписать природе созданное собственной фантазией Аристотель утверждал, будто звезды прикреплены к небесному вращающемуся своду, свет и тепло являются следствиями вращения, Земля же находится в безусловном покое. Эти взгляды трудно простить Аристотелю, потому что пифагорейцы еще ранее высказывали более правильные представления о виде, положении и движении Земли. Мы видим также, что Аристотель восставал против Эмпедокла, Гераклита и Демокрита, имевших более верное представление о природе, чем он сам. Знание близких к истине воззрений древних, однако, могло бы предохранить нас от многих ошибок, в которые вовлек нас Аристотель. Известная система Птолемея вся построена на взглядах Аристотеля, которыми человечество довольствовалось до начала XVI столетия; между тем она больше служила религии, чем науке: религия не могла обойтись без вещественного неба, которое было отнято у нее астрономией. Копернику, Галилею, Кеплеру не пришлось бы так пострадать, если бы Аристотель справедливее отнесся к древним, беспристрастно наблюдавшим природу. Но можем ли мы, строго говоря, винить в этом Аристотеля?..