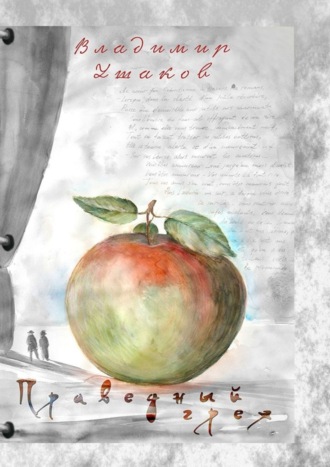
Полная версия
Праведный грех
Меня поразило выступление в Культурном центре советской делегации девочки-гимнастки, совсем подростка. Она делала сальто на шесте, который держали на плечах два гимнаста.
Три дня спустя Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и ещё несколько артистов, в том числе певец из Большого театра, выступали на палубе Большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) перед сотнями советских и кубинских рыбаков. И пели песни три или четыре часа подряд.
Не каждый день выпадает увидеть собственными глазами звёзд нашей эстрады Кобзона и Лещенко. Отец мой на концерте не был, поскольку дежурил в представительстве, но рассказывал, что советские и кубинские рыбаки и портовые работники были в восторге от выступления советских артистов и долго не отпускали их, аплодировали.
Перед отъездом на родину советской делегации кубинцы преподнесли её членам ценные подарки. Иосифу Кобзону подарили громадное чучело черепахи Сarey, панцирь которой идёт на изготовление украшений для модниц. А через несколько дней я увидел девочку-акробатку из центра уже на международном карнавале, когда она проходила в составе советской делегации с показательными выступлениями по набережной Гаваны el Malecon – Малекон. Шествие многочисленных иностранных делегаций и живописных, красочных кубинских карросас с танцующими на них артистами, разодетыми в национальные костюмы, растянулось на несколько часов. Так было красиво! Необычно. Стоял такой шум! Столько музыки!
Был поздний вечер. Страшная жара, влажность. А советской делегации всё нет и нет. Мы устали даже просто стоять. И наконец выходят наши. Эта девочка стала перед центральной трибуной вытворять такое! Такие делать кульбиты на тонюсеньком шесте! Мы ещё тогда в центре со страхом на неё смотрели – боялись, что она промахнётся или сорвётся с шеста и упадёт на землю. А здесь она выступала на асфальте!
Мы затаили дыхание, молясь, чтобы она не разбилась. Бог миловал – всё закончилось благополучно. Но какая смелая и рисковая была наша гимнастка-акробатка. Меня пробирала гордость за неё. Вот какие мы, русские!
После фестиваля отец нам рассказывал, как кубинцы сорвали провокацию делегаций некоторых западных стран, в частности англичан, которые хотели на фестивале пройти под флагами проституции, наркотиков, лесбиянства. Но кубинцы сказали «на ушко» организаторам провокаций, чтобы они особенно не удивлялись, если кто-то из них выпадет случайно с шестого этажа гостиницы или на полном ходу из автобуса. И кубинцы, папа говорил, их так обработали, что почти все члены английской делегации и других, которые хотели сорвать фестиваль, не сделали ничего предосудительного и даже добровольно сдали в конце фестиваля свою кровь как доноры. Кубинцы, чтобы их не обидеть, кровь взяли, но русским сказали, что всё равно их кровь они пустят только на технические нужды.
В завершение фестиваля мы попали на гала-концерт советской делегации в роскошном Театре Карла Маркса. Мы – папа, мама и я – сели на первом ряду бельэтажа. Дверь на балконе распахнулась. В окружении охраны в зал вошли Фидель Кастро и руководители советской фестивальной делегации. Зал встал и долго им рукоплескал.
Когда Фидель садился (в одном с нами ряду, только через проход), напротив мамы расположился дюжий телохранитель с пистолетом в накладном кармане нарядной, расписной guayabera – праздничной кубинской рубашки навыпуск.
Желая лучше разглядеть Фиделя Кастро, мы с отцом сделали было шаг вперёд и спустились на ступеньку в проход. Но появившийся перед нами накачанный охранник-мулат, тоже с пистолетом в кармане guayabera, вернул нас на свои места. Мы этого как бы и не заметили, поскольку всё время во все глаза смотрели на легендарного героя кубинской революции, друга нашей страны Фиделя Кастро Рус.
Затем стало тихо. Свет медленно потух, и на сцену вышел в строгом чёрном костюме элегантный Иосиф Кобзон, первый голос страны. Преклонив колено перед огромным портретом Че Гевары, прекрасным голосом пропел трогательную песню, посвящённую отважному бойцу. Вообще концерт был что надо! И запомнился нам всем на всю жизнь.
Потом на улице мы видели, как кубинские военные обнимали и подбрасывали вверх детей советских специалистов, которые были со своими семьями на концерте. Меня подбрасывать никто не стал. Наверное, потому что я стал уже достаточно тяжёлым – 11 лет как-никак. Но один кубинский офицер всё же прижал меня к себе…
Мы с Маринитой нашли себе новое развлечение. Заглянули мимоходом в радиостудию нашей гостиницы, куда всем «Вход строго запрещён». Так гласила надпись на металлической двери. Всем, кроме нас. И мы туда зашли. И никто нас не выгнал.
Марина быстро уговорила приятного молодого кубинского работника радиостудии дать нам послушать, звучащие отовсюду песни диско-группы Boney M. Не простые, а самые что ни на есть стереофонические! Кубинец надел каждому из нас на голову мягкие наушники и сказал: «Только недолго». Это «недолго» растянулось на три часа. И ещё на несколько дней по несколько часов.
При хозяине студии мы сидели в кожаных креслах как порядочные, а когда кубинец уходил, забирались в кресла с ногами и балдели с закрытыми глазами от потрясающего звучания музыки. С необыкновенным чувством слушали мы музыку оркестров Джеймса Ласта и Поля Мориа, незабываемого хора Рей Кониффа, весёлые, заводные песни Роберто Хордана и групп Los Mustang и Los Brincos, душевные национальные мелодии в исполнении чудесного кубинского ансамбля Buena Vista, гуарачу, болеро замечательного оркестра Bellamar из провинции Пинар-дель-Рио и многое другое. Это было наше прикосновение, наше приобщение к высококлассной музыке. Это были сказочные дни!
Но всё в жизни когда-нибудь кончается, как любил говорить глава нашего представительства. Отец принёс с работы известие, что нам всем едет замена. Значит, надо собираться в Москву.
Я тянул, не зная, что сказать Марине. Но время неумолимо поджимало. И однажды, на берегу моря, под плеск прибоя я сообщил Марине эту печальную весть. Она, видимо, что-то предчувствовала.
– И что теперь будет? – прошептала Марина.
– Я уговорю отца приехать на Кубу снова. Через год, – уверенно сказал я.
– Правда? – не поверила Марина.
– Ещё какая правда! – искренне сказал я.
– Хорошо. Тогда давай обменяемся адресами и будем этот год переписываться.
– Каждую неделю.
– Каждую.
– А когда вы улетаете?
– В эту пятницу. Днём.
– Во сколько?
– Я на днях приду к тебе и скажу, когда мы будем уезжать из гостиницы.
– Я приду тебя проводить.
– В учебный день?
– Сбегу, если не отпустят.
Больше говорить было не о чем. Или не находилось нужных слов. Мы, как всегда, взялись за руки и сидели, глядя на море, думая, казалось, каждый о своём, а на самом деле думали об одном и том же.
– Как здесь красиво, – прошептал я дрожащим голосом, указывая рукой на закат.
– Да, красиво. Я буду приходить сюда.
– Я тоже буду часто тебя вспоминать и думать о тебе.
– Верю.
– Ничего, год быстро пролетит. Вот здесь два года пролетели в одно мгновение, – сказал я, вспомнив испанское выражение «В одно открытие и закрытие глаз».
Было уже поздно. Надо было возвращаться домой. Но никто не мог и не хотел первым сказать «Пошли». Грустные, мы встали одновременно и побрели к гостинице. Точнее, поплелись. А затем, улыбнувшись друг другу, направились было по своим домам, но Марина вдруг взяла меня за руку и завела за угол дома, где мы долго, неумело, но так сладко и крепко целовались ещё целых полчаса. И со слезами на глазах разошлись. Каждый в свою сторону.
Марина пришла ровно в час нашего отъезда. Попрощалась со мной нервным пожатием руки, кивнув уважительно моим родителям. Мама долго гладила девочку по голове и поцеловала её в темечко.
Маринита помахала рукой вслед нашему уезжающему автобусику и побежала назад, достав на бегу из кармана розовых брюк розовый платочек. Никто не видел моих слёз, потому что я, развернувшись, глядел в заднее стекло. А родители, тоже смахивая слёзы, смотрели только вперёд.
Александр Иванович, директор ибероамериканских программ одного из московских гуманитарных университетов, обнаружил свой кубинский дневник, разбирая бумаги на квартире своей матери. Полистал тетрадь, местами зачитываясь. Погладил потёртую, шершавую и потрескавшуюся от времени коричневую дерматиновую обложку общей тетради с приклеенным на ней бумажным квадратиком из школьной тетради в клеточку с надписью «Кубинский дневник», сделанной детской рукой.
Когда Саша вернулся с Кубы в Москву, он первым делом спросил у родителей адрес посольства СССР на Кубе, чтобы передали письмо Марине. И тут родителям пришлось сказать сыну горькую правду о том, что передавать письмо Марине из посольства никто не будет. Саша не мог сразу в это поверить. Ведь при отъезде с Кубы родители ничего ему не говорили. Лишь молча соглашались, что он сможет легко переписываться с Мариной. Значит, они всё знали наперёд и просто его обманули!
Родители оправдывались тем, что не хотели его тогда, на Кубе, расстраивать. Следуя мольбам сына, родители сказали, как надо писать в МИД СССР, чтобы письмо попало в посольство на Кубе. И Саша написал.
Но через три недели письмо вернулось обратно с надписью на конверте «Адресат в посольстве не значится». Это было для Саши ударом. Тогда он написал письмо с указанием адреса Марины, который она ему дала при их расставании. И пошёл на почту. Ему наклеили на конверт много марок на приличную сумму, и письмо ушло.
Ответ от Марины он получил. Но только через два месяца, когда уже и не надеялся. Марина писала, что скучает, вспоминает их встречи и надеется увидеть Сашу снова. Он написал Марине опять. Ответ пришёл через три месяца. А потом он сам написал Марине спустя два месяца, а ответа дождался через пять месяцев.
Затем школьная жизнь его закружила, завертела. Он всё реже вспоминал Марину, но грустил иногда, пересматривая фотокарточки о Кубе. Наконец он понял, что никогда больше не увидит Мариниту, свою любовь, и что писать на Кубу больше не следует. Не надо делать больно ни Марине, ни себе. Всё равно никакой надежды у него на встречу с Мариной уже не оставалось.
Расстояние и время сделали своё дело. Остались лишь светлые воспоминания о его первой детской любви…
– А не попробовать ли, – сказал вслух Александр Иванович, – опубликовать эти мои детские записи? Может быть, современным подросткам будет любопытно узнать, как любили, служили и работали за границей, в общем, жили их старшие соотечественники? Ведь без памяти нет истории.
Александр Иванович, вздыхая, перебирал многочисленные фотографии, которые они делали с той дорогой ему кубиночкой, девочкой-смуглянкой много лет тому назад:
– Какие мы здесь с Маринитой маленькие, стройненькие и хорошие! Как много мне дала та поездка на Кубу! Она научила меня любить, дружить и многому, многому другому.
Он подошёл к серванту и стал в тысячный раз рассматривать сувениры, привезённые тогда с Кубы. Вот редкий посеребрённый брелок с пятиконечной звездой и картой Кубы в ней, с надписью наверху и внизу Cuba libre. Primer pais socialista en America. Вот чучело маленького крокодильчика на деревянной подставке с золотой металлической табличкой Cuba. Вот ракушки рапан и ракушки-развёртки. Вот белые ветвистые кораллы, резные и острые, как нож, а рядом с хельгой на полу – натуральная морская серая губка. Большая. Целый куст! А вот чучело черепахи Сarey с ценным панцирем. А вот…
В мавзолей. Ленину!
Эту историю мне рассказал работник Управления загранкадров Минрыбхоза СССР. В порыве какой-то душевной безысходности, нервного истощения, отчаяния, бессилия от творящегося в стране бардака принял решение перейти из престижных загранкадров союзного министерства (в то время одной из самых коррумпированных отраслей Союза) к нам, в простой отдел кадров Всесоюзное объединение «Рыбзагранпоставка». На более низкий уровень службы и зарплаты. А потом и вообще уехал обратно к себе на Север, где люди гораздо лучше, как он сказал.
По всей видимости, это был человек чести. Порядочный, принципиальный, болеющий за своё дело. А система таких выдавливала. По себе знаю.
Помните, как был расстрелян за хищения в особо крупных размерах министр рыбного хозяйства Рытов, а начальник 1-го отдела министерства застрелился? В основном за то, что чёрную икру продавали своим людям по цене сельди и в банках с этикетками сельди. А вскрылось это случайно – при поставках сельди или икры на экспорт. Открывают, скажем, во Франции банку с русской селёдкой, а там – ба! – икра отборная чёрная. Икринка к икринке.
Это было тогда. А сейчас и за более серьёзные преступления редко кого сажают. Иногда дают пожизненное, но условно. Вы об этом не хуже меня знаете. Это так, шутка. Присказка. И вот прошло несколько лет после расстрела министра. Вдруг всплыла такая история, о которой знали единицы. На одном предприятии по добыче и переработке чёрной икры «Рыбакколхозсоюз» (а попросту – рыбзаводе) на Каспии работал ветеран, инвалид Великой Отечественной войны. На его глазах икру разворовывали, а он этому противился как мог.
– За что, спрашивается, мы проливали кровь в борьбе с фашистами, махали саблями в гражданскую и шли на эшафот при царизме?! – любил он провозглашать.
А боролся он с казнокрадами и расхитителями государственной собственности так: выступал на партсобраниях в коллективе и в райкоме партии, писал в районные и областные газеты и органы партии и ОБХСС. Наконец терпение у местных партийных и государственных властей кончилось и его… нет, не убили. Зачем привлекать внимание? Тогда ещё остерегались таких крутых мер по отношению к борцам за справедливость. Его просто успокоили тем, что он, мол, своё дело большое сделал и за это ему большое спасибо. Выдали денежную премию и отравили на пенсию. Хотя он пенсионного возраста и не достиг, сослались на состояние его здоровья.
Но ветеран узнал, что работницам этого предприятия дают деньги за молчание о творящихся там преступлениях. Или запугивали. А воровство росло, внедрялись широко пересортица, фальсификация товара и так далее. Ветеран изложил все эти факты и отправил письма в областные ведомства. Вновь приглашают старика в горком партии на беседу, где нелицеприятно вдалбливают в его седую голову, что ветерану с простреленной грудью и на протезе не к лицу жаловаться «наверх», минуя свои местные власти, на своих односельчан, соседей и вообще на руководящий состав нашей родной местной партии и родного местного правительства.
Герой войны, фронтовик тем не менее предпринял ещё несколько попыток написать в более высокие инстанции. Его снова вызвали в горком и снова отругали.
– Вот вы, уважаемый Иван Степанович, всё пишете, всё жалуетесь, кляузничаете. А страна строит, пашет, добывает, в космос рвётся, развивается. А ваши грязные пасквили – вот они у нас! И что с вами делать? Ни одна ваша жалоба не подтвердилась. Вы вообще-то нормальный человек? Или умом тронулись? Да хорошо, если только в областные инстанции. Так нет же! Вам этого мало. В союзный ОБХСС, в Совмин, в Минфин, в Минрыбхоз. Сколько важных и ответственных людей потревожили из-за каких то там пяти тонн икры, которую нерадивые работники не так упаковали, сорта перепутали. Такая мелочёвка, ерунда! Мы всё учли и исправили. Виновных наказали. Как вам не стыдно! Нас, коммунистов, позорите перед народом! А я вот беру все ваши доносы и кляузы. И знаете, что с ними сделаю? – берёт стопку бумаг и кидает её в камин. – Хорошо горит?
– Но вы и мафия все!
– Вы, Иван Степанович, насмотрелись, наверное, разных американских и итальянских фильмов, «Спрут» например, про американскую, итальянскую мафию. В советской стране по определению априори не может быть мафии, потому что у нас всё народное. Вот если бы СССР стал, предположим с испугу, капиталистической страной, с олигархами, латифундистами, как в странах Латинской Америки, о которых писал известный вам герой Кубы Че Гевара, к примеру, то тогда, согласен с вами, и у нас было бы много разных мафий: банковская, строительная, финансовая, дорожная, торговая, спиртная, наркомафия и много прочих. Но мы же с вами в Советском Союзе живём, в соцстране, голубчик вы мой.
– Я вам не голубчик! – сверкнул глазами ветеран. – Вы и есть мафия. Самая натуральная мафия.
Ветеран схватился за грудь – прихватило сердечко.
– Беречь своё здоровьице вам надо, а то надорвётесь, – секретарь даже не колыхнулся, чтобы налить воды старику.
Но фронтовик собрался и, стуча гневно костылём по горкомовскому паркету, ушёл.
И снова собрал компромат. Да ещё какой! Да ещё сколько! Пошёл на почту, купил большой конверт, вложил в него все бумаги. Накупил марок по весу, чтобы пакет дошёл до Москвы, обклеил весь конверт марками с изображением плотин, комбайнов, шахтёров, доярок, космонавтов и даже самого Брежнева. Стараясь, чтобы не дрожала рука, аккуратно, букву за буквой вывел в графе «Получатель» слова: «Москва. Мавзолей. Владимиру Ильичу Ленину». Заклеил конверт канцелярским клеем и отдал девушке в окошке. Та не глядя кинула конверт в стопку.
А через неделю-другую на Каспии высадился «десант» из Прокуратуры СССР, КГБ СССР, Следственного комитета СССР, ОБХСС СССР, Минрыбхоза СССР, Народного контроля СССР. В тюрьмы, лагеря, колонии, на урановые рудники, на стройки пятилетки на долгие годы загремел не один десяток любителей много кушать и много сбывать налево чёрную икру.
– А как Иван Степанович? – спросил я кадровика.
– Данные на сей счёт мне не поступали.
А мы с Можайки!
Дом №19 (в те времена – дом №23) на Кутузовском проспекте (ранее – Можайское шоссе), в котором сейчас размещается ателье известного модельера Валентина Юдашкина, достраивался во время Великой Отечественной войны.
Мой дед работал тогда в Госснабе СССР и занимался снабжением Красной армии. Одеждой, обувью и другими изделиями лёгкой промышленности. Он получил квартиру на Можайке в июле 1942 года. Его семья была в эвакуации, а он – на работе, когда в дом на Кадышевской набережной, где они жили, попала немецкая бомба и, пройдя насквозь четыре этажа, ушла в землю, не разорвавшись. Крышу разворотило, дом пошёл трещинами, а полы вздыбились.
Во дворе нашего дома на Можайке был работающий фонтан, в центре которого на постаменте стоял пионер из белого гипса. В шортах, рубашечке-безрукавке, с галстуком на шее и горном во рту.
Высокий деревянный забор ограждал двор от трущоб: дряхлых домишек, сараев, пристроек для кур. Там жила, как мы говорили тогда, шпана, с которой мы нередко перекидывались увесистыми кирпичами и камнями. Дома-развалюшки за забором тянулись до Студенческой улицы, по который тогда ходил трамвай до моста.
Мы любили бегать по крышам сараев и играть в «рыцарей», сражаясь выструганными из широких досок саблями или мечами, сделанными из ёлочных палок и очищенных от коры так, чтобы оставались поперечные ветки, защищавшие кисти рук, как и у настоящих мечей. Щитами нам служили крышки от больших тазов.
Ещё мы, Колька Соколенко (Туз), Сашка Гостев (сын режиссёра Игоря Гостева), Славка (Ворона), Витька (Пискля), я и другие, когда во дворе было много снега, строили снежные крепости, а в сугробах проделывали такие ходы-катакомбы, что по ним можно было проползти через весь двор с одного конца до другого.
Слегка ненормальная дворничиха Танька наши ходы постоянно ломала ломом. Тогда мы придумали на сугробы поверх ходов класть толстые доски. Заливали их водой, морозили и сверху закидывали снегом. Танька пробовала разрушить наши ходы, но чуть не отбила себе руки и едва не погнула свой лом. Чертыхаясь, плюнула на нас всех с нашими укреплениями и наконец оставила нас в покое.
Летом мы под свистки постового перебегали Можайское шоссе и спускались к Москве-реке. Там были заросли тростника и на сотни метров тянулись вдоль берега, возвышаясь, как горы, разгруженные с барж груды громадных брёвен. Не боясь быть раздавленными брёвнами или навек заваленными ими, мы ползали по этим катакомбам. Из тростника мы делали копья и, разбившись на команды, играли в «охотников» или «тарзанов», охотясь друг на друга и перекидываясь безопасными копьями.
Немного подрастя, там же, в этих тростниковых джунглях, мы устраивали бои на капсюльных пистолетах. Капсюльные, чтобы все знали, – это такие пистолеты, когда на деревянный каркас с рукояткой крепился охотничий патрон любого калибра, в него забивался молоточком капсюль и вставлялся деревянный боёк с иголкой. Боёк натягивался резинкой до упора и спускался большим пальцем руки. При выстреле капсюль летел аж на 10 метров! Бывало, что при сражениях на мечах, перекидывании копьями и перестрелках из капсюльных пистолетов кто-то из нас получал травму, и серьёзную, но вот глаз, удивительное дело, не выбили никому.
На моих глазах рядом с нашим домом построили кинотеатр «Пионер». Интересно было видеть первый раз в жизни настоящую стройку. А после девятого класса я, бывало, смотрел в 8:30 с балкона в театральный бинокль, как по другой стороне уже Кутузовского проспекта шла в нашу школу, где вместе учились с первого класса, девочка Оля Чекисова, в которую я тогда был влюблён.
Эта школа, можно сказать, по тем временам была элитной, но в ней учились и дети рабочих, и дети сотрудников ЦК партии, МИДа, КГБ, известных актёров.
Например, со мной в одном классе училась дочка известного актёра Михаила Кузнецова, который снялся в 50 отличных фильмах, в том числе в фильме «Матрос Чижик», который почему-то не показывают по нашему телевидению, разве что иногда по «Культуре».
Недавно здание старой школы снесли и вместо неё возвели новую «супермодерновую» школу. Надо бы как-нибудь туда зайти, если, конечно, пустят посмотреть, висят ли на первом этаже фотографии выпускных классов прошлых лет.
О Сергее Гончаренко
Серёжа Гончаренко, высокий стройный голубоглазый блондин, был включён в состав нашей группы испанского языка спустя два месяца после начала занятий на первом курсе. В 1-й МГПИИЯ им. Мориса Тореза он перевёлся из Военного института иностранных языков. Как-то интуитивно мы с ним сразу сошлись. Почему? Наверное, потому, что оба мы были скромными, более выдержанными, чем другие ребята в группе.
А в нашей группе собрались разные ребята. И по характеру, и по своим способностям, и по социальному происхождению, и по месту проживания. Так, Олег Островский был из Одессы, Валя Кучин приехал в Москву из Перми, Анатолий Чебурков – из Челябинска, болгарин Тодор Чолаков – естественно, из Болгарии. Остальные были москвичами. Но мы были дружны. И не только дружны. Сплочены. Так, что другие студенты нам завидовали. Вот, мол, 101-я испанская группа как дружит, берите с неё пример, говорили преподаватели на факультете.
Хотя явных лидеров в группе не было, но несколько человек выделялись среди нас. Прежде всего своими способностями к языкам и эрудицией. Это были Сергей Гончаренко, Олег Островский и Александр Садиков.
Сергей Гончаренко, который, как я уже сказал, перевёлся к нам в институт, был мальчиком добрым, отзывчивым, щедрым на подсказки и списывание. На рожон не лез, себя не выпячивал, чем ещё больше нравился и нам, и преподавателям.
В конце первого года учёбы мы между собой нашу группу уже называли легендарной, Боевого Красного Знамени, ордена Ленина, 101-й испанской группой. Через год мы её называли 202-й Краснознамённой, через три года – 303-й Краснознамённой и так далее.
Группа была в лидерах в институте и по учёбе – за счёт трёх-четырёх человек, и по активной студенческой жизни – за участие в работе студенческих отрядов на целине, Анатолия Гавриленко в трёх трудовых семестрах, моего участия в двух летних семестрах, моего участия в оперотряде «Коммунистический» и в спортивных соревнованиях по плаванию на первенство института и Москвы. А Сергей уже публиковал свои стихи в газете «Советский студент» и «Студенческий меридиан».
Только мне посчастливилось бывать у Сергея дома в гостях и познакомиться с его прекрасными родителями – Таисией Сергеевной и Филиппом Ивановичем, добрейшими интеллигентными людьми. Так я узнал, что Сергей происходит из семьи военного дипломата, родился в Турции, где его отец во время Великой Отечественной войны году служил военным атташе. Потом их семья переехала в Швейцарию. С детства Сергей получал отличное классическое воспитание и образование: был начитан, образован, играл на пианино, прилично знал английский и французский, вальсировал. В этом плане он был на голову выше всех нас, но никогда этим не бравировал и не был зазнайкой.
Надо сказать, что первый год у нас была классным руководителем и вела испанский язык преподаватель Эспехо. Это её фамилия по мужу-испанцу. Мы смеялись, потому что в переводе с испанского языка на русский это означает «зеркало». Потом мы узнали, что у нас в институте преподавал испанец по фамилии Павон (исп. pavo – «индюк»). Такие странные испанские фамилии потом нам встречались частенько. Например, президент Испании Сапатеро (исп. zapatero – «башмачник»), его супруга Ботелья (исп. botella – «бутылка»). Но это так, к слову.


