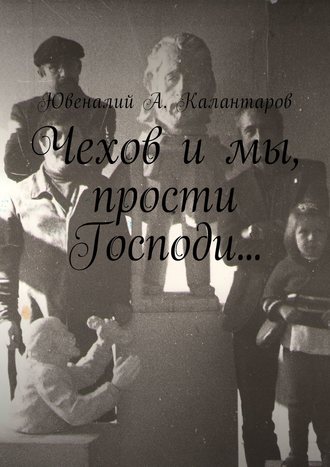
Полная версия
Чехов и мы, прости Господи…
И все же давайте осмыслим наш с вами шанс быть конгениальными Шекспиру, Чехову… – он, по правде сказать, очень мал, и трудно вообразить себе, что кто – либо конкретно из ныне живущих или, скажем, пишущих и читающих эти строки мог бы на него рассчитывать… И все же предположим, что он есть – этот шанс, не будем лишать себя надежды и… порассуждаем ещё…
Опять обратимся к великим Мастерам прошлого, бесспорным создателям совершенного, вечного и т. д. … Не будем перечислять всех их качеств, создавших им славу, тем более, что сделать это невозможно, не впадая в пустую риторику… Отдадим себе отчет только в одном – в их незаурядном культурном и духовном потенциале, и отметим для себя, что их творения никогда не были случайными плодами досужего разума или праздного честолюбия, вопреки утверждениям всех «сальеристов» – их шедевры рождены ими отнюдь не в праздники и, как правило, не под аплодисменты современников, а выстраданы и выношены ими в жестокие будни зауряднейшей жизни, среди смешения всех «сюжетов и жанров» в житейской грязи и шуме…
Отметим ещё, на всякий случай, что они тоже, все без исключения, дерзали когда – то кому – то и чему – то соответствовать и подражать, и проделали немалую, должно быть, духовную и умственную работу, чтобы достичь соответствия… И дерзали они при этом, надо сказать, так же, как и любой из нас, на свой страх и риск, без каких – либо гарантий с чьей – либо стороны на успех, без права даже на бескорыстное служение своей «идее», не признаваемые и часто оплевываемые собратьями по роду человеческому и по ремеслу… И лучший из заветов, выкованных ими в муках творчества и оставленных для нас, как бы для испытания на подлинность – «иди своим путем и веруй»…
Я говорю «мы» и «для нас», исходя не только из риторических приличий и правил, но и из простой истины – допущения, что кому – то из нас все же, несмотря ни на что, дано найти свой путь и с верой пройти его, и на этом пути встретиться со старыми Мастерами… которые ждут, всматриваясь в наши лица, в одиночестве и надежде… Дай нам Бог, чтоб они дождались хоть кого – нибудь из нас… И тогда высокая классика силой театра оживет вдруг для тысяч и, может быть, миллионов людей – и хоть немного высветлит наши будни правдой, очеловечит лица и откроет души для духовной красоты, имя которой – любовь…
Начав размышлять о природе и сущности театра с какой бы ни вздумалось стороны, мы неизбежно придем к некой очевидности, что существуют не только разные виды и жанры, но и различные уровни театральности. Что же это за «уровни» и чем они задаются и определяются?
Чтобы не растекаться по всему, почти необозримому полю театральному, граничащему порой с самыми дальними горизонтами, где кончается уже всякое искусство, присмотримся лишь к театру драматическому – как наиболее традиционному, даже в какой – то мере консервативному, и теперь уже «классическому» виду театра. Итак, драматический спектакль… Конечно, во все времена и в такие, как наши, когда упадок театра стал общепризнанным фактом, во все времена в театрах работали талантливые люди и порой достигали, в оценке современников, выдающихся результатов.
Но отнюдь не всегда и не все из этих «победителей и чемпионов» становились действительными «властителями дум» и выразителями духовных потенциалов и устремлений современных им поколений людей…
Если сравнивать репертуар «той» и нашей эпох, то «современная» в ту пору драматургия была не менее спорной и казалась не более качественной по сравнению с былыми «образцами», чем сегодняшняя, да и «классика» ставилась, можно сказать, почти та же и столько же – в чем же причина упадка и подъема, успеха и неудач?..
В очередной попытке приблизиться к ответу на этот вопрос, давайте – ка вспомним любопытные, с нашей точки зрения, случаи, когда один и тот же режиссер ставит, бесспорно, талантливый спектакль на материале вполне заурядной современной пьесы, и тут же следом ставит посредственный спектакль по бесспорной пьесе классического репертуара… Если бы эти несчастные случаи не были так распространены, что стали как бы общим правилом, которому почему – то следуют, увы, все режиссеры, от мала до велика, можно было бы позволить себе уклониться от серьезного «ответа» и отвлечь своё внимание – печатными ссылками на некую оригинальность каждой трактовки, сплошные или отдельные, в зависимости от доброты или настроения критика, актерские удачи… Т. е. обычными играми и танцами вокруг голого короля…
Честный ответ на приведенные выше факты, извините, таков – конечно же, с партнером, привыкшим, как и ты, «валять дурака» и примерно твоей же весовой категории, проще иметь дело, легче проявить наработанную технику, освободиться для импровизации, и в результате продемонстрировать своё мастерство, превосходство и достичь успеха… А вот как быть со «сверхтяжем» да в классической «борьбе», которая ведется по известным законам и с приемами никак «не ниже пояса»?.. В этом случае нет шансов, если самому не набраться силы, веса, роста и высокого умения… Но, как и где их взять – если нет и нету?..
Приближаясь кое – как к финалу своих «несвоевременных» театральных размышлений, позволю себе обратиться ещё к одному наблюдению, связанному, на этот раз, с отношениями между уже сугубо современной, т. е., не классической, но, надо заметить, классной драматургией и «нашим» театром… Подумаем, к чему, скажем, привели опыты обращения к пьесам Олби – как – то вошедшего в «моду» у нас и, безусловно, одного из самых художественно ёмких и высокоинтеллектуальных драматургов последних десятилетий?..
Далеко от Москвы я видел спектакль «Случай в зоопарке», теперь, говорят, влюбленные критики его уже приблизили в отеческой заботе о московской публике – этот спектакль, поставленный как наглядное пособие по гомосексуализму, пособие для начинающих или просто любознательных, я уж не знаю… И не потому, что так уж извращена природа у создателей произведения, а как – то не додумались они ни до чего другого, да и не интересно им это – какое – то там «думание», вроде, как и не «театральное» совсем занятие, во всяком случае, необязательное, почти неприличное, если «таланту хоть отбавляй» – вот и решили быть «смелыми», как «тама»…
А в известном спектакле «Не боюсь Вирджинии Вулф» очень серьезно и фундаментально «поставлена», и с умнейшими, вроде бы, актерами, какая – то бесконечная семейная склока, через двадцать минут уже пробуксовывающая сама в себе… И опять же – не потому, что так уж не могут профессионально выстроить внутренний сюжет отношений в согласии с художественной философией автора, а по той же причине, если так можно выразиться, – глубокого не – до – мыслия…
И те, и другие, и третьи, почти без счастливых исключений, проходят почему – то по самому поверхностному «низу» возможной причастности к высокой драматургии – видно, и сегодня, как и в первые дни творенья, все познается и создается «по образу и подобию своему» – и другого не дано…
Как сегодня мы ставим Чехова?.. Да как угодно – и по тексту, и против текста, и поперек, как самого – самого «интеллигентного» и почему – то вдруг скучного, с налетом обаятельнейшего лиризма и без такового, но социально активного, с хрестоматийным пиететом, и как капустник в ПТУ… Времена рабского подражания «образцам» прошли, слава Богу – гуляй, как вздумается,… и гуляем, даже не утруждая себя попытками приблизиться к Его беспощадной глубине и космической духовности, художественно выстроенных Им через ход человеческих судеб в галактике того или иного сюжета…
Да, высокая классика – это не театральная иллюстрация, не живые картинки на расстоянии, а вновь зачатая и вынашиваемая в чреве зрительного зала драма живой жизни… Поставить и сыграть Чехова – это значит прочувствовать и выразить глубинные проблемы человеческого существования в потоке обыденной жизни… И быт у Чехова – это тело, плоть и клетка человеческого духа, от чего он бежит и к чему возвращается, как блудный сын… А вместо разыгрывания текста или даже сочиненного «образа» – обнаженное ожидание и опора на себя, единственного…
Да, Чехову нужен режиссер и актеры, прозревающие быт, способные увидеть за ним голую и трагическую правду человеческих жизней, своей и всякой другой… И только тогда это философский и великий театр, равного которому, как утверждают Брук и Стрелер, нет…
А ещё Чехов напоминает нам о триедином даре подлинного творца – даре духовного мышления, нравственного существования и художественного деяния… Сущностная сосредоточенность каждого бытия, в том числе и сценического, является метафизическим законом его трагической глубины и значимости…
На репетициях выращиваются и тренируются, а на спектакле запускаются в «жизнь и игру» одновременно – не только сущность личности, её сосредоточенность на себе, но и энергия свободы в её воплощениях – три главных составляющих человеческой судьбы, бытийствующей на сцене и питающей любой сюжет жизни своими соками и глубиной… Сценическая энергия свободы – это не игра в «образ» и не проживание «предлагаемых обстоятельств», а игра своими сущностями, выращенными из духовного спектра роли, постоянное рождение себя из игры с другими сущностями, в каждый раз по – новому и всегда лично выхваченных обстоятельствах, в непредсказуемой со стороны игре со своими и чужими воплощениями человеческого «опыта жизни»…
Одна из главных и решающих театрально – духовно – технологических задач, могущих привести к принципиальному художественному прорыву в высшие слои чеховской драматургии – сделать из «обожаемого» текста вынужденную и не всегда приятную необходимость, которая, подобно протуберанцам, вырывается из недр экзистенциально проживаемого на сцене чеховского «быта» – Бытия…
Чеховская простота, глубина и абсолютная прозрачность явились в русской литературе XX века дважды – в прозе Шукшина и драматургии Брода…
II. Театральный ломбард
***
«Мизансцена мысли» – моё название режиссерской необходимости выстроить хотя бы имитацию внутреннего психологического процесса, если способность к нему напрочь отсутствует у артиста, привыкшего к игранию авторского текста да выполнению режиссерских подсказок передвижения по сцене… Психологический процесс мышления и принятия решений можно, оказывается, выявить паузой, жестом, поворотом головы, тем или иным поступком… и тогда зритель «прочитает» ту мысль, которая рождает последующее действие, мотивируя и обогащая его движением ума…
***
Моя редкоземельная режиссерская особенность, роднящая меня с лучшими – исчерпать до дна возможности и кладовые пьесы, даже глубже самого текста – и тогда даже хрестоматийный автор вдруг становится незнакомым и современным, будто прокаливается и обновляется на наших репетициях… И старый классик кажется уже написавшим свои тексты только вчера и только для меня… Так случалось у меня с Чеховым, Друцэ, Островским, Вампиловым и другими моими любимцами… Никаких отсебятин – только от текста и через текст, в словах и между слов (по Метерлинку – в молчании и в смыслах, омывающих слова)…
***
Всякое искусство по ходу своего развития рискует оторваться от корней своего призвания и служения, замкнуться на самое себя, на сугубо внутренние интересы «творчества», оторваться от большого мира живых проблем человечества – в такой самоубийственной изоляции заключается главная причина ослабления и вырождения даже очень талантливых художников, которые находчивые «идеологи» спешат выдать за небывалые достижения и открытия, всю уже пустую «игру в бисер» называя наисовременнейшим искусством, великими пророчествами грядущих времен, вплоть до пресловутого «черного квадрата», этой плохой шутки пьяного художника, как последней точки прибытия и конечного тупика… Этой порчи и отклонения не избежали не только Малевич, но и Феллини, Тарковский… стоит только сравнить их ранние прорывы в художественный космос, которые прославили их таланты, и поздние опусы, разрекламированные услужливыми портняжками…
***
В опере мизансценировать и выстраивать пластическую динамику надо по тактам, музыкальным фразам и «пьесам», а не по либретто, сюжетам, обстоятельствам, эпизодам и действию. Пластика и жесты рождаются и стилизуются только из музыки, и характер у них не бытовой и психологический, а условный и символический, тяготеющий к сюжетной статике и музыкальной динамике…
***
Актерская профессия только проявляет и помогает делать выразительной жизнь человеческой природы в актере – но первична все же эта природа! Поэтому так необходима культура, воспитание, развитие личности, её внутреннего разнообразия и гибкости, богатство, глубина и сложность её реальных качеств… Современная театральная школа преступно обходит эту главную свою обязанность стороной…
***
Множество людей, чаще не сознавая этого, культивируют в своих жизнях всякого рода драматизм, чтобы заполнить образующуюся в сердцах пустоту… и только, пожалуй, взрослые люди театра, устав от драм на сцене и за кулисами, ищут и ценят естественную простоту и покой, тихую гавань – после рвотной болтанки, бурь и волнений театральной среды…
***
Мои контакты и истории с театрами повторяют первую встречу Миклухо – Маклая с аборигенами – всякий раз возникает и решается каннибалистическая проблема – сразу сожрут, или чуть промедлят, а я этим воспользуюсь… и потом – назовут берег моим именем?..
***
Слишком много замороченных около – театром и плебейской коммунальной жизнью псевдоартистов… В ответ на мои профессиональные предложения, требования и даже шутки – тупое непонимание, сопротивление и уличные выходки…
***
Почти век понадобился Чехову на путь от «современного» автора до «классика», от близорукого до дальнозоркого и масштабного его понимания, от натуралистически – психологического до художественного воплощения его пьес на сцене… Этот путь пытаются пройти сегодня Друцэ и Вампилов – не без моего, что приятно сознавать, участия…
***
Мало хорошо и технично интонировать музыкальный текст – чтобы возвести его в искусство, необходимо воссоздать его в себе, личностно, глубоко и искренне, и тогда он достанет не только до ушей, головы и сердца, но и до печени!.. Голоса и профессионального умения им владеть мало… Чтобы стать событием на сцене и в зале, надо стать самому равным Бетховену или Малеру – только так можно получить мандат на их исполнение… Максимализм? – да!.. Иначе это – самозванство, паразитизм и халтура…
***
Талантливый исполнитель присваивает авторское право создавать его произведение – он, как бы, перевоплощается в автора… Не подменяет его, раболепствуя перед его гением, – а стремится, уподобляясь автору, возродить сам процесс творения, являя собой чудо, воплощает его личность в самом акте творчества, в реальном акте зачатия и рождения его произведения…
***
Актерам работать надо не с текстом, и даже не от текста и того, чем нагружает режиссёр в своих пониманиях, а от сущности всего того, что порождает этот текст в скрытой и глубинной реальности жизни, общей для тех персонажей и этих артистов…
***
Разделение сфер деятельности и ответственности:
Что? – это автор, Как? – режиссер, а Кто? – это актер!., (их ещё приходится убеждать в этом – в этом призвании «быть!», в достоинстве и личном присутствии и участии!.. – измельчал артист до потери своего призвания)…
***
Однажды, на повторяющиеся напоминания со стороны очередного худрука театра – «Мне нужен хороший спектакль»! – я ответил: «Хороший спектакль сделать нетрудно – трудно сделать очень хороший спектакль»!..
***
Нерадивому артисту – «Если бы ты был не только артистом, но ещё умел бы писать – у тебя все есть для того, чтобы создать книгу «Репетиция – нелюбовь моя» или «Репетиция? А что это такое?..» – книгу, которая стала бы достойным нашим ответом Чемберлену – Эфросу!..
***
Актрисе – «После этой удачной его шутки ты будто погрузилась до подбородка в ванну со смехом!», а он этим воспользовался…
***
Приобщить или потрафить – развилка для всех деятелей в сфере искусства – от Босха, Ван – Гога и Бочарова до Шилова с Глазуновым и Табаковым и пр. торгашами… И развилка эта происходит не в залах экспозиции и на сцене, а у мольберта и в головах…
***
Воображаемая художником реальность и интереснее, и реальнее видимой невооруженным глазом… «Конфликт» между ними служит свидетельством присутствия подобия Творца в образе художника, живой сущностью и ценностью подлинного реализма…
***
Всякий глубокий художник – человеколюбивый мизантроп (от Соломона и Сократа до Мольера и Пушкина, а в театре – от Равенских и Товстоногова до меня) … не путать с мизантропами, человеконенавистниками и людоедами от природы – Гончар, Плутчик и пр… Ну, и цена им – соответствующая…
***
Среди артистов и др. работников театра, а то и просто – у любителей с ближайшей улицы, утвердилась мода, при возможности, играть роль режиссера – статусно, денежно, даже если плохо получается (да и судьи кто? – безграмотное начальство, которое ничего не контролирует, потому что ничего не понимает и озабочено только своим положением – гуляй, рванина!)…
***
У Брода все «срежиссировано» в репликах, и его пьесы почти не нуждаются в ремарках, в отличие от большинства даже классных драматургов…
***
Шейко блестяще начал, подпитываясь от лучших образцов режиссуры (Мейерхольд!) и, в конце концов, иссяк… Я же пошел от драматургии, от авторов, текстов и смыслов (интуитивно!) и оказался прав…
***
Музыка! – а не текст и пресловутые предлагаемые обстоятельства с сюжетом – определяет в опере психологию, пластику и динамику сценического воплощения…
***
Плохая пьеса для меня, как кривая и косая женщина для изголодавшегося мужика – нет уж! как – нибудь без меня!.. Даже если давно уж невтерпеж…
***
Настоящий актер – генератор живого тока, а не только проводник чужих электронов (автора, режиссера) … Лучшим индикатором, идущим через актера тока, являются его глаза – «стоячие» или вибрирующие мыслями, словами, чувствами – лучший индикатор мастерства и таланта…
***
Многие «талантливо» гуляют во все стороны – я же глубоко копаю, но на одном месте… Как «человек корня» – по Скибневскому, в его противопоставлении Таирова и Мейерхольда…
***
Задача режиссера – помочь актеру сложное выразить через простое, а не наоборот…
***
Все режиссеры – постановщики «Чайки» похожи на Треплева, застрелившего несчастную птицу, обнаружив своё бессилие и поражение в борьбе за Нину… Трагический случай поэтического взлета двух юных жизней, их театральных мечтаний и выстрелов в их сердце и голову, определивших роковую развязку – этот сюжет остается невысказанным, нереализованным, невоплощенным – без меня!..
***
Спектакль – это не пьеса и не актеры, а, увы, режиссер! Именно он определяет собой масштаб и качество воплощаемого на сцене Автора – Чехова или Шекспира… Как и Бетховен всегда равен дирижеру, дерзающему быть Его исполнителем, чтобы ожило и прозвучало равное Ему… Все, подражая Создателю, творят по образу и подобию своему – другого не дано!.. Режиссер и дирижер или уподобляются Автору, пытаются и становятся конгениальными Ему, или обрекают себя на имитацию его творчества (судьбы многих т. н. профессионалов)…
***
Мой Чехов, Друцэ, Вампилов – моё ненасытное желание пить по любому поводу только из глубокого колодца, а не с блюдца, чашки или даже кубка – это редкий, мало кому знакомый дар… Чувствую всем своим режиссерским существом свою правоту, но эта моя правда слишком сложна и беспокойна для окружающих, и отторгается большинством скользящих по поверхности театральных фигуристов и аферистов, танцующих для собственного удовольствия и выгоды…
***
Феномен «Железной воли» – в мертвом последние десятилетия Ермоловском театре – три ещё живых артиста с творческой голодухи сделали инсценировку, сами оформили, срежиссировали и сыграли один из самых лучших спектаклей Москвы… И только я их заметил и вытащил на фестиваль, где они получили у жюри одну из высших наград…
Все остальные фестивали и СМИ оставили это событие без внимания – не те имена, не того круга…
***
«Гоголь – Моголь» Таска – читать некоторые реплики и диалоги было интересно, но осмыслить и переварить все, когда они кончились – не случилось, не хватило какого – то фермента, то ли у него, то ли у меня…
***
Любимов и Эфрос – пример и результат постоянного общения с лучшими из лучших, живой источник их былой активности и таланта… Территория моего театра навсегда оккупирована табаковыми, райхельгаузами и гинкасами, а имя им – легион… Так что – прощай, театр! И здравствуй, мой письменный реванш – как последний привет призванию…
***
Кажется, я стал отвыкать от людей и сцены. Они не ранят меня на удалении от них, и я стал гораздо спокойнее и «счастливее»… Осталось совсем немного, чтобы осуществить переход к постоянному одиночеству и письменному столу… Так что, это хорошо, что никто из театра не спешит раскрывать мне объятия – баба с возу!..
***
Настоящий театр начинается, когда актеры в персонажах открывают и воплощают не только «биографическую» психологию (якобы по Станиславскому), а общечеловеческие драмы и трагедии их жизней (от знаменитого «повара» Щепкина до драматургии А. Чехова, актерского гения М. Чехова и режиссуры Гротовского…)…
***
Фотомгновения – неоцененные ещё гениальные факты остановки времени!.. Мне кажется, в этой способности фотофиксации мгновений скрыта какая – то атомная сила, до открытия и использования которой ещё не додумались, но она термоядернее, чем более поздняя киноманипуляция текущим временем, давно завоевавшая мир…
***
Кроме драматургии сюжета, важно выявить драматургию развития каждой роли (пункт отправления А и пункт прибытия Б) – это необходимо для содержательной работы с каждым актером и обогащения спектакля в целом через персональную дифференциацию его действующих лиц…
***
Самая распространенная и подлая ошибка режиссеров и артистов – бесконтактная имитация общения (отсутствие школы, совести, психологического чутья – всего того, что называется честной профессией, даже не талантом)…
***
Я не разделяю артистов на хороших и плохих. У меня своё определение – это мертвый, а этот живой… В мою задачу входит – даже с мертвым артистом сделать живую роль!.. Это называется профессией…
***
Эпиграф для программки «Фиалки Монмарта»: «что краше – фиалка или роза с шипами? Этот вопрос волнует мужчин с древних веков, во времена Кальмана и по сей день…»
***
«Музыку» к спектаклям в драме сочиняет режиссер, а в опере музыка только воплощается режиссером – и это, как ни парадоксально, режиссерская задача более изощренная и сложная – создавать зрелищное событие из трансцендентальных и скрытых от земных глаз музыкальных сущностей…
***
Вернёмся к спектаклю – как бы ты подытожила свои впечатления? Или они уже испарились – от мыльного пузыря не остались даже брызги воспоминаний?!.
***
Актер – как верующий (Богу), или любящая женщина (мужу) – создает себя, когда полностью отдается автору в лице режиссера…
***
Множественные трагедии режиссеров, в отличие от судеб художников, писателей, композиторов, – в тотальной зависимости их профессий от социума…
– Почему так уверен, что будет хороший спектакль?
– Потому что плохих уже не умею делать, давно мною утраченное мастерство, ну, не получается, хоть тресни!..
***
Хотел сделать очень хороший спектакль – получился просто хороший. Извини.
***
Я – редкий среди коллег экземпляр – режиссер театральных смыслов!..
***
Злейший и подлейший враг сценического искусства – приблизительная, очень похожая на правду, ложь.
***
Жареная вода – как образ театральной алхимии, без которой и театр не театр, и вода не вода…
***
Актерскому мастерству надо учиться всю профессиональную жизнь, но при этом надо чему – то и разучиваться… Отказ от вчерашнего – верный признак внутреннего обновления и развития…
***
Бывают спектакли по хорошей пьесе – стоишь, вроде бы, за вкусным продуктом, но из – за прилавка (со сцены) – то недовесят, то недодадут…
***
Осмыслить и найти ответ на вопрос «как» решать спектакль или роль – вовсе не значит, что этим «каком» можно красить всё подряд, как забор!..
***
Плохая опера – музыкальное обслуживание текста либретто, хорошая опера – музыкальное сочинение на сюжет жизни в либретто, а текст – в качестве скелета внутри музыкальной плоти…

