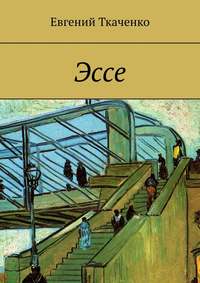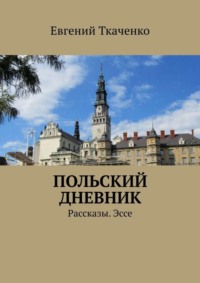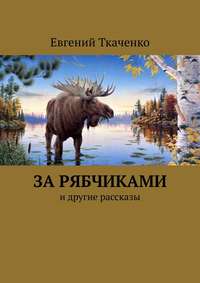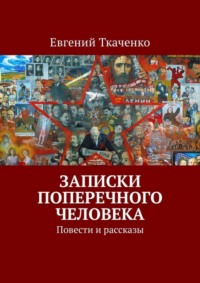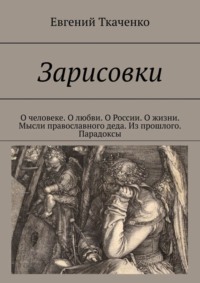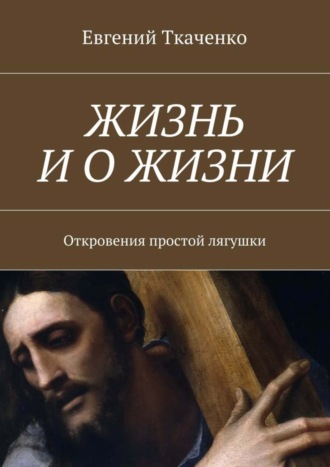
Полная версия
Жизнь и о жизни. Откровения простой лягушки
– Женя, посмотри, может, ты видишь на нем какие-то повреждения?
Я посмотрел: и действительно, крылышки целы, ран никаких нет, а голубь мертвый.
– Нет, – говорю я, – не вижу никаких повреждений.
Отец положил голубя в рюкзак, посмотрел на солнце, посмотрел по сторонам и говорит:
– В десяти минутах ходьбы начнется лесополоса, а за ней бахча. Солнце уже высоко. Мы устали. Дойдем до бахчи, съедим по арбузу, отдохнем и пойдем домой.
И мы пошли. Выбрали два арбуза и устроились в лесополосе, в тенечке. Отец вынул из ружья патроны и вставил в стволы два патрона по ползаряда, заряженные специально для меня, потом ножом отрезал донышко арбуза и говорит:
– Вот тебе мишень. Перед тем как пойдем домой, постреляешь.
И вот арбузы съедены, мы сидим, отдыхаем. Накатилась какая-то вялость, и мне даже лень идти к ружью и расстреливать свою арбузную мишень. Вдруг отец спрашивает:
– Женя! Сколько мы сегодня застрелили?
Я не задумываясь:
– Двенадцать.
Отец, после некоторой паузы:
– А мне кажется, больше.
После этих слов берет он рюкзак и высыпает голубей на землю, чтобы их пересчитать. Один голубь тут же свечкой взмывает в небо и скрывается за кронами деревьев.
Куда девалась степенность отца – не знаю. С невероятным проворством схватил он с земли ружье, вскинул к плечу, секундная пауза, выстрел. Слышу, впереди на кроны деревьев что-то падает, я побежал туда, взял подстреленного голубя, и радостно кричу:
– Пап! Теперь ты подстрелил его по-настоящему, и он больше не улетит!
Подхожу к отцу, даю ему голубя, а он стоит грустный. Взял голубя, положил в рюкзак и говорит:
– А ведь я неправ. Я не должен был стрелять….
Он имел право улететь.
Невозможно писать об охоте и не отметить профессионализм отца в это деле.
Когда он охотился, то был лучшим охотником в Кировске и окрестностях. Несмотря на то, что Синявинские высоты в 1947 году еще были не до конца разминированы, отец ходил с ружьем и туда. Дичи приносил столько, что подкармливал и друзей, и соседей, а ведь время было голодное, и тут же пошла о нем слава как об удивительном охотнике. В тоже время жил в Кировске хороший охотник по фамилии Шитиков. Человеком он был амбиционным и не мог примириться с тем, что кого-то людская молва ставит как охотника выше него. Вызвал Шитиков отца на соревнование. Условия были такими: охотятся на тетерева из-под одной собаки, стреляют по очереди. Время охоты – воскресенье, с рассвета и до заката. Это был сентябрь, а в нем от рассвета до заката уже не так и много. Отец согласился. Ружье у него в то время было советское – серийная «Тулка». Шитиков же охотился с уникальным штучным ружьем австрийского мастера под номером 305.
История ружья такая. Охотился в 1943 году из этого ружья на лося в наших лесах под Ленинградом какой-то немецкий граф, и неожиданно для себя сам стал дичью партизан. Ну а после войны ружье каким-то образом досталось Шитикову.
Потерпел в этом соревновании Шитиков полное фиаско. Застрелил отец за день 16 тетеревов, установив для себя абсолютный рекорд, Шитиков же добыл всего девять штук. Однако амбиции Шитикова были столь высоки, что все равно он не признал, что уступает отцу в классе, и оправдал свое поражение тем, что якобы у отца ружье лучше. Отец же, будучи человеком технически грамотным и очень разумным, давно понял какое уникальное ружье у Шитикова. Понял отец и другое, что амбиции Шитикова не случайные и охотник он классный, но ружья своего не понял и пользуется им неправильно. Дело в том, что у австрийского ружья стволы были почти на сто миллиметров длиннее, чем у тульского и оба ствола чоковые, то есть одинаковые, и предназначены для стрельбы на расстоянии. Из этого ружья нельзя стрелять дичь на взлете, а надо ждать, пока она отлетит. Шитиков же этого не понимал и стрелял на взлете, а это почти тоже, что пытаться попасть в летящую птицу из винтовки. В общем, предложил отец ему поменяться ружьями, и обмен состоялся. И не только обмен, стали они время от времени охотиться вместе. Отцу это было на руку, поскольку жил Шитиков в собственном доме и была у него отличная охотничья собака по имени Дамка. После первой же совместной охоты признала Дамка отца за хозяина и самостоятельно прибегала к нам в гости на обед. Было мне тогда четыре года, и жили мы на Первом городке поселка Невдубстрой. С собакой мы тут же стали друзьями, и припасал я для нее вкусненькое. Мать же запрещала баловать собаку, и я вынужден был бросаться на хитрости. Заканчивая обедать, измазывал руки в еде, подходил к Дамке и просил ее помыть мне ручки. Она с благодарностью, тщательно облизывала мне руки, и мы уходили гулять на улицу.
Однако вернемся к тому, что появилось в нашей семье, по сути музейное, штучное, уникальное австрийское бескурковое ружье. На металле гравировка – сцены из охоты, где главное действующее лицо – тирольский охотник в гетрах и шляпе с пером, ложа из натурального ореха и отделана костью. На протяжении двадцати лет ружье это для отца было большой радостью, гордостью и счастьем. Ушло оно из семьи также неожиданно, как и попало к нам. Практически просто так, за символическую плату он отдал ружье какому-то мало знакомому человеку.
Находясь в полном здравии, в возрасте 45 – 48 лет отец вдруг перестал ходить на охоту. Причина, которую он время от времени озвучивал – что, мол, ходить ему на охоту стало неприятно, поскольку перевелся настоящий охотник, и в лесу с ружьями ходят одни убийцы, которые стреляют все живое. Правда в этом, конечно, была, но правда не вся и не главная. Стала вдруг его мучить совесть, и стал он жалеть те птичьи души, которые погубил в своей жизни. Бывало вечером, глубоко вздохнет и тихо скажет:
– Сколько птичьих душ погубил, и зачем, ведь они хотели жить.
В охотничьей биографии отца был и еще один эпизод, когда все безоговорочно вынуждены были признать, что он действительно лучший охотник в Кировске.
Как-то в сентябре 1958 года приходит отец с работы и говорит, что за Кировском построено стрельбище для стрельбы по тарелочкам и в следующие выходные будет соревнование на звание лучшего охотника города.
В воскресенье на стрельбище собралась половина населения города. Мальчишки же были там точно все. Развлечений в то время было мало, и такое событие народ пропускать не желал. В поле за городом был сооружен бетонный стол высотой с метр. Рядом с ним бетонное укрытие, из которого специальная машинка выстреливала маленькие черные тарелочки, причем выстреливала их в разные стороны.
Участники соревнования по очереди поднимались по лестнице на стол, и сначала каждому машинка запускала три тарелочки для пристрелки. Когда охотник был готов, он резко говорил: «Дай», и машинка выпускала тарелочку. После этого каждый охотник стрелял две серии по десять тарелочек. Когда все отстрелялись, лучший результат оказался у отца и еще у одного охотника, сбили они по 18 тарелочек из двадцати. Для выявления победителя была назначена перестрелка, до первого промаха. По пять тарелочек разбили оба, шестую поразил только отец, соперник промахнулся. Стрельба отца производила большое впечатление на зрителей. Зная особенности своего ружья, вынужден он был стрелять совсем не так, как все. Стрелял как бы с выдержкой времени, когда тарелочка отлетала подальше. Со стороны казалось, что он так уверен в себе, что немного пижонит и стреляет только тогда, когда тарелочка улетит далеко.
Успех отца произвел такое впечатление на моих дворовых друзей, что несколько дней подряд я ходил в героях.

1958 год, отец в середине, победитель соревнований по стендовой стрельбе
Охота в детстве была самым главным и значимым мероприятием для меня, но охотником я не стал. Выяснилось, что так все сложится в отношении охоты для меня опять же еще в детстве. Этот случай я хорошо запомнил, произошел он уже на наших невских берегах.
Мы с отцом медленно идем по еле заметной тропинке. Утренний туман почти рассеялся, на траве и кустах обильная роса. Вокруг так сыро и мокро, как бывает после сильного дождя. Рядом с тропинкой начали попадаться воронки. Я держу в поле зрения идущего впереди отца и не забываю свою основную работу на охоте – сбор грибов. Грибник я уже опытный и знаю, что по краю воронок любят расти грибы и особенно хорошо растут там, где мелкие березки или осинки.
Мы дошли почти до лесного озера но, ни одна утка не взлетела. Должно быть, вчера вечером здесь охотились, и ее пугнули. Десять дней как открыта охота, и вся утка напугана. Она не понимает, что вокруг твориться. Только что спокойно гнездилась и кормилась, а теперь не может сесть на воду, стреляют в нее, бедную, изо всех кустов.
Вдруг слышу характерный свист крыльев и вижу, что на почтительном расстоянии от нас тянет пара чирков. Летят они очень быстро и красиво, крыло в крыло, и напоминают парочку истребителей МИГ-17. Смотрю, отец вскидывает ружье. Выстрел. Одна из уток как будто на что-то натыкается и начинает падать по пологой линии. Я замечаю место, куда она упала, ставлю корзину на тропинку и бегу туда. Упала она в траву, метрах в десяти от озера. Место ее падения я заметил очень хорошо. Прибегаю, все внимательно осматриваю, – утки нет. Исчезла, испарилась. Минуты три я хожу вокруг этого места. Круг моего поиска расширился до берега озера и до ближайших кустов – утки нет. Я в растерянности, ничего не понимаю, и возвращаюсь на то место, куда утка упала. Вдруг неожиданный резкий крик, от которого я вздрогнул. Из под моей ноги порхнула и побежала по траве уточка, волоча за собой левое перебитое крыло. Время от времени она оглядывалась на меня. В глазах уточки я видел и панику, и ужас. Я, конечно, ее поймал и понес отцу. Меня душила жалость к этой уточке, я вдруг понял, что это существо думающее. Ведь я топтался в полуметре от нее, а она замерла и не шевелилась, понимая, что серенькая, что сливается с травой, и ее не видят.
Я подошел к отцу и отдал ему утку со словами:
– Вот, поймал.
Отец увидел мое состояние и строго спросил:
– Почему она живая? Она же мучается.
– Я не знаю, что делать, – ответил я.
Отец взял утку за туловище, резко ударил головкой о приклад ружья и, повесив ее сбоку на удавку, сказал:
– Женя, ты охотник, а это дичь. Дичь на охоте жалеть нельзя.
И вот прошло много-много лет, и стало мне понятно, как важен был в моей жизни этот эпизод с уточкой. Очевидно, что отец мой был абсолютно прав, но ясно и другое. Понятно мне теперь, что, возможно, родился я совсем для другого времени, когда нарушилось равновесие на Земле между человеком и миром животным. У человека сейчас осталось одно право по отношению к дикому животному миру – любить и сохранять. Иначе как объяснить то, что в своем роду я должен был стать четвертым поколением охотников. Все к этому шло, и с самого раннего детства рос я на легендах о своих знаменитых предках-охотниках. Что стоит только то, что дед мой Иван охотился на дроф, и писал статьи в журнал «Охота и охотничье хозяйство». А отец? Высокий профессионализм охотника совсем не противоречил его любви к природе. Однако охотником я не стал, хотя охотничий билет имел, и в лес с ружьем иногда ходил, но интересен там мне был сам процесс, а совсем не результат. Этот эпизод показал, что даже утка не станет для меня дичью, а я не стану охотником, и династия охотников в нашем роду завершится на моем отце.
Друзья. Соседи
Друзья, моих родителей, которых я неизменно видел на праздниках в нашем доме пока жил там, почти все украинцы. Они были людьми разными и, в конце концов, разность эта их развела, как и вообще жизнь разводит людей. Однако сразу после войны встречались они не менее двадцати лет. Что же так долго могло держать людей вместе, если нет родственных связей? Думаю происхождение, язык, украинские песни, без которых ни одна их встреча не обходилась и, конечно, общая судьба. Все они встретили войну на западных границах нашей страны и были заключенными советского концлагеря в Невдубстрое, а до этого заключенными немецких концлагерей, и они не вернулись на Украину, а женившись на русских девушках, остались жить и трудиться до конца своих дней на невских берегах. Вот фамилии семей, с которыми мы дружили: Загорулько, Щекотько, Максименко, Федорченко, Радченко. С раннего детства я любил наблюдать эти встречи, они были легкими, веселыми. Вот уж действительно, правда, что национальная черта хохлов – это юмор и певучесть. Имея, в течение своей жизни много контактов с украинцами убеждался я в этом неоднократно. Удивительно, что такой интересный талантливый и большой народ не смог подарить миру ни великих композиторов, ни писателей, ни художников, все у них мелкого местечкового уровня. Думаю это потому, что веками жили украинцы на плодороднейших землях и в прекрасном климате, а еще они были буфером между Западом и Россией. Такая жизнь не выработала у них основательности и упорства, зато выработала продажность. Все это мы сегодня и видим.
Очень жесткое и в тоже время точное стихотворение «На независимость Украины» написал Иосиф Бродский. Должно быть его возмутила легкость с которой Украина пожертвовала вековыми отношениями с Россией ради сиюминутной выгоды.
……………………………………….
Скажем им, звонкой матерью паузы метя строго:Скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.Ступайте от нас в жупане, не говоря – в мундире,По адресу на три буквы, на стороны все четыре.Пусть теперь в мазанке хором гансыС ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.Как в петлю лезть, так сообща, суп выбирая в чаще,А курицу из борща грызть в одиночку слаще.Прощевайте, хохлы, пожили вместе – хватит!Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит.Брезгуя гордо нами, как оскомой битком набиты,Отторгнутыми углами и вековой обидой.Не поминайте лихом, вашего хлеба, небаНам, подавись вы жмыхом, не подолгом не треба.Нечего портить кровь, рвать на груди одежду,Кончилась, знать, любовь, коль и была промежду.Что ковыряться зря в рваных корнях покопом.Вас родила земля, грунт, чернозем с подзомбом,Полно качать права, шить нам одно, другое.Эта земля не дает, вам, калунам, покоя.Ой, ты левада, степь, краля, баштан, вареник,Больше, поди, теряли – больше людей, чем денег.Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глазаНет на нее указа, ждать до другого раза.С Богом, орлы и казаки, гетьманы, вертухаи,Только когда придет и вам помирать, бугаи,Будете вы хрипеть, царапая край матраса,Строчки из Александра, а не брехню Тараса.Интересно, что на этих встречах никогда не говорили о войне, о плене, о жизни в концлагерях, и никогда не обсуждали власть. Мне это стало интересно, наверное, когда учился уже в классе десятом. Начал задавать вопросы, но они отшучивались и не отвечали. Сейчас я понимаю почему? Неправду говорить не хотели, а правда она была в противоречии с тем, что озвучивала власть. Должно быть война, тяжелая судьба каждого, научила их быть осторожными и аккуратными. И все же два раза они проговорились. Как то, отпраздновав очередной праздник 9-е мая, женщины пошли в другую комнату говорить свои разговоры, оставив мужчин одних за столом. Я негромко включил телевизор, а там диктор рассказывал о том, как Гитлер вероломно напал на нас. Вдруг мужчины за столом склонились головами друг к другу и заговорили шепотом. Я тихо подошел к ним. Федорченко Яков Кириллович возмущенно шептал:
– Врут! Как же они врут! Ведь мы готовились напасть первыми, да немцы нас опередили. Технику-то целыми эшелонами везли к границе, а горючего не было. Все это я видел собственными глазами, а свидетелей-то и не осталось. Немцы в первый день раздолбили и нас, и технику. Контузило меня, как выжил, так и не понял. Может все это бардак, а может и предательство? Обороняться нас не учили, зато учили наступать и еще простым немецким фразам, всем даже выдали маленькие русско-немецкие разговорники.
К разговору подключился мой отец:
– Что там разговорники! Каменский рассказывал как-то, что им на руки выдали карты прилегающей местности, не нашей, а за границей. В общем «меньше крови на чужой территории».
Все саркастически заулыбались и тут же прекратили свой разговор, увидев меня, развесившего уши у их стола.
Второй раз они проговорились не в это время, в другое, уже значительно позже, и тема была другая. Провокация приключилась снова со стороны телевизора. Там говорили о бесчеловечности немцев во время войны. И все-то мазалось только черной краской. Не вытерпел Степан Михайлович Загорулько. Уже без всякого шепота, а громко сказал, что все они врут, и в нашем советском лагере было бесчеловечнее и унизительнее, чем в немецком. Там было хоть понятно за что сидели, а немцы, мол, не такие и звери, и наших немощных пленных не расстреливали, а лечили и он тому свидетель. Рассказывает:
– Пилю я во дворе госпиталя дрова. На крыльцо выходит врач в белом халате, подзывает. Положил пилу. Поднимаюсь на крыльцо. Он заставил снять рабочую одежду, дал халат и повел в операционную, а там немецкий хирург пытается спасти нашего военнопленного от гангрены на ноге. В общем дали мне специальную медицинскую пилу и пилил я кость нашему выше колена. Так хреново мне стало, что когда вышел на улицу, то меня вырвало. Непонятно чем, ведь ели мало, постоянно голодали. Другим жилось лучше, им помогал Красный крест. А ведь от него отказался не Гитлер, а Сталин. Объявил на весь мир, что пленных у нас не будет, а нас там, говорят, в немецких лагерях было миллионов пять, а вернулись на родину, может от силы два, остальные погибли или остались там на Западе. Сталину многие не верили, и не захотели возвращаться.
Плен всем им мешал жить в самом демократичном и человеколюбивом советском обществе и в течение лет двадцати пленом при случае их попрекали. Моего отца и того больше, поскольку он к пенсии вырос до главного технолога завода. Из-за того, что был в плену, при Хрущеве, в Москве его вычеркнули из списков награжденных орденом Красного Знамени, а при Брежневе трижды снимали с должности из-за беспартийности.
Слава Богу, всем им Господь подарил здоровых детей и годы жизни, которые прошли они все достойно. Отец мой прожил 87 лет. Пережил его только Иван Щекотько. Был он в храме на отпевании отца. На поминках встал с рюмкой в руке долго собирался, наконец дрожащим голосом сказал: «Анатолий, …как же тебя всю жизнь унижали! Как ты это терпел?». Заплакал и сел.
Теперь самый раз вспомнить о моей жизни в доме на улице Советской, и соседях, которые меня тогда окружали. Двадцать лет прожил я в маленьком двухэтажном доме, а двор наш был сформирован тремя такими домами. Определенно, что каждая семья, проживавшая в нашем доме, была по-своему оригинальна и интересна. И что странно, сейчас, кажется, и, пожалуй, даже я уверен в этом, что разношерстность семей в домах была совсем не случайной. Конечно, я далек от мысли, что кто-то на местах специально думал, как посильнее перемешать людей. Однако то, что все-таки это чиновниками делалось на уровне подсознательном, где работал мощный инстинкт самосохранения, было несомненным. Ведь что удивительно, не только в нашем доме, но и во всех соседних было определенное отчуждение семей друг от друга. И причем отчуждение естественное, а совсем не случайное. Все люди в нем были из разных прослоек общества, с абсолютно разными интеллектами и, конечно, интересами. Имело место еще одно расслоение людей, которое было присуще только социалистическому обществу Советского Союза, самому передовому в мире обществу, как утверждали его лидеры. Ущемлены в правах были больше двух миллионов мужчин бывших во время войны в плену, ну и конечно те, у кого не было партийного билета в кармане. Вот так и жили, в одной квартире хозяин умный, с руками и головой, но был в плену и беспартийный, а в соседней пьяница и дурак, но в плену не был и коммунист. Власть же людей оценивала по анкетам, а не по делам, и второй всегда имел преимущество перед первым. А ведь со стороны казалось, что все живут одной семьей и одними интересами. Во дворе, например, бегают дети, и все присмотрены дворовыми бабушками, которые прекрасно знают, какой ребенок чей. Гармония, однако, эта была только на уровне маленьких детей и бабушек. На уровне взрослых – дисгармония полная.
В бытовой жизни власть, как и везде, насаждала нам надуманную и противоречивую идеологию. Самый передовой класс, с которого всем надо было брать пример и учиться у него, – рабочий класс. Правда, не совсем понятно, чему учиться. Пьянство, мат, драки – весь этот негатив исходил в основном из рабочих семей. Пьянство имело место и в семьях интеллигентных, но оно там не было таким массовым и напоказ не выставлялось. В то же время и говорилось, и писалось, что если рабочие будут жить рядом с интеллигенцией, то их культурный уровень непременно вырастет. Оно, возможно, хоть в малой доли так бы и было, если бы положение в обществе интеллигенции гуманитарной и технической было бы естественным, соответствующим сложному труду, которым они занимаются. Народ обязательно должен видеть, что сложный труд оценивается обществом значительно выше простого. Реально же, в советское время, власть унижала интеллигенцию и морально и материально. Знания и культуру она только декларировала как ценность, а практически за ценности не признавала и дискредитировала в глазах народа. Все это видели очень хорошо, поэтому словам не верили, и результат смешения оказался на деле противоположным обещанному властью. Культура и профессионализм граждан страны за годы советской власти заметно понизились.
Моя семья не имела большого культурного превосходства по сравнению с соседями, и сейчас, с позиции прожитых лет, мне кажется, что для меня это смешение было определенным благом. В моем маленьком дворе на улице Советской (какое символичное название) было представлено в миниатюре все тогдашнее, именно советское общество страны. Не было у нас только религии, поскольку городок появился на земле при советской власти. Но и здесь кто-то свыше побеспокоился обо мне и дал возможность соприкоснуться с христианством, причем в самом его ортодоксальном виде – старообрядчестве. Бабушка жила недалеко в деревне, и была истовой староверкой. Таким образом, оканчивая школу и вступая во взрослую жизнь, я соприкоснулся со всеми явлениями этой жизни, мог их достаточно объективно сравнить и был хорошо подготовлен для существования в советском обществе.
Так что же люди жили в моем доме? На нашем этаже в первой квартире жил электрик с семьей, во второй жила моя семья, отец начальник цеха. В третьей – хирург, главврач нашей городской больницы с женой, тоже врачом, и двумя детьми. В четвертой – кузнец, Иван Петрович, с женой и пятью сыновьями. Думаю одного этажа достаточно, если перечислять всех, то картинка не изменится. Остановлюсь несколько подробнее на трех семьях, которые преподали мне особенно важные уроки.
Начну с четвертой квартиры, с Ивана Петровича. Трезвым я его видел, может раза три-четыре за всю жизнь. Пил он и на работе. Вспоминаю такой случай. Однажды Ивана Петровича лишили квартальной премии. Вечером директор уходит с завода и слышит, что как-то странно работает молот. Пошел в цех и что видит: Иван Петрович и его напарник оба в стельку пьяные. Иван Петрович на молоте пытается сыграть «яблочко», а напарник посреди цеха его станцевать. Его семейство не давало скучать не только нашему дому, но и всему двору. Преподавал своим сыновьям науку пития, конечно, глава семьи, который имел очень характерный внешний вид, и особенно нос. Любил Иван Петрович бурчать на нашу промышленность, что, мол, выпускают неудобные для питья стопки и, чтобы выпить до дна, надо больно сильно запрокинуть голову. Его нос плотно фиксировал стопку, и она не имела маневра. В результате все мужики этой семьи сгорели от водки, и никто не дожил даже до шестидесяти лет.
Хирург – Иван Владимирович, орденоносец, умный, интеллигентный человек, выделял меня из толпы детей, почему-то любил со мной общаться, и разговаривал всегда как с равным. Был Иван Владимирович маленьким, худеньким, с седыми волосами до плеч и абсолютно выцветшими светло-голубыми глазами. Чаще всего вспоминается он мне, сидящим с южной стороны нашего дома на солнышке в легком плетеном кресле, с клетчатым пледом, накинутым на ноги. Возможно, наблюдать нашу беготню по двору для старого врача было развлечением. Удивительно, но разговор с ним меня почему-то не напрягал, наверное, потому, что интерес к моей жизни у него был искренний. Не почувствовать это было невозможно и я охотно и с желанием отвечал на его вопросы. К сожалению, Иван Владимирович быстро состарился, в 67 лет выглядел как немощный девяностолетний старик и рано умер. Отец и Иван Владимирович с уважением относились друг к другу. Пару раз он был участником наших семейных праздников. Меня шокировало то, что женщины бесцеремонно задирали перед ним свои праздничные платья, а он спокойно и доброжелательно рассматривал что-то на их телах. Оказывается, все они были когда-то его пациентами.