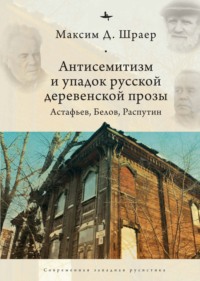Полная версия
ГЕНРИХ САПГИР классик авангарда. 3-е издание, исправленное
Сказал пастух, лукаво помолчав. – [Я5]
С детства я – коров водитель, [Х4]
Но скажу вам, осерчав: [Х4]
Вся природа есть обитель. [Х4]
Вы, мужики, живя в миру, [Я4]
Любите свою избу, [Х4]
Я ж природы конуру [Х4]
Вместо дома изберу. [Х4]
Некоторые движения коровы [Х6]
Для меня ясней, чем ваши. [Я4][107].
В. Холшевников предлагает называть такую структуру «зыбким метром»[108]. В советских стиховедческих исследованиях, по очевидным причинам исключавших значительный массив поэтических текстов, было принято считать, что «устойчивой традиции подобный стих не образовал»[109]. Пример Сапгира – свидетельство того, что (сверх)полиметрические эксперименты, начатые Хлебниковым, Заболоцким и другими поэтами в первой половине XX века, вовсе не ушли в песок[110]. Степень неурегулированности, несимметричности и смешанности размеров, а также неурегулированности и несимметричности рифмовки и строфических форм в стихах Сапгира так велика, что многие из них можно охарактеризовать как «зыбкие» лишь в первом приближении. Быть может, точнее их назвать (сверх)микрополиметрически-(сверх) зыбкими?[111]
4. Формула Сапгира
В стихах Сапгира экспериментально не только стихосложение как таковое, но и отображение и передача в нем абсурдности повседневного существования. Русская былина и песенный фольклор[112]; Эдвард Лир, Льюис Кэрролл и струя английского викторианского нонсенсизма[113]; наследие русского символизма (сологубовско-блоковская «дурная бесконечность») и футуризма (Маяковский, Хлебников, Крученых); сатирико-элегическая поэзия (Саша Черный, Дон-Аминадо); смех-сквозь-слезы и семантический сдвиг современной поэзии на идиш («Мониш» И. Л. Переца; Лейб Квитко; Авром Сутцкевер и др.), перенятые Сапгиром у Овсея Дриза; обэриуты[114]; советские поэты-модернисты среднего поколения (Леонид Мартынов, Борис Слуцкий), кафкианский пароксизм отчаяния и вызов логике здравого смысла; западноевропейские абсурдистские поэзия (К. Моргенштерн) и театр (С. Беккет, Э. Ионеско, Жан Жене), а также джаз, в особенности засасывающие повторы блюзов – все это вошло в стихи Сапгира на рубеже конца 1950-х—начала 1960-х и прочно утвердилось в его поэтике.
Борис Слуцкий, который «привел» Сапгира в детскую литературу, говорил: «Поэт должен появляться, как Афродита, из пены морской!»[115]. Добавим: из пены мирской! Из «сора» жизни, о котором писала Анна Ахматова[116]. За «Голосами» и «Молчанием» последовало еще около тридцати книг и отдельно стоящих циклов, но, наряду с «Сонетами на рубашках» (1975—1989), эти две первые книги до сих пор остаются самими цитируемыми, антологизируемыми и переводимыми из всего «взрослого» стихотворного наследия Сапгира. (В 1997 г. Сапгир включил в свою итоговую подборку в антологии «Самиздат века» поэму «Бабья деревня», пять текстов из книги «Голоса», один из книги «Молчание» и один из книги «Сонеты на рубашках»[117].) Сапгир эволюционировал (скорее, по Жоржу Кювье, при посредстве социальных и личных катаклизмов, чем по Чарльзу Дарвину, путем естественного отбора). Он менялся из книги в книгу, впитывая в себя формальные веянья и литературные моды четырех последних десятилетий XX века. Критики неоднократно указывали на «протеизм» Сапгира, на его способность к самопреображению[118]. Это так и не так. Пропуская через себя – как кислород и как дым костра и сигарет – авангардные искания своих современников или последователей («конкретизм», «концепт», «метаметафоризм»[119] etc.) и возвращаясь к своим литературным истокам, Сапгир оставался самим собой. Вспомним мысль Тынянова, высказанную еще в 1924 году в статье «Промежуток» по адресу стихов Ильи Сельвинского: «… каждое новое явление в поэзии сказывается прежде всего новизной интонации»[120]. Читатель интуитивно чувствует эти единственные, сапгировские интонации. Об этом еще в 1964 г. написал Ян Сатуновский: «Хочу разобраться в общих чертах – что такое Сапгир, что в нем нового и что в этом новом старого. Нового – новая интонация»[121]. Сапгировская нота. Голос Сапгира. Дыхание Сапгира. Молчание Сапгира. И, наконец, адекватная интонациям Сапгира графическая запись его стихов[122]. В чем же формула (поэтики) Сапгира? Как она узнается? Попытаемся здесь отметить (на полях книг и стихов) характерные ее особенности, приводя лишь отдельные примеры, а также ссылаясь только на некоторые книги (циклы, поэмы), где эти особенности выражены в полной мере. Разумеется, в корпусе текстов такого талантливого поэта, как Сапгир, для некоторых примеров найдутся и контрпримеры. И, конечно же, в отдельности некоторые из выделяемых ниже особенностей характерны и для стихов других современных Сапгиру поэтов. Но речь идет не столько об отдельных характеристиках стихосложения, языка, стилистики и тематики стихов Сапгира, сколько об их совокупности, уникальной для его творчества.
«Формула Сапгира»
(в направлении описательной поэтики)
Стихосложение
(о стихосложении см. также предыдущий раздел)
♦ (сверх)микрополиметрия (кн. «Слоеный пирог», 1999; поэма «Жар-птица», 1999);
♦ неурегулированность и нерегулярность рифмовки, употребление тавтологических, составных, а также диссонансных и разноударных рифм; (например: «Лежа, стонет / Никого нет, / Лишь на стенке черный рупор / В нем гремит народный хор. / Дотянулся, дернул шнур! <…> («Радиобред»)[123]; «<…>А законную жену / Из квартиры выгоню / Или в гроб вгоню!» («Предпраздничная ночь»); «Воздушный пируэт – / Самолет пикирует» («Смерть дезертира»), все три стихотворения в кн. «Голоса», 1958—1962)[124];
♦ нетрадиционная графическая запись стихов внутри целого стихотворения (кн. «Псалмы», 1965—1966) и слов внутри стиха (цикл «Проверка реальности», 1998—1999), продолжающая (пост)-футуристические эксперименты и разбивающая конвенциональные представления об отличиях стиха от прозы (кн. «Элегии», 1965—1970) и о единицах членения стихотворения (кн. «Дети в саду», 1988);
♦ эксперимент с твердыми формами: сонет, рубаи и др. (кн. «Сонеты на рубашках», 1975—1989; кн. «Стихи для перстня», 1981);
♦ ярко выраженная паронимичность («Слоеный пирог», 1999)[125], причем паронимические эксперименты Сапгира в целом ближе к «будетлянскому» полюсу, чем к «классическому-блоковскому», и отмечены постфутуристическим взрывным параллелелизмом, ярко выраженным у Николая Асеева и Семена Кирсанова[126], ср.: «Я запретил бы „Продажу овса и сена“… / Ведь это пахнет убийством Отца и Сына“ Асеева («Объявление», 1915) и «я подумал: лагоре эребус / и увидел море автобус“ Сапгира («Песня», в кн. «Встреча», 1987)[127]; набоковский каламбуризм и анаграмматизм: «Саван-на-рыло, – кличка одного из вождей» (в «зоорландских» эпизодах романа Набокова «Подвиг»[128]) и «Снег / сыплется из фонаря / Я думаю: / Си-ва-но-ря («Снег из фонаря», в кн. «Молчание», 1963).
Языковые особенности и их источники
♦ употребление и переработка русского народного, советского и постсоветского фольклора («Голоса» 1958—62; «Лица соца», 1990; «Новое Лианозово», 1997); например: «На постели / Лежит / Игорь Холин / – Поэт / Худой, как индус. / Рядом Ева – без / трусов. / Шесть часов», «Утро Игоря Холина» в кн. «Голоса»)[129];
♦ деавтоматизация и литерализация пословиц, поговорок, афоризмов, клишированного языка; например: «Что ж, был бы муж как муж хорош, / И с обезьяной проживешь», («Обезьян», в кн. «Голоса»)[130];
♦ сочетание аналитической тавтологичности и повтора как прием актуализации смысла; например: «сержант схватил автомат Калашникова упер в синий живот и с наслаждением стал стрелять в толпу / / толпа уперла автомат схватила Калашникова – / сержанта и стала стрелять с наслаждением в синий живот <…>»[131] («Современный лубок. 3. Сержант»), в кн. «Путеводитель по Карадагу», 1990); в тавтологических повторах Сапгира заметен след обэриутов (ср. «Иван Топорышкин» [1928] Даниила Хармса), но метод скорее сродни Гертруде Стайн, ср. у нее: «<…> December twenty-sixth and may do too. / December twenty-seventh have time. / December twentyeighths a million. / December twenty-ninth or three. / December thirtieth corals. / December thirty-first. So much so», «А Birthday Book», 1924)[132];
♦ интерес к неологизмам, корнетворчеству[133], зауми (транс-смыслу) (кн. «Терцихи Генриха Буфарева», 1984—1987; кн. «Встреча», 1987; кн. «Смеянцы», 1995);
♦ внедрение иностранной лексики (особенно английской, немецкой, французской, украинской, идиш, иврит) и смешение языков; например: «<…> Не told of many accident [sic] / вейз мир! Вей! / – кто там? / It’s me / – не открывай / герл вытягивает перлы <…>» («Три урока иврита», circa 1997)[134], «Вали сняг как проливен дъждь / Небе – водна жаба бяла / Нежной ты и чуждой стала <…>» («Фъртуна. Славянская лирика», 1993 [135]);
♦ сечение слов и опускание частей слов; например: «ржавый бор на бере выбр / ракови открыла жабр / пластик пальмовые ребр / от Адама – странный обр»[136] («Кукла на морском берегу», цикл «Мертвый сезон» в кн. «Дети в саду», 1988).
Стилистические и жанровые параметры
♦ абсурдизм и нонсенсизм (об этом см. выше; кн. «Слоеный пирог», 1999);
♦ гротескность и сатиричность (кн. «Голоса», стихи из которой в некоторых изданиях и публикациях печатались с подзаголовками «гротески» или «сатиры»[137]; кн. «Терцихи Генриха Буфарева»); в некоторых стихах Сапгира заметно родство с «гротесками» «последнего парижского поэта» Игоря Чиннова (1909—1996)[138].
♦ театральность[139] и «мизансценовость» (кн. «Мол-чание», 1963, кн. «Монологи», 1982);
♦ перформативность и привлечение читателя к генерированию смысла (кн. «Тактильные инструменты», 1999);
♦ кинематографичность, кадровое построение текста и эффект «глаза-кинокамеры» (цикл «Этюды в манере Огарева и Полонского», 1987; кн. «Слоеный пирог»)[140];
♦ представление о паузе, пробеле, дыхании, молчании, пустоте как важных структурных элементах стихотворного текста; текст молчания (кн. «Дыхание ангела», 1989, кн. «Глаза на затылке», 1999)[141];
♦ центонность и игра с литературными цитатами[142]; например: «Ах, все во мне перемешалось? / Россия… Франция… века» («Голова сказочника» в кн. «Московские мифы», 1970—1974) ср. «Декабрист» (1917) О. Мандельштама; «Ноль пришел ко мне с букетом / замороженных цыплят» («Букет» в кн. «Голоса»[143]) – ср. «Я пришел к тебе с приветом / Рассказать, что солнце встало» (1843) А. Фета; «социализм без конца и без краю!.. / узнаю тебя жизнь – / понимаю»[144] («No. 40 (из Александра Блока)» в кн. «Лица соца») – ср. у Блока: «О, весна без конца и без краю – <…> / Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!» (из цикла «Заклятие огнем и мраком», 1907);
♦ «литературность»[145] («Черновики Пушкина», 1985; «Этюды в манере Огарева и Полонского», 1987);
♦ сдвиг реальности и «сюр»[146] (поэма «МКХ – Мушиный след», 1981; кн. «Параллельный человек», 1992);
♦ примитивизм, синтез наивно-детских и взрослых перспектив, остранение за счет построения детской точки зрения (кн. «Дети в саду»).
Тематика и проблематика
♦ острая социальная тематика и обследование моральных аберраций (советского и постсоветского) общества – например: «Но есть консервы РЫБНЫЕ ТЕФТЕЛИ / Расплывчатость и фантастичность цели / Есть подлость водка скука и балет <…>»[147] («Сонет о том, чего нет» в кн. «Сонеты на рубашках»);
♦ исследование быта и семейных отношений советских и постсоветских городских обывателей; этот тематический импульс исходит прежде всего от «Городских столбцов» Заболоцкого и отчасти от рассказов Михаила Зощенко[148] (кн. «Голоса»);
♦ ангажированность еврейских и иудейских вопросов: Шоа (Холокост), иудейско-христианские отношения, антисемитизм (кн. «Молчание»; кн. «Псалмы», 1965—1966);
♦ метафизичность: изнанка бытия, потустороннее и пост-мортемное, ангелизм (кн. «Конец и начало», 1993, кн. «Три жизни», 1999);
♦ философская лирика[149] (поэма «Старики», 1962; кн. «Элегии»);
♦ изображение быта и бытия литературно-художественной богемы (кн. «Московские мифы»);
♦ насыщенность стихов географией, топонимикой, историческими персонажами, особенно художниками и литераторами – например: «Командировка» (1964); «Сонеты из Дилижана» (кн. «Сонеты на рубашках»).
♦ карнальность и эротичность (цикл «Люстихи», 1964; кн. «Элегии», 1967—1970; кн. «Любовь на помойке», 1992);
♦ политическая злободневность (кн. «Глаза на затылке»).
5. Умный кролик
Точна оценка широты горизонтов жизни и творчества Сапгира, данная Виктором Кривулиным вскоре после смерти поэта: «…у Сапгира было много ролей, по крайней мере, несколько различных литературных масок: официальный детский поэт и драматург, подпольный стихотворец-авангардист, впервые обратившийся к живой новомосковской речевой практике, сюрреалист, использовавший при создании поэтических текстов опыт современной живописи и киномонтажа, неоклассик, отважившийся „перебелить“ черновики Пушкина, визионер-метафизик, озабоченный возвышенными поисками Бога путем поэзии, автор издевательских считалок, речевок, вошедших в фольклор <…>. Все это Сапгир» [150].
Именно так и было. Детский поэт Генрих Сапгир широко печатался в издательствах «Детская литература» и «Малыш», издав с 1960 по 1984 год около 40 детских книг[151]. Многие из его детских стихов, среди которых «Бутерброд», «Лимон», «Полосатые стихи», «Стихи про слова» и другие, стали «культовыми». Вот одно из самых знаменитых, «Умный кролик»: Умный кролик / Сел за столик. / А затем в одно мгновенье / Сочинил стихотворенье: / Умный Кролик / Сел за столик»[152]. Это блистательный детский метатекст, близкий художественным исканиям Сапгира – «взрослого» поэта. В детских театрах страны шли пьесы Сапгира. Кинорежиссеры снимали мультфильмы по его сценариям и детским книгам: «Лошарик», «Мой зеленый крокодил», «Паровозик из Ромашкова»… Всего около сорока анимационных фильмов.
К середине 1960-х годов Сапгир (как и Холин) утвердился как детский поэт, драматург и киносценарист. В 1992 году Сапгир вспоминал: «Я много работал в своей жизни, всякой работой зарабатывая деньги просто. Для кино писал, для театра писал. Наверное, не самые лучшие произведения <…> Я доволен, что я так жил. А если бы сейчас краска стыда покрывала мои щеки, как я извивался и вползал куда-то, а сейчас бы я был раззолоченный? Все равно мои бы года остались бы при мне, мое мышление. Но только было бы как-то все испоганено, испачкано. Поэтому я не завидую людям, которые процветали. Им тяжело сплошь и рядом»[153].
«[К]огда я начал писать детские стихи, – рассказывал Сапгир в том же интервью, – то очень скоро замаячила радужная перспектива быть всюду принятым <…> идти по пути старшего Михалкова [Сергея Михалкова], что называется. Но, слава Богу, меня удержали взрослые стихи»[154]. Разумеется, бинарность «детское—взрослое» в жизни и творчестве Сапгира – искусственное и даже уродливое порождение советской эпохи. Как бы развилась карьера Сапгира, и писал бы он вообще детские вещи – предмет постфактумных гипотез. Но важно учесть два обстоятельства. Во-первых, мысль В. Кривулина, что «<…> как детский поэт он действительно был высочайшим профессионалом. А во взрослых стихах этот профессионализм ему иногда вредил. И он сам это чувствовал, стремился от него освободиться»[155]. Во-вторых, тот факт, что в 1998 году сам Сапгир относил к «самым значимым книгам», вышедшим со времени публикации его взрослых стихов в СССР в 1988 году, следующие: «Сонеты на рубашках» ([1978], 1989, 1991), «Пушкин, Буфарев и другие» (1992), «Избранное» (1993), «Смеянцы» (1995), «Принцесса и людоед» (1996) и книгу «Летящий и спящий» (1999)[156].
18 мая 1995 года, в Париже, после чтения новых стихов в номере гостиницы «Ла Мармот» в квартале Монторгейль (неподалеку от любимого им Центра Помпиду), Генрих Сапгир сказал авторам этих строк, что за последние восемь лет он многое понял о том, как устроено детское мышление, что оно гораздо более сродни поэтическому. «Писатель должен быть – как мальчик в берлинской пивной в рассказе Набокова „Путеводитель по Берлину“», – добавил Сапгир позднее в тот же день, сидя в парижском кафе[157]. Похожая мысль изложена в письме Сапгира 1988 года: «Сам я за этот год написал книгу стихов [т. е. книгу «Дети в саду»] – совсем новых по форме. Долго объяснять, но все слова в них то разорваны, то пропущены, то осталась половинка. Тебе это должно быть понятно. <…> Я шел от того, как мы мыслим. А мыслим, оказывается, устойчивыми словами и группами слов, где одно можно заменить другим – и ничего не изменится, кроме гармонии, конечно»[158]. А еще через несколько лет, уже в Москве, зимой 1999 года, Сапгир сказал нам, что ему особенно дорога книга «Дети в саду» – высокий синтез формальных поисков поэта в детских и взрослых стихах. Об этой же книге Сапгир говорил в опубликованной беседе с А. Глезером: «[Я] понял, что можно писать не цельными словами, а частями слов, намеками на слова. Так написаны „Дети в саду» <…>»[159].
Вот начало стихотворения «Памятное лето»:
Пионер ла
пительном не
лышатся фла
муторно мне
варится борщ
в спальне отря
журю не зря
ляжки уборщ
белые-бе
мощные ляж
зяйчики пляш
руки дебе <…>[160].
Как бы сложилась профессиональная карьера Сапгира в советское время, если бы он сочинял свои детские стихи не правильными классическими размерами, а экспериментировал? Среди детских стихов Сапгира много «профессиональных» в смысле абсолютно сознательного учета уровня читательской подготовки. Именно в этом сила и вековечность многих популярных детских стихов Сапгира, и именно это имел в виду Б. Слуцкий, напутствуя Сапгира («Вы, Генрих, формалист, поэтому должны отлично писать стихи для детей»). Из книги «До-ре-ми» (1968): «Дореми – смешной король – / Объявил жене Фасоль: / – Дорогая, я узнал, / Что у нас сегодня бал. / Нарядись. И дочь Ляси / Приодеться попроси.[161].
Из прославленного «Лошарика»:
<…> Однажды во время воскресной программы,
когда восхищенные папы и мамы
смотрели, как ловит
мячи, и тарелки,
и пестрые шарики
юный Тарелкин,
как прыгают
все они
сами из рук <…>[162].
Книга «Смеянцы: стихи на детском языке» (1995) занимает особое место в творчестве Сапгира. Книга эта – своего рода «Exegi monumentum…» Сапгира – детского писателя. Это в каком-то смысле ответ на высказанное еще в 1964 году пожелание Яна Сатуновского: «<…> жаль, что в детских стихах Сапгира почти отсутствует фантазия, выдумка, деформация действительности, характерная для мышления ребенка и поэта! С таким даром, да если ему дать волю, может появиться небывало новый, интереснейший детский поэт, может быть, сказочник, Сапгир»[163]. На то, что это «взрослые» детские стихи, сам Сапгир намекает в предисловии: «Дорогие дети и уважаемые взрослые дети! Когда я, сам взрослый ребенок, играю забавными пестрыми словами <…>»[164]. В стихах, собранных в «Смеянцах», сочетаются многогранные стихотворческие эксперименты, на которых построены как прекрасные книги Сапгира «Терцихи Генриха Буфарева» и «Дети в саду», так и менее удачная «Встреча». Среди источников экспериментов Сапгира в «Смеянцах» – Льюис Кэрролл, обэриутские «детские» стихи, но прежде всего – Хлебников. «Смеянцы» названы в память о хлебниковском «Заклятии смехом» (1909): «О, рассмейтесь, смехачи! / О, засмейтесь, смехачи! / Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, / О, засмейтесь усмеяльно! / О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! / О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! <…>»[165].
В «Смеянцах» встречаются тексты, в которых тот же уровень сложности и открытости словесных экспериментов, что и во взрослых книгах Сапгира. Вот начало стихотворения «Пельсисочная» (кн. «Терцихи Генриха Буфарева»): «В мырелки шлепают пельсиски / В стакелках светится мычай / Народострах и чуд российский <…>»[166]. Сравните эти строки со стихотворением «Мурота» (кн. «Смеянцы»): «Мурота, мурота. / В дуроте – белота, / а над ней – небота, / в неботе – пустота. <…> / Снегота, снегота, / ты пушистее кота, / ты встретишь нас волчанием, / а проводишь нас свычанием»[167]. Из стихотворения «Стражи» (кн. «Встреча»): «Там на страшной высоте / реют силые линоны / длиннокрылые линоны / тамнастра и тимносте <…>[168]. Сопоставьте со стихотворением «Теменя и ясеня» (кн. «Смеянцы»): «<…> В темень собираюсь / в гости к мигунам, / в ясень озираюсь, / смотрю по сторонам. / В темень меня вирши / носят и роняют. / В ясень меня тоже / кто-то сочиняет»[169].
Сапгир в «Смеянцах» пародирует и эпатирует выбранные тексты дореволюционного времени и советской эпохи, причем как детские, так и взрослые, взятые как из высокой поэзии, так и из поп-культуры. Слышится в «Смеянцах» эхо басен Сергея Михалкова и стихов Агнии Барто, детских стихов Лейба (Льва) Квитко и Овсея Дриза (которого Сапгир переводил). Вот начало стихотворения Сапгира «Кукареку-парк»: «Поедем в кукареку-парк, / зеленый и многоэтажный, / где петухи гуляют важно, / на поводках ведя собак. // Мы посетим кафе «Уют», / где блеют и рычат за стойкой. / А посетителей там столько! – / там козы в юбочках поют»[170]. А вот начало стихотворения Осипа Мандельштама «Царское село» (1912), посвященного Георгию Иванову: «Поедем в Царское Село! / Свободны, ветрены и пьяны, / Там улыбаются уланы, / Вскочив на крепкое седло… / Поедем в Царское Село!»[171]. Из четырехчастного стихотворения Сапгира «Хохотания»: «Над городом Смеха / широкое эхо / и шуткам и песням / звучало в ответ: / драконов, драконов, / лиловых, зеленых, / огромных и страшных / давно уже нет! <…>»[172]. Сравните эти стихи со словами популярной «детской» песни Александры Пахмутовой – Николая Добронравова «Улица Мира» (1975): «На улице Мира – веселый народ. / Над улицей Мира – в сто солнц небосвод. / На улице Мира мы выстроим дом, / И сами с друзьями мы в нем заживем! Припев: Дом, что мы построим, / Время не разрушит, / Солнце не уступит черной мгле, / Потому что дружба – сильное оружье, / Главное оружие на земле! <…>»[173]. Как стихи текст Добронравова – ниже всякой критики. Вполне вероятно, что, пародируя их, Сапгир стремился показать, что профессионала высокого класса – пусть даже вынужденного писать «легкие» тексты – прежде всего отличает от штамповщика поэтического ширпотреба не жанр и тематика, а именно качество поэтического материала.
Достаточно в «Смеянцах» и отсылок к стихам самого Сапгира. Местами сапгировский мощный словотворческий напор выплескивается через край, и такие стихотворения на «детском языке» вряд ли под силу самим детям, как в случае стихотворения «Брон и Мускила»: «Мускила – вазетта / заломного цвета / обратноколенными лапами / стручала, плясала, / огном потрясала, / увешана скумными тряпами <…>»[174]. В целом этой амбициозной книге недостает легкости, стройности, изящности. Несмотря на приглашение – как детей, так и их родителей – к веселым словесным приключениям, при чтении «Смеянцев» ощущается прежде всего незавершенность лабораторных экспериментов Сапгира в области усложнения детских стихов заумью и перегрузки литературными аллюзиями. Собранные в «Смеянцах» стихи не пользовались большим успехом среди детей и их родителей, особенно по сравнению с такими классическими текстами Сапгира, как «Лошарик», «Принцесса и людоед» или «Умный кролик». Подзаголовок книги «Смеянцы» будто предострегает о том, что стихи для детей пишутся не на «детском языке».
6. Псалмопевец
В течение раннего брежневского правления Сапгир упорно сочиняет книги «несоветской поэзии», не публикуя ни строчки из них в СССР: «Псалмы» (1965—1966), «Элегии» (1965—1970), «Московские мифы» (1970—1974)[175]. Его стихи по-прежнему наполнены беспощадной социальной иронией:
В альбом
В Северодвинске
Живут по-свински (цикл «Командировка», 1964)[176].
Некоторые стихи Сапгира непосредственно откликаются на политические события. Если в стихотворении «Клевета» (кн. «Голоса») речь, судя по всему, идет о травле Бориса Пастернака (1958), последовавшей за публикацией «Доктора Живаго» на Западе и награждением его Нобелевской премией: «Напечатали в газете/ О поэте.//Три миллиона прочитали эту / Клевету <…>», – то через несколько лет, в цикле «Командировка», Сапгир прямым текстом говорит о суде над Иосифом Бродским и его ссылке на Север: «Уедешь ты Иосиф / В архангельские леса / Отбывать срок / Отбывать срок / Рыжебородый / Не нашей породы / Пророк <…>»[177]. Центральное место в творчестве Сапгира 1960-х годов занимает книга «Псалмы» (1965—66). В ней воплотились принципы поп-арта – монтаж в едином художественном пространстве разнородных предметов, тем, ритмов, идей, образов, компонентов массовой культуры и др., – открытые для Сапгира и других лианозовцев Оскаром Рабиным[178]. Сапгир пояснял: «В „Псалмах“ <…> есть и цитаты из Библии, и мой номер телефона, и рецепты, и надписи, которые я вставил в стихи. Это был коллаж, который и есть постмодернизм. Но научили меня всему этому американские поп-артисты»[179]. Характерно, что, строя всю книгу на шокирующих столкновениях ожидаемого (каноническая библейская поэзия псалмов) и неожиданного (образы насилия в мировой и еврейской истории; проза(ика) советского быта), Сапгир одновременно осознал себя «поп-артистом» и художником-метафизиком. В. Кривулин назвал «Псалмы» Сапгира «молитв[ой], вмонтированн[ой] в газетный лист» [180]. Здесь необходимо ввести в наш обзор новую яркую фигуру. Это замечательный еврейский писатель Овсей Овсеевич Дриз (Шике Дриз, 1908—1971). Сапгир дружил с Дризом еще со времен их работы в скульптурных мастерских Художественного фонда, в начале 1950-х. В одной из последних книг «Три жизни» (1999) Сапгир вспоминает: «Я помню как в кафе / у Курского вокзала / взгромоздившись на стул / Дриз произнес речь: / Друзья мои! – в пространство / Говори отец! – / закричали кругом:/ сейчас сейчас / седой пророк – / все объяснит! // Укажет виноватых! / Откроет жизни смысл! / Бородач крестится на Овсея / как на икону / Николая угодника / – Нет, не могу – / – слез со стула / – и ушел пошатываясь – <…>»[181] («Овсей Дриз»). Об этом эпизоде Генрих Сапгир рассказывал не раз, в несколько иной редакции. В устной передаче Сапгира, он застал в пивной у Курского вокзала в Москве следующую сцену: на стуле стоял Овсей Дриз, пьяный, с вздыбленной седой шевелюрой, и читал стихи. Он читал долго, на идиш, с параллельным дословным переводом на русский, и его никто не прерывал. Люд в пивной был самый разный, в том числе привокзальная шпана. Пока Дриз читал, несколько посетителей пивной плакали. Когда Дриз закончил, один работяга бросился ему в ноги со словами: «Отец, как жить?!»