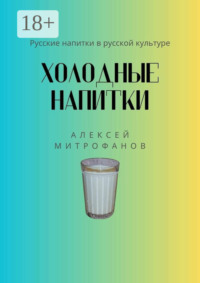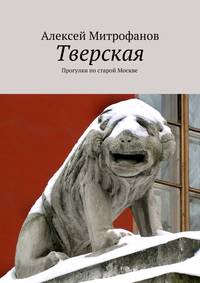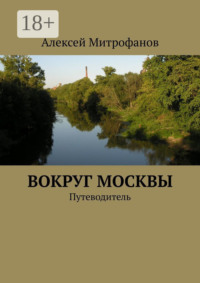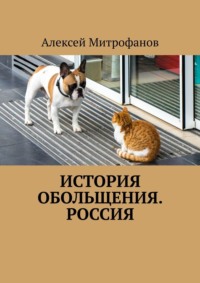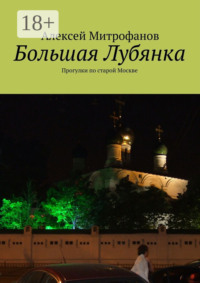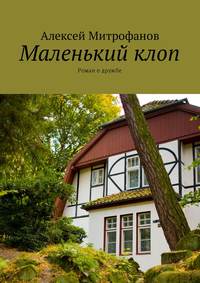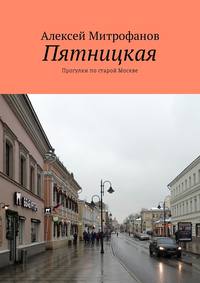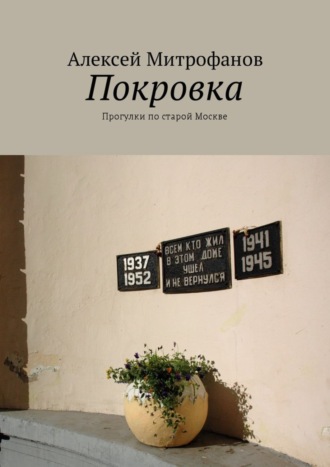
Полная версия
Покровка. Прогулки по старой Москве
– Скольки?
Платит, не торгуясь, и снова бьет».
Впрочем, и в самих рядах кипели страсти, и не шуточные. Вот, например, заметка из «Московского листка» от 1893 года: «10 февраля на Васильевской площади, против дома Маттейсон городовым Жуковым поднята вывеска, на которой было написано „Размен денег“ и видны оттиски от бывших наклеенными на ней разных монет. Оказалось, что вывеску эту неизвестно кто стащил с дверей меняльной лавки московского купца М. Алексеева в Теплых рядах на Ильинке, и что на ней было наклеено 6 серебряных рублей, 6 полтинников, 6 четвертаков и один кредитный рубль».
В этой истории чудесно все. И наивность купца Алексеева, и изобретательность жулика (не стал прямо в рядах отковыривать деньги, похитил всю вывеску сразу), и усердность полиции, которая, несмотря на очевидную бессмысленность, все же установила, откуда именно была украдена столь замечательная вывеска.
Кстати, Алексеев был своего рода отважный пионер. Дело в том, что поначалу московское купечество не жаловало Теплые ряды. Во-первых, там была довольно дорогая аренда лавочек. А во-вторых, смущал сам факт температуры как в жилых домах. Купец противился: «Это что же, я зимой что ли без шубы буду торговать? Да какой же я купец, когда без шубы? Кто же мне поверит-то?»
Но со временем все эти предрассудки были благополучно изжиты.
Кстати, Теплые торговые ряды вошли в художественную литературу. Именно здесь располагался амбар Лаптевых из повести Чехова «Три года»: «Главные торговые операции производились в городских рядах, в помещении, которое называлось амбаром. Вход в амбар был со двора, где всегда было сумрачно, пахло рогожами и стучали копытами по асфальту ломовые лошади. Дверь, очень скромная на вид, обитая железом, вела со двора в комнату с побуревшими от сырости, исписанными углем стенами и освещенную узким окном с железною решеткой, затем налево была другая комната, побольше и почище, с чугунною печью и двумя столами, но тоже с острожным окном: это – контора, и уж отсюда узкая каменная лестница вела во второй этаж, где находилось главное помещение. Это была довольно большая комната, но, благодаря постоянным сумеркам, низкому потолку и тесноте от ящиков, тюков и снующих людей, она производила на свежего человека такое же невзрачное впечатление, как обе нижние. Наверху и также в конторе на полках лежал товар в кипах, пачках и бумажных коробках, в расположении его не было видно ни порядка, ни красоты и если бы там и сям из бумажных свертков сквозь дыры не выглядывали то пунцовые нити, то кисть, то конец бахромы, то сразу нельзя было бы догадаться, чем здесь торгуют. И при взгляде на эти помятые бумажные свертки и коробки не верилось, что на таких пустяках выручают миллионы и что тут в амбаре каждый день бывают заняты делом пятьдесят человек, не считая покупателей».
Антон Павлович описывал амбар Гаврилова, с которым лично был знаком, и у которого его отец иной раз подрабатывал – в роли писца.
А при советской власти здесь расположилась штаб-квартира прокладки первых линий метрополитена. Одна из руководительниц строительства, Т. Федорова вспоминала: «Непривычно мне было первое время в большом кабинете на улице Куйбышева, 3 (при советской власти улица Ильинка носила имя Куйбышева – АМ.). Правда, засиживаться здесь не приходилось. В шкафу наготове видавшие виды сапоги, привычные комбинезон и телогрейка и старая любимая шахтерская каска (еще с моей „Новослободской“). В любую минуту наденешь – и в забой».
Ритм жизни метростроевцев несколько отличался от дореволюционного купеческого ритма.
Крепкая палка как биржевой инструмент
Здание фондовой биржи (улица Ильинка, 6) построено в 1875 году по проекту архитектора А. Каминского.
Образ Москвы торговой девятнадцатого века, в общем, непригляден. Этакое замшелое купечество из пьес Александра Островского и публицистики Владимира Гиляровского. Товар лежалый. Не обманешь – не продашь. Охотнорядцы.
Но вместе с этим на Ильинке медленно и терпеливо вырастал новый торговый институт. Биржа. По западному образцу.
Первое биржевое здание было построено, когда московская интеллигенция оплакивала смерть поэта Пушкина, в 1837 году. До этого здесь находился храм Дмитрия Солунского, однако в ту эпоху еще не было организованных радетелей за русскую духовность и архитектурное наследие, так что замена одного объекта на другой не вызвала общественного резонанса. Дескать, биржа так биржа – могло быть и хуже.
Поначалу новенькое заведение смотрелось жалко. Исследователь городского быта А. С. Ушаков (он же Скавронский) писал о бирже полтора столетия тому назад: «В Москве биржа – понятие очень обширное, и, как кажется, сколько ни стой она в таком виде и при подобном учреждении, она не привлечет большого сбора торгующих и долго еще будет ограничиваться небольшой кучкой по большей части иностранцев… Биржа – не в русском характере, и еще более не в характере московского дела, а особенно при таком устройстве, как настоящее… Биржа в Москве гораздо обширнее, чем кажется: она собирается во многих местах, почти целый день не редеет толпа на тычке, который для торговцев средней руки, не имеющих права посещать биржу (за что должно быть вносимо каждым ежегодно семь руб. сер.), может почесться истинной биржей».
Упрощенно говоря, вопрос цивилизованности, европеизированности (в те времена – практически синонимы) торговли сводился к состязанию между собственно биржей и «тычком» (так на московском деловом арго звалась Карунинская, ныне Биржевая площадь).
Победа в этой битве была вроде бы предрешена – в пользу «тычка», естественно.
Тем не менее, прогнозы оказались ложными. Биржа набирала мощь и силу, и в 1875 году для нее даже выстроили новый дом в парадном классическом стиле. «Храм Меркурия строится в духе классицизма, по аналогии с храмом Аполлона», – язвила московская интеллигенция.
Правда, не сдавался и «тычок». Петр Боборыкин так описывал Карунинскую площадь конца девятнадцатого века: «У биржи полегоньку собираются мелкие „зайцы“ – жидки, восточники, шустрые маклеры из ярославцев, греки… Два жандарма, поставленные тут затем, чтобы не было толкотни и недозволенного торга и чтобы именитые купцы могли беспрепятственно подъезжать, похаживают и нет-нет да и ткнут в воздух рукой. Но дела идут своим порядком. И на тротуаре, и около легковых извозчиков, на площади и ниже, к старым рядам, стоят кучки; юркие чуйки и пальто перебегают от одной группы к другой».
И тем не менее, примерно в то же время путеводитель по Москве с гордостью сообщает: «Московская биржа по своему обороту занимает одно из первенствующих мест в Европе».
А уровень задач, решаемых Биржевым комитетом, был приблизительно таким: «О торговле с Китаем», «О развитии русского торгового мореходства по реке Оби», «О пошлинах на товары, следующие транзитом через Закавказье», «О значении распространения технического рисования в интересах промышленности и необходимости преобразования Строгановского училища», «О проведении паровой железной дороги вокруг Москвы», «О привилегиях Финляндии относительно беспошлинного ввоза товаров в Россию».
Правда, на бирже все равно присутствовал неистребимый российский колорит. Вот, например, воспоминания московского купца Н. Варенцова: «В один из первых годов моего посещения Биржи меня привлек вид одного господина по схожести его с царем Петром I: он был высокого роста, а надетая на нем бобровая шапка еще увеличивала его рост, с черными усами и волосами, как у царя, и он держался гордо и надменно с ютящейся вокруг него биржевой мелочью. Спросил какого-то знакомого: „Кто это такой, так похожий на Великого Петра?“ – „Бонячевский богатый фабрикант Иван Александрович Коновалов“, – ответил он. – А не правда ли: вылитый грозный царь?»
В тех же мемуарах Варенцов писал: «Я отправился на Биржу с полным желанием избить… вруна Вагурина, для чего захватил крепкую палку».
Правда, избиение не состоялось – «врун Вагурин» вовремя покаялся и извинился. «Этим история закончилась, не драться же мне было с ним», – заключил Варенцов.
Но не все биржевые конфликты заканчивались таким мирным путем.
Общество страховщиков
Комплекс зданий Северного страхового общества (улица Ильинка, 21—23) построено в 1912 году по проекту архитекторов И. Рерберга и В. Олтаржевского.
Северное страховое общество было основано в 1871 году в Санкт-Петербурге, но, конечно же, сферой его влияния было все государство. Ведь специализацией общества было страхование от огня, а большинство столичных зданий было все-таки кирпичными и, как правило, пожарная команда приезжала раньше, чем все здание превратится в пепел. Да, конечно, выгорали целые квартиры, даже этажи. Но вероятность этого была невелика, и экономный петербуржец в большинстве своем предпочитал традиционное российское «авось».
То ли дело Москва, где до середины двадцатого века было множество зданий, построенных из древесины, по-дедовски. Не удивительно, что общество решило выстроить в Первопрестольной целый комплекс зданий – для размещения собственного офиса и для того, чтобы сдавать площадь внаем.
В архитекторах общество не ошиблось. Комплекс вышел замечательным. Большая часть москвичей, в те времена уже порядком подуставших от развернувшегося в городе строительного бума, приняла новшество не то что без обыкновенного брюзжания, а даже с радостью. Можно предположить, что основной заслугой архитекторов было деликатнейшее отношение к старинному архитектурному шедевру, расположенному по соседству с новостройкой. Ведь это была одна из красивейших церквей Москвы – Никола Большой Крест.
Церковь была построена Филатьевыми – архангелогородскими купцами – в 1680 году. А в ее подклете, по китайгородскому обычаю, был обустроен склад товаров.
Этот храм вообще использовали в качестве чуть ли не витрины. И в газетах то и дело попадались приблизительно такие сообщения: «На алтаре храма св. Николая чудотворца, именуемого „Большой Крест“, что у Ильинских ворот, вновь помещена на днях вывеска с изображением сапог и штиблет, снятая, по распоряжению епархиального начальства, в сентябре месяце прошлого года».
Что поделать – в Китай-городе каждый квадратный метр имел ценность, и не только лишь духовную.
Кстати, кресты на куполах той церкви были самые что ни на есть обычные. «Большим Крестом» являлась главная святыня храма – саженный крест со 156 частицами мощей.
Петр Боборыкин писал: «Глаза Палтусова обернулись в сторону яркого красного пятна – церкви „Никола Большой Крест“, раскинувшейся на целый квартал. Алая краска ярела на солнце, белые украшения карнизов, арок, окон, куполов придавали игривость, легкость храму, стоящему у входа в главную улицу, точно затем, чтобы сейчас же всякий иноземец понял, где он, чего ему ждать, чем любоваться».
А в списке чудес митрополита Филарета, занимавшего митрополичью кафедру в первой половине девятнадцатого века, есть такая запись: «Заболевши горячкою, Н.Н., находясь в самом уже трудном положении, заснул и видит во сне Владыку, служащего с сонмом святителей всенощное бдение в Церкви святителя Николая Чудотворца (именуемой Большой Крест). И когда Владыка, во время пения „хвалите имя Господне“, совершал каждение и проходил мимо него, он поклонился и поцеловал его ножку, после этого он проснулся. С этого же дня болезнь приняла другой оборот, и он выздоровел».
Подобные истории в Москве дореволюционной были очень даже убедительны. Не удивительно, что храм Николы Большой Крест пользовался в нашем городе невероятной популярностью.
Увы, в 1933 году храм снесли. И краевед и поэт Ю. Ефремов посвятил ему стихотворение:
Кстати, с другой стороны здания страхового общества тоже стояло знаменитое культовое сооружение – часовня в честь Сергия Радонежского. Она была построена в 1863 году, а снесена в 1927 году.
* * *
И все же можно предположить, что самой популярной частью комплекса, стихийно выросшего вокруг зданий страхового общества, был все-таки трактир «Арсентьич». Находился он в доме 15 по Большому Черкасскому переулку и славился на всю Россию. Владимир Гиляровский, признанный знаток дореволюционного мособщепита, писал, что это заведение славилось «русским столом, ветчиной, осетриной и белугой, которые подавались на закуску к водке с хреном и красным хлебным уксусом, и нигде вкуснее не было. Щи с головизной у «Арсентьича» были изумительные, и Гл. И. Успенский, приезжая в Москву, никогда не миновал ради этих щей «Арсентьича».
Впрочем, кроме щей в трактире была еще одна славная достопримечательность – половой по прозвищу Лимон. Когда-то он стащил мешок с лимонами, от радости переусердствовал с напитками, и ему вместо лимонов насыпали в мешок подпорченной картошки. С тех пор Лимон не выносил слова «лимон».
А на втором этаже дома 15, прямо над «Арсентьичем», располагался его конкурент – заведение горца Сулханова, «племянника князя Аргутинского-Долгорукова», как было указано в визитной карточке. Здесь не подавали ни щей, ни водки, ни белуги, а спрашивали шашлыки и кахетинское. И многие, насытившись у славного «Арсентьича», шли на второй этаж к «Сулханову» хлебнуть экзотики.
Вчера была церковь. Горда, пятиглава.Лазурные купы цвели на углах.Не сдавшие золота для переплава,Жглись россыпи звездные на куполах.А нынче – Ходынка… На зрелища скупыНедели и месяцы будничных дел,А кто-то на царственный звездчатый куполПетлю четверного аркана надел.
Гренадерский колокольчик
Часовня в память о гренадерах, павших под Плевной за освобождение Болгарии (Ильинский сквер), построена в 1887 году по проекту архитектора В. Шервуда.
Улица Ильинка заканчивается Ильинским сквером. Он вошел в историю Москвы благодаря двум значительным событиям. Во-первых, это место – родина общественного транспорта Первопрестольной. Именно здесь в 1847 году была оборудована первая станция так называемой линейки – неудобной, но недорогой повозки без рессор, впряженной в тройку лошадей. Другим конечным пунктом этого маршрута был Электрозаводский (а в те времена – Покровский) мост.
Линейка была транспортом легендарным. Упомянутый уже Богатырев писал о ней: «Никакой жестокий инквизитор не мог выдумать более мучительной пытки, как езда в этих экипажах, но терпеливые москвичи ездили и платили еще деньги за свою муку. Такого безобразия, как эти линейки, вряд ли где можно найти. До невозможности грязные, вечно связанные ремешками, веревочками, с постоянно звенящими гайками, с расшатанными колесами, с пьяными и дерзкими ямщиками, с искалеченными лошадьми, худыми и слабосильными до того, что они шатались на ходу»
Москвичи, однако же, охотно пользовались этим видом транспорта. Дешево и относительно быстро.
Второе же событие состояло в том, что именно в Ильинском сквере был установлен памятник-часовня в честь павших плевненских героев. Часовню сразу же прозвали колокольчиком – за внешнее, ясное дело, сходство.
«Московские церковные ведомости» опубликовали подробнейший отчет о церемонии открытия: «28 ноября 1887 г. в присутствии генерала-фельдмаршала вел. кн. Николая Николаевича Старшего освещение и открытие поставленного в Лубянском сквере (так иной раз называли сквер Ильинский – АМ.) памятника павшим в минувшую кампанию гренадерам. В параде было 12 батальонов в трех сводных полках, 4 эскадрона и сводная батарея, при пяти хорах музыки. Вся окружность Лубянского сквера украшена была множеством флагов, а входы и передние решетки зеленью и цветами с вензелевыми надписями: «Плевна 28 ноября 1877—1887». К часовне, находящейся внутри памятника, принесена была ко времени молебствования чудотворная икона Иверской Божией Матери…
По окончании молебствования и возглашения многолетия их императорским величествам, вел. кн. Николаю Николаевичу и всему Царствующему дому, возглашена была «вечная память» в Бозе почившему императору Александру II и павшим на поле брани герцогу Лейхтенбергскому Сергею Максимилиановичу и всем воинам, причем по команде его высочества «накройсь» и «на караул» все войска отдали честь усопшим, коим воздвигнут памятник, и загремел 101 салютационный выстрел пушек сводной батареи, слившийся с несшимся со всех сторон перекатным «ура».
Вел. кн. сошел с лошади, приложился ко кресту, принял окропление св. водой и со всем генералитетом обошел вокруг памятника-часовни, снаружи и внутри ее, а владыка митрополит окропил ее св. водой…
В 4 часа дня в залах Благородного Собрания происходил обед, предложенный городом генералам и офицерам гренадерских и других частей московского гарнизона…»
Увы, часовня, значившая столь много для Москвы дореволюционной, после 1917 года была полностью заброшена. Крест поломан, украшения отколоты, ограда смята. Двери же ее не закрывались, и любой прохожий мог воспользоваться памятником как отхожим местом.
Только после Великой Отечественной часовню в память героев восстановили. Не удивительно – после победы во всех странах обязательно бывает всплеск патриотизма.
Церковь одного батюшки
Церковь Николы в Блинниках (она же в Кленниках, она же в Клинниках) (улица Маросейка, 5) построена в 1657 году.
У этой церкви несколько названий. Точнее говоря, название одно – Никольский храм. А разночтения касаются того, где именно он установлен.
Кто-то из исследователей считает, что правильно – это церковь в Блинниках: якобы здесь в глубокой древности работали некие блинники, блины пекли. Другие краеведы полагают, что точнее говорить о Кленниках, ведь в этом месте очень буйно росли клены. Приверженцы версии с Клинниками апеллируют к каким-то клинникам, которые тут жили и выделывали клинья – совершенно непонятно для чего и как. Есть, кстати, еще специалисты, полагающие, что когда-то здесь располагались некие таинственные клиники. Но это уже откровеннейшая ерунда.
Так или иначе, храм имеет несколько названий, и никому этот факт не вредит.
История Никольского храма – долгая, насыщенная и богатая: за те столетия, что он стоит на Маросейке, здесь что только не происходило! А в двадцатом веке храм и вовсе принадлежал высокопоставленному комсомольскому начальству.
Первое, однако, что приходит в голову, когда проходишь мимо этой церкви, – уникальная личность одного из ее настоятелей, отца Алексея Мечева. Ведь ему удалось здесь создать уникальный приход.
Все началось в 1902 году, когда у заурядного батюшки, отца Алексея скончалась жена. И вышло так, что он сразу же после этого имел краткую беседу со своим прославленным знакомым, отцом Иоанном Кронштадтским.
– Вы пришли разделить со мною мое горе? – спросил отец Алексей.
– Нет, – ответил Иоанн Кронштадтский. – Не горе твое пришел я разделить, а радость. Тебя посещает Господь; оставь свою келью и выйди к людям. Только отныне начнешь ты жить. Ты жалуешься на свои скорби и думаешь, что нет на свете горя больше твоего; так оно тяжело тебе; а ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье мало, незначительно в сравнении с общим горем, и легче тебе станет.
С точки зрения светской, общечеловеческой, все это звучит более чем абсурдно. Однако же сила внушения кронштадтского священника была настолько велика, что отец Алексей и вправду воспрял духом, перестал сторониться людей, а, напротив, решил посвятить свою жизнь служению. И собственным прихожанам, и Богу.
Приходить к этому батюшке было не страшно. Один из современников, епископ Арсений писал: «О. Алексей верил, что нет грехов, «побеждающих» божественное милосердие, а потому вносил в души всех приходящих к нему чувство бесконечной надежды на милость Божию, с каким бы тяжелым нравственным и умственным бременем они ни являлись.
К слабым и неокрепшим духом он проявлял еще большую ласку, как бы боясь невниманием или строгостью оттолкнуть, разочаровать их. О. Алексей не спрашивал обращающегося к нему, кто он, ходит ли в храм, верующий ли, православный, или католик, или другой какой религии. Для него всякий пришедший был «страждущий брат и друг», искавший облегчения своего горя. Он никогда не оставлял без теплого участия, понимая любвеобильным сердцем, что каждому своя боль тяжела.
И удивительно, у всякого, обращавшегося к о. Алексею являлось чувство, будто батюшка любит его больше всех. Как разум ни восставал против, а уверенность такая жила».
А когда в декабре 1905 года в церковь ворвалась толпа озлобленных революционеров-дружинников – и ворвалась далеко не с благими намерениями, – отец Алексей, не задумываясь, произнес:
– Как приятно видеть в храме столько молодежи! Вы пришли помянуть своих родителей?
И обескураженные боевики тихонько отстояли до конца всю службу, после чего, потупив взоры, разошлись.
О себе же отец Алексей думал в последнюю очередь. А точнее сказать, так и вовсе не думал. Один из современников писал о нем: «В домашней жизни своей Батюшка был крайне прост и скромен. В кабинете его, в комнатке – груды раскрытых и нераскрытых книг, и письма, и множество просфорок на столе, и свернутая епитрахиль, и крест с Евангелием, иконы и образки и вообще хаотическое состояние комнатки показывало, что Батюшка всегда занят, что ему всегда некогда, что его всегда ждет – и дома, и на улице, и в церкви – великая работа любви и самоотвержения. Часто, бывало, зовут Батюшку чай пить, обедать, а он сидит у себя в комнате и, ничего не замечая, горячо убеждает кого-то. Когда домашние его, не вытерпев, стучат и входят в его комнату, говорят, что нельзя так относиться к своему здоровью, Батюшка делал вид, что сердится (по-настоящему сердиться он и не умел), и говорил: «Ну вот, опять вы за свое. Разве я без вас не знаю? Я уже сказал, что занят. Вот отпущу его и приду». А то, бывало, скажет мне: «А ну-ка… принеси мне стаканчик чайку». И пьет на ходу, среди разговоров чай, иногда и обедает так же.
Эта вечная сутолока людей, эти бесконечные очереди и целодневная работа Батюшки заставляли его попросту игнорировать свое здоровье. Только настойчивые убеждения родных и близких «за послушание» заставляли его обращаться к докторам и пить лекарственные снадобья».
Еще одна из главных черт этого настоятеля – неприятие всего искусственного, существующего только для канона. Дошло однажды до того, что батюшка по окончанию службы обратился к прихожанам:
– Я откажу наемным певчим, которых прямо-таки не переношу, а вы все здесь присутствующие пойте и читайте. Ты, Мария, будь канонархом, ибо хорошо, четко произносишь стихиры. Я надеюсь, с Божией помощью, вы справитесь с церковной службой. Господь да благословит вас начать и исполнить это дело.
И действительно – все получилось. И нередко, зайдя в храм на Маросейке, человек неподготовленный терялся и не понимал, что происходит. Стоит батюшка перед алтарем и распевает во все горло. А перед ним вся паства – подпевает.
И ведь никто не обвинял новатора в отходе от канона, в подражании – страшно подумать – баптистам, а то и хлыстовцам, сектантам! Вероятно, настолько была очевидна чистота его помыслов, что мысль о сектантских радениях никому даже в голову не приходила.
Кстати, фактом своего рождения отец Алексей был обязан чуду. Сам он, во всяком случае, в это охотно верил и любил рассказывать историю своего появления на свет.
А было так. Мать будущего старца (а его, пусть не келейного монаха, часто называли старцем) сильно заболела перед родами. Врачи отчаялись, и все шло к неизбежной смерти.
Тогда Алексей Иванович Мечев, отец будущего священника, отправился на Красные пруды, в Алексеевский монастырь, где в тот день служил митрополит московский Филарет.
Митрополит его заметил. Подошел. Спросил:
– Что ты такой печальный? Что у тебя?
– Ваше высокопреосвященство, жена умирает в родах, – ответил Алексей Иванович.
– Бог милостив, – сказал митрополит Филарет. – Помолимся вместе. Все будет хорошо. Родится мальчик. Назови его Алексеем, в честь святого Алексея человека Божия. Сегодня ведь как раз память его в Алексеевском монастыре.
И действительно, когда после обедни Алексей Иванович пришел домой, его встретили с радостью – родился сын.
Резиденция пастора Глюка
Жилой дом (улица Маросейка, 11) построен в начале XVII века.
Строилось это здание для давным-давно забытого голландца Рутца. Но прославилось оно лишь при Петре Великом, когда тут открылась гимназия пастора Эрнста Глюка из Саксонии. К своим добропорядочным ученикам он обращался с такими воззваниями: «Здравствуйте плодовитые, да токмо подпор и тычин требующие дидевины! По указу державнейшего нашего Монарха полюбится мне термиточию словесам вас с изъяснении разума вашего обучити. Врата умудрения ныне отпираются!.. Понеже младая юность, аки воск преобразится, часто в злобу превратится… Десница готова немощных водити, плавающим помогати и всяким заблудящимся светило подносити…»