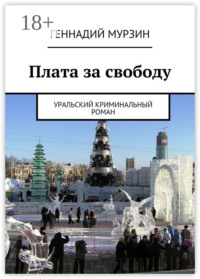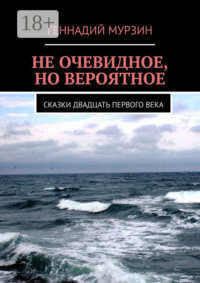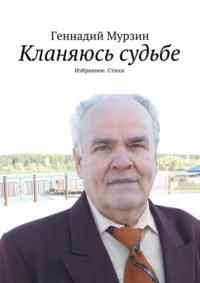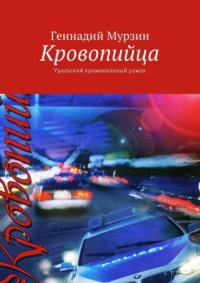Полная версия
Извивы судьбы. Современный любовный роман
И офицеры, хорошо поставленным шагом, направились в сторону девчонок.
– Позвольте…
Блондинка тотчас же оборвала Соловьева, а у Осинцева ревниво защемило что-то внутри: ему показалось, что блондинка смотрит на Соловьева как-то не так.
– Откуда такие щеголи? – она зажмурилась. – Ослепнуть можно от такого-то блеска.
Брюнетка залилась смехом.
Осинцев смутился, покраснев, отвел взгляд в сторону. Соловьев, наоборот, осмелел. Нахальничая, сказал:
– Мы – из провинции…
Брюнетка, хохоча, спросила:
– Из тамбовской или рязанской? Впрочем, – она окинула офицеров жгучим взглядом, – чего это спрашиваю? И без того видно: провинциал – он и в Африке провинциал.
Соловьев ответил, ничуть не смутившись, важно и с достоинством:
– Мы – из Свердловска, – Соловьев ответно улыбнулся девчонкам. А уральцам, – он прищелкнул пальцами, – всё нипочём… Даже столица.
– Ах, вот как? – веселясь, откликнулась блондинка. – Оно, да: Свердловск – не Рязань.
Соловьев решил блеснуть эрудицией.
– Между прочим, опорный край державы…
Брюнетка подхватила:
– Её добытчик и кузнец.
– Да… А что? Не так? – Соловьев, насупившись, притворился обиженным. – На уральцев можно положиться. Не мы ли пришли москвичам на помощь, когда в сорок первом слишком горячо стало? Пришли, своей могучей грудью встали и стояли на смерть.
Блондинка поспешила уточнить:
– Не вы, а ваши отцы
– А что? Мы хуже отцов наших? – Соловьев картинно повернулся. – Разрешите представиться: Никита… Соловьев…
Блондинка, встряхнув длинными густыми волосами, спросила:
– Товарищ ваш, что? Безъязыкий? Молчит и, краснея, все в сторону смотрит. Он, что, такой скромник или прикидывается?
Осинцев, понимая, что ведет себя не слишком-то дружески, продолжая не глядеть на девушек, выдавил из себя:
– Осинцев… Алексей…
Блондинка прыснула и отвернулась.
– Алексей-Алешенька, выходит?
– Почему смеетесь? Почему отворачиваетесь? – Осинцев явно обижен. – Если не нравлюсь, то…
– Наоборот, – смело глядя в глаза Осинцеву, сказала блондинка. – Слишком… Трудно глядеть на таких… Больно ярки…
– Шутите? – спросил серьезно Осинцев.
– Ничуть! Ведь правда: трудно глазам от такого блеска.
Соловьев хвастливо заметил:
– Из Кремля… На приеме были… Только что оттуда
– Заливает, – переходя сразу на «ты», сказала брюнетка. – Хвастун, как погляжу.
Осинцев поспешил заступиться за товарища.
– На этот раз говорит правду.
– Так и поверила, – блондинка фыркнула.
Осинцев все также обидчиво (ему не нравится, что не верят) сказал:
– Верить или нет – ваше право.
Соловьев, уловив, что знакомство затягивается, опасаясь, что разговор уходит в другую сторону, сказал:
– Мы – представились. А вы?.. И вам теперь не грех назвать свои имена.
– А надо? – спросила брюнетка, посверкивая глазами.
– Долг вежливости, – заметил Соловьев и даже галантно слегка поклонился.
– Ну, если «долг», – брюнетка опять рассмеялась, – я – Ирина, а подружка – Вера. Студентки. Из Гнесинки.
– Боже мой, какое счастье лицезреть будущих великих музакантов-композиторов!
Вера, блондинка, не осталась в долгу.
– Точно также, как и вы – будущие полководцы.
Соловьев послал девушкам свою улыбку.
– Почему нет? Каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл.
– Ну, – Ирина опять рассмеялась, – тебе сия участь не грозит.
Соловьев тоже обиделся.
– Это еще почему?
– Болтлив больно… А из товарища выйдет толк.
Осинцев, покачав головой, заметил:
– Нехорошо сталкивать лбами друзей.
– Лех, я не в обиде. Пусть… Я согласен отказаться от маршальских погон, если меня приласкает такая девушка, как Ирина.
– Сразу и «приласкает»? Не гони! Чтобы приласкали, надо прежде понравиться.
Соловьев изобразил на лице искреннее удивление.
– Неужто не понравился? Однако моя интуиция…
– Ну… Пока, если честно, не очень, – призналась Ирина и рассмеялась. – Да… Про Кремль не врете? Нет?
Даже Соловьева прошибло подобное недоверие.
– Ну, знаете ли… Слово же офицера, – он полез в портфель, порылся внутри, достал и протянул девушкам большую фотографию. – Сами смотрите… Вот, – он ткнул пальцем в Осинцева, стоящего рядом с Верховным, мой товарищ, так сказать, сличите. А во втором ряду – я, крайний справа. Не рядом с Верховным, а все равно приятно.
– Сколько хорошеньких женихов! – разглядывая внимательно фотографию, воскликнула Вера.
Соловьев щелкнул каблуками туфель.
– Двое из них – перед вами, девочки. И, между прочим, не худшие. Извольте любить и жаловать.
Ирина спросила:
– За что честь?
– По нам не видно, да?
– Блеску много, а что внутри? – многозначительно спросила Вера.
Хотел что-то сказать Осинцев, но его опять-таки опередил Соловьев.
– Он, – Соловьев кивнул в сторону Осинцева, – золотой медалист, отличник боевой и политической подготовки…
– А ты? – перебив, спросила Ирина.
– Ну… Тоже… Не медалист, однако, если направлен на прием в Кремль, не самый худший выпускник нашего военного училища.
– Богатыри, – протянула Ирина. – Не жизнь, а сказка: тут тебе Никита, тут тебе и Алеша. Не хватает для полноты картины Васнецова Ильи Муромца. Где вы его-то оставили?
Вера откинулась на капот «Волги». Подол легонького сарафанчика взлетел вверх, обнажив на секунду еще больше стройные ноги. Осинцев увидел и от волнения облизал вмиг пересохшие губы. Он подумал: «Хороша! Куда как красивее пединституток!»
Соловьев, показывая своим видом, что большой знаток, осмотрел сверкающую черным лаком «Волгу» и прищёлкнул пальцами.
– Отличная тачка… Чья будет?
Ирина поспешила с ответом.
– Отца… – и лишь после паузы уточнила, – Верочки.
– А… Кто ж за рулем? – спросил Соловьев и опасливо заозирался по сторонам: судя по всему искал Вериного отца.
– Верочка наша, – ответила Ирина.
– Но…
– Год назад обзавелась правами. После курсов. А водит машину по доверенности. Отец-то у нее, – Осинцев заметил, как, взглянув на подружку, Вера, подобравшись, насторожилась: видимо, боялась, чтобы та не сболтнула лишнего, – опасается садиться за руль, – Осинцев обратил внимание, как Вера облегченно вздохнула и расслабилась. «Ждала явно другого… Чего-то не хотела, чтобы Ирина говорила», – подумал он. – Короче: на самом-то деле, это ее машина… В полном ее распоряжении.
– А ты, Алексей, везунчик, – завистливо заметил Никита. – Сразу и – в дамки. Судя по элитным номерам, машина-то…
– Не мели, – остановил его Алексей. – Мало ли что могут подумать девушки.
– Девочки наши – умницы…
Вера, ехидно улыбнувшись, прервала.
– Ваши? Уже?!
Соловьев не смутился.
– Нет, что ли?
Вера решительно отрезала:
– Нет!
Ирина смягчила ответ и поправила подружку:
– Всего лишь пока.
Подружки обменялись многозначительными взглядами и расхохотались. Алексей, в который уж раз, подумал про себя: «Смеются и смеются… Что тут смешного? Не понимаю… Легкомыслие». Алексей давно спросил бы, но опасается попасть впросак: может, полагает он, у него напрочь отсутствует чувство юмора. Вон, Никита – юморит, ведет себя естественно, расслабленно.
Соловьев картинно поклонился.
– Благодарю покорно, Иринушка… Ты оставляешь мне надежду.
– Но-но! Не обольщайся очень-то! – откликнулась Ирина, а Соловьев даже глазом не моргнул в ответ на щелчок по носу.
Алексей завидует, как легко общается с девчонками Никита. Он, Алексей, так не может. Знакомы – всего ничего и сразу…
Соловьев опять за свое.
– Девочки наши – умницы и в их хорошенькие головки глупостям вход запрещен. Кстати, почему бы не прокатить нас с шиком по городу, а?
Вера слегка улыбнулась: видимо, предложение более решительного Никиты ей пришлось по вкусу и соответствовало ее настроению.
– Почему нет? Люди – из провинции. В Москве – впервые. Есть смысл в экскурсии. Стоит показать столицу и расширить гостям провинциальный кругозор. Как, Ириш?
– Я, Верунчик, только – за, – не мешкая, отозвалась Ирина, – тем более с такими блестящими провинциалами.
И вот Алексей – на первом сидении, справа от водителя, то есть Веры. Сзади – устроилась другая парочка и, судя по всему, чувствует себя там превосходно. Воркует, будто знакома тысячу лет. Он, Никита, уже (Алексей завистливо поглядывает на парочку в зеркало) за талию держит Ирину. Алексею – не повезло в очередной раз. Нет, он тискать сразу же за талию все равно бы не стал, рановато, однако… Поговорить с девушкой, расспросить об учебе, о музыке (сам-то в этом деле – ни бельмеса, дуб дубом, медведь на ухо наступил; знает лишь названия семи нот да про скрипичный ключ, читал про некоторых музыкантов, дважды перечитал роман Виноградова «Осуждение Паганини», слушал в первый заход Моцарта в филармонии и во второй – седьмую симфонию Шостаковича – и все), не мешало бы разузнать о родных, соответственно, о ее ближайших знакомых. Вокруг (Алексей косит ревнивый глаз) такой-то девчонки явно вьется туча поклонников. Алексей молчит. Понимает: внимание Веры отвлекать нельзя. Вон, какое движение! Зевнешь и сразу поцелуешься с кем-нибудь. Алексею (чего скрывать?) хочется… Нестерпимо хочется… Ну, вот (хотя бы!) ладонью прикоснуться к ее чуть-чуть оголенному коленку (сарафанчик-то короток), ощутить тепло, кожу. Робеет. Смущен от одной мысли. Опасается получить (в ответ на наглость) по рукам. Вера, судя по всему, – не Ирина. За Верой не заржавеет. Алексей замечает, как Вера иногда скашивает в его сторону глаза и улыбается. Алексею даже кажется, что Вера понимает его нынешние проблемы и даже сочувствует. Взгляд новой знакомой (возможно, ему всего лишь чудится) поощрительный, говорящий: все, мол, у нас еще впереди. И от этого по сердцу течет ручьями истома. Он – пессимист и не верит в лучшее будущее. Но помечтать (хотя бы) ему не может никто запретить. Осинцев уверен, что влюбился. Сразу. С первого взгляда. Оттого и необычайная его робость, болезненное стеснение. Такого с пединституточками никогда не было. Алексей понимает: он – попался, он – в сетях Амура. И конец! Точка. Всё. Он нашел то, что так долго искал. И ничего ему больше не надо. Впрочем… Он, да, нашел. А она как? Тот ли он принц, который нужен этой принцессе? Есть большое сомнение.
Что ж, ему, лейтенанту Осинцеву, предстоят обширные и затяжные бои, причем, на всем протяжении любовного фронта, предстоят сражения за свое счастье, за свою первую и, как он уже себе представляет, вот эту, единственную в мире любовь. Спешит? Это он-то? Никита – другое дело. Еще чуть-чуть и очарует Иринку. Вон, как у той блестят глаза и с лица не сходит улыбка.
Глава 3
Культпоход
Осинцев сидит за старинным письменным столом, уткнувшись носом в роман Толстого «Анна Каренина». Вчера купил, заскочив в огромный книжный магазин на Новом Арбате.
Рядом – тетрадный лист и простенький копеечный карандаш. Привык еще с суворовского: читая, тотчас же записывать особенно понравившиеся мысли литературных героев или самого писателя, мысли, которые трогательны ему, для него близки и понятны, родственны его душевному настроению или мироощущению. Так удобно, – считает он. Прохудилась память, выветрилось из нее, глянул в записи и восстановил.
Соловьев же, утопая в мягком и глубоком кресле, закинув, как он сам выражается, «ходули» одна на другую, наслаждаясь комфортом, смотрит в небесной голубизны потолок. Видно, что погружен в воспоминания. О чем? Не трудно догадаться – о встрече у памятника Пушкину. И главный вопрос, на который пытается ответить: это случайность или рок судьбы? Соловьев не верит в мистику: все участники встречи, по его мнению, искали друг друга, шли навстречу друг другу и нашли все то, что искали. Еще одно реальное подтверждение любимой и затертой до дыр его отцом поговорки: кто ищет, тот всегда найдет.
Соловьев, косясь на склоненного над столом Осинцева, думает: тому сильно повезло, что у него появился столь расторопный товарищ, как он, Соловьев. Если бы не он, Соловьев, то Осинцев ни за какие пироги не подошел бы первым к девчонкам и не стал бы на улице знакомиться; Соловьев убежден, что виной всему – непомерная гордыня Осинцева. Подумав так, тотчас же завистливо вспомнил, как на «педагогических балах» на Осинцеве студентки гроздьями висли. Что находили? Чего в нем такого притягательного? Вот он, Соловьев, другое дело: у него нос так нос, как у греческих богов, острый и длинный, к тому же с симпатичной горбинкой, как опять-таки он сам выражается, настоящий «рубильник»… Не то, что у Осинцева. Да, Осинцев, мускулист и широк в плечах, но зато на лицо – по-мужицки простоват: черты отталкивающе грубы, топорны. Проще говоря (Соловьев хмыкает), интеллигентности ни на грош. Конечно, девчонки любят грубую мужицкую силу, но природная интеллигентность, как у него, Соловьева, – тоже не последнее дело. Осинцева бы в хорошую семью, считает Соловьев, – мог бы получиться великолепный парень, ну, просто загляденье.
Осинцев, придвинув поближе к себе старинную настольную лампу с абажуром из зеленого стекла (горничная сказала, что именно в этом номере когда-то останавливался Ромен Роллан, следовательно, сидел за этим же столом и мог пользоваться этой же лампой), читая, шевелит губами: привычка с детства. В суворовском ребята подшучивали над ним, глядя, как он молча шлепает довольно пухлыми губами, или как они выражались, брылами. Осинцев остановился, крутнул головой, хмыкнул и записал на листе фразу, привлекшую его внимание: «Степан Аркадьевич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или галстука, и брал те, которые носят».
Соловьев заметил. Слегка привстав, заглянул через плечо Осинцева и проскользил по фразе, прежде записанной, в самом начале тетрадного листа: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Легко прочитав (почерк у товарища, отметил он, четкий и аккуратный, как и у него, Соловьева), прыснул.
– Чужими мыслями питаешься?
Не отрываясь от книги, которая вновь у него перед глазами, Осинцев пикирует:
– Что делать, если своих недостает?
– Ну-ну, – Соловьев крутит в руке пустой спичечный коробок, оставленный прежними постояльцами номера. – Не читал, что ли?
– Что «не читал»? – переспрашивает Осинцев, слушая товарища в пол-уха.
– Роман этот… В одиннадцатом проходил…
Осинцев хмыкает.
– Ты прав: именно «проходил»… Я в суворовском тоже «проходил»… А стоило изучать… Читал, но как-то так – через пятое на десятое. Дурачком был.
Соловьев смеется.
– Значит, с той поры поумнел?
– Похоже на то, – Осинцев кивнул и тоже усмехнулся. – Читаю и заново открываю Толстого.
Соловьев крутит головой.
– У меня – не получается. После третьего абзаца, а они у Толстого предлинные – в две-три книжных странички, засыпаю.
Осинцев согласно кивает.
– Непростые тексты… Мозговых усилий требуют…
Соловьев спрашивает:
– Не страшно?..
– Не понял?
– Дослушай, – Соловьев, подкалывая, смеется, – и тогда поймешь.
– Ну, слушаю.
– Чего понукаешь? – Соловьев продолжает смеяться. – Я – не лошадь.
Осинцев всерьез относится к словам Соловьева.
– Извини… Дурная привычка. Пытаюсь избавиться, но иногда все равно прорывается.
– Я – пошутил, Лёх. Что ты, в самом деле? Шуток не понимаешь?
Осинцев кивнул.
– Не понимаю… Особенно, когда замечание, по сути, в самую точку. Да, – Осинцев поворачивается в сторону товарища, – ты оставишь меня в покое или нет? Не видишь, занят?
– Вижу… Но скукотища смертная.
– Возьми книгу да почитай.
– Я – не ты: книжные магазины обегаю стороной.
– Возьми, – Осинцев кивком указывает на край стола, где лежит еще одна книга в бумажном переплете, – мою.
– О чем книга?
– Я еще не читал, однако слышал… О работе разведчиков в прифронтовой полосе. Богомолов написал…
– Такого писателя не знаю.
– Я тоже не знаю… Прочитай и узнаешь.
– Про войну, да?
– Да. Называется «В августе сорок четвертого». Книга вызвала шум. Вроде бы, в книге нестандартные мысли писателя. Короче, критикуют. В Свердловске гонялся за романом, но безуспешно, а в Москве купил свободно.
– Зачем читать, если критикуют?
– Чтобы иметь не навязанное, свое мнение. На пустую книгу так яростно не нападают: смысла никакого нет, чтобы кусаться.
– Умный такой… Не страшно, Лёх?
– Чего «страшно»?
– Что станешь шибко уж умным?
– Нет, Никит. Быть «шибко уж умным» не столь опасно, сколько оказаться совершенным тупицей.
– Книжно выражаешься… Результат чтения, да?
– Возможно.
– Не надо, Лёх, умничать.
– Это еще почему?
Соловьев, заложив ладони за голову, потянулся и сладко зевнул.
– Армия не жалует умников.
– Новость, – Осинцев удивленно покачал головой.
– Какая это «новость», Лёх?
– Никит, с чего ты взял?..
– Вся армия знает…. С зарождения.
– Ну, знаешь ли…
– Не притворяйся удивленным, Лёх, не надо. В армии все умничанья сводятся к двум фразам. Первая фраза – «так точно», вторая фраза – «никак нет». Причем, вторую «умную» мысль желательно произносить вслух как можно реже, особенно, в разговоре с командиром твоим.
– Чушь! – недовольно воскликнул Осинцев, оторвавшись от чтения книги. – А генерал Карбышев? Ну, тот, который ученый, погибший в концлагере? А Суворов? А Жуков, в конце концов?
– Что Жуков, ну, что?!
– Ничего… Кроме того, что Маршал Победы…
– Хам из хамов твой Жуков. Солдафон. Измывался, говорят, над подчиненными. Хотел бы я посмотреть на смельчака, отважившегося при нем вылезти с собственным мнением.
– Откуда, Никит, у тебя все это, а?
– Читал воспоминания современников Жукова.
Осинцев покачал головой.
– Видимо, мы с тобой разные книжки читаем… Я читал о том, как его любили солдаты. Потому что заботился о них и, по возможности, берег их жизни.
– Ну, да, берег! Клал тысячами, не задумываясь.
– Те, которые «клали, не задумываясь», сражения проигрывали. Жуков же всегда выходил победителем.
– Но какой ценой?!
– Войн без жертв не бывает. Даже Сталин, на что лют был, слушал и слышал аргументы Жукова. Жуков имел всегда собственное мнение и не боялся отстаивать. Чтили Жукова не только соратники, например, маршал Василевский, а и западные военноначальники, тот же Эйзенхауэр, допустим, или Монтгомери.
Соловьев готов к отступлению.
– Хорош, Лёх: не хочу спорить…
– Не хочешь, потому что нет аргументов.
– Не поэтому, – Соловьев отступает, не желая при этом терять лицо. – Настроение – не то…
Осинцев рассмеялся и дружески посоветовал:
– Почитай Богомолова и настроение сразу появится. Ты только попробуй.
– Нет, Лёх: усну я сразу. А спать что-то не хочется. Да, – Соловьев звонко шлепнул себя по лбу, – а ты, случаем, не забыл?
– Что я мог забыть, Никит?
– Ну, как же, Лёх! Ты должен знать святое армейское правило: война войной, а обед – по расписанию… Мы же без ужина сегодня остались. Запутешествовались по Москве.
– Не забыл… Но мне что-то не хочется.
– Толстым, его духовностью напитался? Или любовью сыт?
– Не мели, Никит, попусту. Ну, скажи, какая тут может быть любовь?!
– Обычная любовь… Любовь с первого взгляда.
– Ну… несколько часов знакомы… всего-то.
Соловьев почувствовал в голосе товарища фальшивую ноту. Он громко рассмеялся.
– Кому пудришь мозги? Мне? Своему другу?
Осинцев хмыкнул.
– Не рано ли записал в друзья?
– В самый раз… Хотя… Время покажет… Пока, прошу, не перебивай: могу забыть, что хочу сказать.
– Валяй, если так.
– Прямо скажу: врешь нагло и не краснеешь.
– Не говори ерунды.
– Не видел, думаешь, как пялился всю дорогу, глаз не сводил?
– Хм… Ну… – Осинцев смущен тем, что его, кажется, раскусили. – Я, да, пялился, а ты лапал вовсю. Чувствуешь разницу?
– Нет, не чувствую, – Соловьев рассмеялся. Днем – девчонки-хохотушки заливались, а теперь, вечером, он, Соловьев замещает их. – У каждого своя стратегия обольщения: ты глазками трудишься, я – руками, – Соловьев встал, подошел и повернул голову приятеля в свою сторону. – Нет, ты мне скажи честно: понравилась Верочка? Говори, глядя мне в глаза! Ну?!
Осинцев все-таки отвел взгляд в сторону и покраснел.
– Ну… Да… Понравилась… Очень… Сильно… Но это…
Соловьев прервал громким хохотом.
– Только что говорил книжно, красиво, а тут сразу занукал и зазаикался. Что с тобой? Зацепила блондиночка, крепенько так зацепила, что ли? Колись, Лёх, ну, колись быстренько!
– Я сказал: пон-ра-ви-лась! Что еще хочешь услышать, а?
– Правду, одну только правду и ничего, кроме правды: втюрился, мол, и люблю до безумия.
– Не рановато ли, Никит, а?
– Лучше рано, чем никогда.
– Сам-то, – Осинцев фыркнул, – всю дорогу щебетал на ушко своей брюнеточке. А она просто таяла и плыла от твоего щебета.
Соловьев щелкнул пальцами.
– Скажи, хороша?
– Не в моем вкусе. Слишком раскрепощенная… Мне такой показалась.
– Не красива? Это хочешь сказать?
– Красива, очень красива. Но… У брюнеток характер жестковат: мужиков обычно держат в ежовых рукавицах. Впрочем, тебе – то и надо, чтобы крепко в руках был и особо не вихлялся.
– Ага! Блондинки – мягче и ласковее, хочешь сказать?
– Именно так.
– Не обольщайся, Лёх, особо насчет блондинок. Так затянут на шее аркан, что взвоешь… Послушай меня…
– Слушаю.
– Блондинки – тоже не подарок… Это верно: стелют они мягонько, да спать бывает потом жестковато. Учти, Лёх.
– Учту, Никит, – с долей иронии ответил Осинцев и отложил в сторону роман. – Почитать ты, видимо, так и не дашь.
Соловьев опять потянулся и снова столь же сладко зевнул.
– Кушать, Лёх, хочется.
– В чем проблема? Внизу – ресторан, на этаже, в левом крыле – буфет. Работает, между прочим, до полуночи. Иди.
– Я знаю… Одному что-то не хочется… Если бы в компании, – Соловьев мечтательно прикрыл глаза.
– С брюнеточкой, что ли?
– Было бы великолепно, но, понимаю, несбыточно, поэтому… Соглашусь и на более скромную компанию.
– Не меня ли имеешь в виду?
– Лех, серьезно: давай сходим? Твое присутствие улучшает мое пищеварение. Услужи, Лёх?
Осинцев встал.
– Уломал… Пошагали, Никит…
В буфете – малолюдно. За столиками всего-то – мужчина и женщина. По всей видимости, иностранцы. Осинцев заметил, как мужчина уплетает телятину. Кусок большой и, судя по всему, сочный. У Осинцева разыгрался аппетит, и потекли слюнки. Женщина пришла, если он не ошибается, не потому, что голодна, а потому, что положено вечером ужинать, поэтому медленно и лениво ковыряется вилкой в салатнике, отбирая лишь самые вкусные компоненты. Когда проходили, женщина запустила в него оценочный взгляд-молнию, отвернувшись, принялась за прежнее, за медлительно-упоительное занятие.
Осинцев взял салат из свежей капусты с зеленым горошком и красным перцем, четыре отварных и ароматных сосиски, порцию кофе в крохотной чашечке и два кусочка подового хлеба.
Соловьев собезьянничал, повторив его заказ. Они выбрали столик у окна, из которого Москва смотрелась, как на ладони. Они сели друг против друга. И принялись за салат. Но тут неожиданно Соловьев вскочил и ушел к буфетной стойке. Вернулся с графинчиком и коньячными рюмочками в руках. Поставил. Налил понемногу.
– Но… Я бы не хотел…
– Молчи, Лёх. Ни слова. Угощаю! Или побрезгуешь?
– Болтун, – проворчал Осинцев и поднял свою рюмку, рассматривая содержимое на свет. – Какой? – спросил он, глазами показывая на графинчик. – Не грузинский?
– Что ты! Что ты! Я даже молдавский «Белый аист» игнорирую. Из отечественных – предпочитаю только армянский, а из импорта – французский. Так что пьем – «Наполеон».
– Ты спятил?! – Осинцев в ужасе округлил глаза.
– А в чем, собственно, дело?
– Какие деньги! Тем более, в буфете, с наценкой. Ужас какой-то… Или у тебя двойные командировочные, или…
– Не бери в голову, Лёх. Один раз живем… Извини за банальность. Давай, Лёх, хлопнем за наших москвичек. Не возражаешь?
– Они того стоят, – усмехнувшись, ответил Осинцев.
– Так вот… «Рыцарь печального образа» пьет за свою Дульцинею Тобосскую!
Осинцев осушил рюмку. Заметив, что Соловьев отпил лишь на треть и поставил рюмку на стол, Осинцев осуждающе напомнил:
– Нарушаешь офицерскую традицию.
– Не понял…
– Первую рюмку положено до дна, тем более, когда за свою даму сердца.
– А! – воскликнул Соловьев. – С удовольствием!