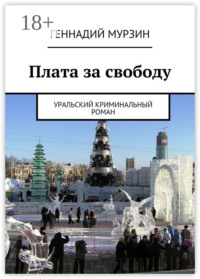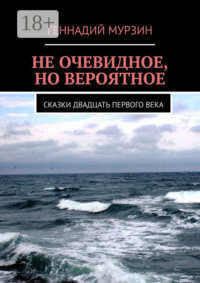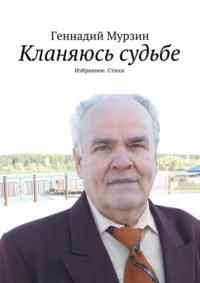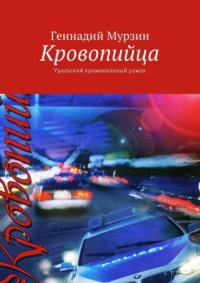Полная версия
Извивы судьбы. Современный любовный роман

Извивы судьбы
Современный любовный роман
Геннадий Мурзин
Редактор Геннадий Мурзин
Корректор Геннадий Мурзин
Фотограф Марина Туманцева (Мальцева)
Фотограф Сергей Мурзин
© Геннадий Мурзин, 2018
© Марина Туманцева (Мальцева), фотографии, 2018
© Сергей Мурзин, фотографии, 2018
ISBN 978-5-4490-2096-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Автор Геннадий Иванович Мурзин, известный на Урале литератор и публицист, представляет свой новый любовный роман «ИЗВИВЫ СУДЬБЫ». Фото 2017 года. В основе сюжета – реальные люди и реальные события. Желающие могут высказать замечания и предложения по электронной почте – gim41@mail.ru.
Пролог
Молва идет: в райвоенкомате – залетная птаха; издалека. Кумушки и кумовья, ну, давай, судить-рядить на разные лады: обсуждать, выходит, «варяга», сладострастно сначала перемывать, а потом и обсасывать косточки.
Слухи – самые разные, порой, совершенно невероятные; обрастая деталями, роились, образуя постепенно фантастический шар, который, будто перекати-поле в степи, крутился по райцентру, переходя от избы к избе, из улицы в улицу, из конторы в контору, из одних уст в другие уста.
Поселок, хоть и считается «городского типа», мал и неказист. Одна и есть достопримечательность: густые серые облака пыли, подымаемые проходящими с рыком и пыхтением лесовозами. Местные, обитая здесь всю жизнь и не видя ничего иного, попривыкли: чихают да шлют матерки в след большегрузных тягачей.
Важные события? Боже, ну, какие могут быть в этакой-то глухомани события?! Одно и есть занятие: с великой скуки сплетничать. Народу что? Дай лишь повод. Тут же, с появлением «варяга», – настоящее везение: обильная, изрядно приправленная горчичкой, перчиком и острыми соусами, пища для пересудов появилась. Грех, считает народ, не посудачить всласть.
По вечерам, управившись по хозяйству (многие скотинушку держат; без нее, ну, – никуда), народ выползает на улицу, устраивается на лавках у крашеных палисадников (городская цивилизация, увы, так и не коснулась своим благодатным крылом этого «поселка городского типа», поэтому здесь не коммунальные дома, а частные избы из здоровенных сосновых бревен, одноэтажные, с надворными постройками под одной с избой крышей, крытой серым шифером, словом, под уральскую старину). Когда соседушки не в настроении и не хотят кучковаться, то сидят порознь: перекликаются и лузгают семечки, сплевывая шелуху под ноги.
– Семеновна, слышь-ка, – это обращается соседка справа к соседке слева, только-только вышедшей подышать воздухом, – Пашка твой сёдня, кажись, опять землю рогами буровил?
– Нажрался, гад вонючий, – отвечает соседка. Следует резкий недовольный кивок головы с жиденькими прядями рано поседевших волос, плевок в сторону, злое поджатие потрескавшихся губ, давным-давно не видевших ни помады, ни кремов. Потом добавляет. – Надоел, окаянный!
– Да-да! Как не надоесть, Семеновна, – в голосе соседки неприкрытое сочувствие. – Просто – беда, – соседка встряхивает головой, поправляет цветастую ситцевую косынку, демонстрируя тем самым женскую солидарность.
То ли сочувственный голос, то ли солидарное встряхивание головой Семеновне не понравились, как любит она выражаться, не легли на душу, показались фальшивыми, подначками, поэтому ядовито уколола соседку тем же самым:
– Твой-то тоже, Ивановна, хорош… Видела… Еле ноги волочил, идучи с работы.
– Чистая правда, Семеновна, – непринужденно и охотно соглашается Ивановна. – Жрет, каждый день нажирается… Прорва… И когда только нажрется-то, а?
Семеновна спрашивает:
– Когда уж рак на горушке свистнет, – произносит себе под нос Семеновна. Помолчав с минуту, громко спрашивает. – Не с моим ли твой-то стакнулся?
– А, черт его знает, с кем таскается по пивнушкам, – яростно отвечает Ивановна.
Семеновна тихо всхохотывает.
– Спит, поди, теперь-то уж?
– Да… Дрыхнет в сенках. В дом-то – не смог: порог оказался высоковат, не осилил.
Какое-то время обе молчат, занятые усердным лузганьем семечек. Семеновна, поправив полушалок, сбившийся на плечи, громко, так, что слышит вся улица, спрашивает Ивановну:
– Ты, кажись, опять понесла? Не ошибаюсь, нет? Подзалетела?
– Заметно уже, да?
– Есть маленько, – следует кивок Семеновны. – Четвертый… Не много ли? Может, будет?
– Во мне, что ли, дело?
– Ну, не во мне же…
– Так ведь я… И не хочу, а он – давай да давай… В постель тащит… Строгает и строгает…
– После третьего, – откровенничает Семеновна, – я своему сказала: нет и – точка.
– На что другое, а по этой части мой – мастак. Никакого удержу… Автомат…
Семеновна гнет свое:
– Троих хватит… Завязала… На что нищету-то плодить? Недоумков и без моего участия – хоть пруд пруди.
Ивановна, как бы и не к месту, восклицает:
– Не мужики, а сволочня!
Семеновна ответствует:
– Каторжницы мы, каторжницы.
Соседка, чей дом наискосок, вырядившись в яркое платье в разноцветный горошек и голубой шелковый платок, слушает, поддакивая то одной, то другой. А вот и она решила сказать свое слово.
– Мой Димушка – не такой… Ласковый, внимательный, можно сказать, душевный…
Семеновна ядовито бросает:
– В постели – все ласковы.
Следует возражение:
– Нет-нет… Не только… Димушка всегда… И не пьет, – и тут же уточняет, – почти не пьет… Разве что по праздникам.
Семеновна опять же ядовито поправляет:
– А праздники каждый день.
Соседка, чей дом наискосок, не реагирует на посылаемые шпильки.
– Димушка хозяйственный… Все в доме на нем держится. Куда бы я без него?
Ивановна, поджав губы, цедит. Цедит так, чтобы соседка на этот раз не слышала:
– Сказывай, но кому другому, а не мне… Бабник, каких поискать еще надо. Пройдоха… Наши, хоть и жрут не в меру, да по бабам не шастают… Этот же… На работе ни одной не пропустит, всякую норовит в темный угол затащить. Поселковые видят…
Семеновна, будто услышав Ивановну, себе под нос вторит:
– И сразу не скажешь, кто хуже: бабник или алкаш?
Соседка, чей дом наискосок, не услышав в ответ ни слова, продолжает петь свою песню:
– Есть хорошие мужчины… Попадаются…
– Повезло, – уже громче, но с прежним ядом, бросает Семеновна и ненавистно сплевывает под ноги шелуху от семечек.
– Что ты сказала, Семеновна? Я не расслышала.
– Счастливая ты, Марковна, говорю.
Марковна быстро-быстро закивала.
– Да-да… Не хочу гневить Бога: дал он мне того, о ком еще в детстве мечтала.
– Типун тебе на язык! – тише прежнего шипит Ивановна. – Сглазишь ведь.
– А, соседушки, слышали? – спрашивает Марковна.
– Об чем? Сорока на хвосте что-нибудь опять принесла? – спрашивает Семеновна, а Ивановна сидит молчком. Кто не знает Марковну? Первейшая сплетница. Ее и спрашивать ни к чему: сама все расскажет, да еще и приврет с три короба.
– Весь поселок говорит…
– Ты – еще не поселок, – бурчит неслышно, себе под нос Ивановна.
– Не слышали, что ли?
Семеновна догадывается.
– Это ты про того… из военкомата? – уточняет Семеновна, а Ивановна сидит молча. Потому что недолюбливает Марковну. За что? Не завидует ли?
– О нем, – отвечает Марковна и спешит выплеснуть свои знания по предмету. – Знакомая… Да вы ее знаете: Клавдия с соседней улицы, которая поломойкой работает в военкомате. Клавдия говорит: товарищ майор – такой обходительный, такой интеллигентный.
Ивановна себе под нос продолжает ядовито цедить:
– Точь-в-точь твой муженек.
Марковна, слава Богу, не слышит и поэтому продолжает:
– Со всеми, сказывает Клавдия, – на «вы» и с ней, поломойкой, значит. Всем и при всяком случае говорит: пожалуйста, извините, спасибо. Хайло не дерет, не матюгается, как наши.
Ивановна кричит через дорогу:
– Не мужик, а картинка!
– Именно так, именно! – спешит подхватить Марковна. – На службе – ни-ни, ни капли в рот. Не то, что его сослуживцы по военкомату: к концу дня так набузыкаются, что лыка не вяжут. Клавдия после них каждый вечер сумками стеклотару выносит.
Ивановна прерывает свое затянувшееся молчание. Она спрашивает:
– Что еще говорит твоя Клавдия?
– Много… Разное, – откликается Марковна. – Бабу будто привез… Из Москвы… С одним чемоданом приехали… Будто молодожены… Разведенные они…
Семеновна встрепенулась.
– Как «разведенные»?! Я слышала: муж и жена… Не по правилам…
– Э, когда-то… – Марковна шумно вздыхает. – Днями в магазине видела ее. Присмотрелась, ясное дело. Никакого вида. Пигалица. Ни кожи, ни рожи. Что в ней нашел товарищ майор? Ума не приложу. Он-то видный такой, представительный.
Ивановна солидно бросает:
– На вкус и цвет – товарищей нет.
– Любовь зла – полюбишь и козла, – ядовито уточняет Семеновна.
Марковна кивает.
– Верно… Все так, но…
Семеновна высказывает догадку:
– Присушила, поди?
С ней соглашается Ивановна.
– Как пить дать.
Марковна же все свое гнет:
– Клавдия, будто, слышала, что товарищ майор в Москве-то большим человеком был.
Семеновна спешит возразить:
– Мелет Клавдия. Он учился…
– Да, учился. Но учеба бывает разной. Где учился товарищ майор, а?
Семеновна отвечает:
– В академии… пожалуй.
Ивановна авторитетно подытоживает:
– Не в чинах мужик. Наш военком на одну звездочку больше имеет.
Семеновна, кивнув, поддерживает Ивановну:
– И кто ж из Москвы в нашу-то глухомань большого человека зашлет?
– Это – загадка, – соглашается Марковна. – Что-то там было… Не иначе…
– Блядун, скорее всего, несусветный, – выпалила Ивановна, – вот и турнули.
Марковна отрицательно качнула головой.
– Нет-нет! Тут что-то другое.
– Другое? – ехидно переспрашивает Ивановна и отвечает. – Тогда – проворовался.
– Ха-ха-ха, – заливается Марковна. – Шинель на барахолке толкнул, что ли?
– Мало ли, – отвечает Ивановна. – Свинья грязи найдет…
Вот так и судачат люди в поселке.
Я скептически отнесся к слухам. Долгое время не сталкивался с «варягом». Однажды случайно увидел на улице. Идет, гляжу, по дощатому тротуару впереди парочка. Мило идет, склонив друг к другу головы. О чем-то тихо щебечут. Он поддерживает легонько ее под локоток. Он регулярно склоняется к партнерше и легонько касается губами ее щеки. Кто такие? Поведение совершенно непривычное для такого поселения. Когда баба тащит пьянь-мужа, – это да, другое дело, но чтобы по вечерам такой моцион принимать?! Извините! Обогнав, мельком взглянул. Любопытно, знаете ли. Мне – не знакомы. Поздоровался. В провинции все друг с другом здороваются, если даже видятся впервые. Мужчина, кинув в мою сторону взгляд, ответил кивком. Спутница же, поглощенная своим мужчиной, в котором, видимо, был сосредоточен весь ее мир, все ее богатство, никак не прореагировала и продолжала неотрывно смотреть в одну точку, в ту точку, где сосредоточено было все, что ей было близко и дорого. Понятно стало, кто эта парочка.
Сказать, что увиденное меня заинтриговало, – это ничего не сказать.
Случай помог мне увидеть «варяга» поближе и получше разглядеть. Контора, где я работал, подыграла. Не специально, понятно.
Мой начальник прилично играет в шахматы, поэтому вечерами, когда рабочий день заканчивается, подтягиваются звезды поселкового шахматного Олимпа, с которыми шеф сражается на равных. Увы, другого места для встреч нет. Шеф, почти мастер спорта по шахматам, играя со мной, дает фору: уже в начале поединка убирает с доски либо две ладьи, либо ферзя. Но и это меня не спасает от проигрыша. Две беды меня преследуют в игре: во-первых, вечные зевки (шеф всегда милосерден, поэтому щадит, предлагает переходить, но я, упрямствуя, гордо отказываюсь); во-вторых, напрочь отсутствует стратегия, следовательно, дальше второго хода не вижу ничего.
Один из вечеров. Присутствую из-за любопытства, в качестве болельщика, разумеется. И появляется новичок, то есть майор из военкомата (кто-то, видимо, подсказал, что в нашей конторе собираются шахматисты и разыгрываются нешуточные баталии).
Присмотрелся к новичку. Мускулист и широк в плечах, выше среднего роста. Скуласт и на подбородке ямочка. Ухожен лицом, то есть гладко, до синевы выбрит. Подтянут. Басист. Бросается в глаза: суховат в общении, говорит лишь по необходимости, о себе – ни слова. Почти не улыбается. Даже тогда, когда полковник от кавалерии (он – в отставке, сам выбрал местом для проживания этот глухой поселок и также заядлый шахматист) начинает рассказывать армейские анекдоты. Слушая, как, громко хохоча, закатывается кавалерист, лишь кривит лицо.
Мой шеф с первого же поединка почувствовал в новичке серьезного соперника. Проигрывая, нервничает. Майор же, вижу, при этом, уступая провинциалу, остается стойко невозмутимым.
Проходит месяц. И я пробую майора разговорить. Отшил тут же. Всего лишь взглядом. Взгляд до такой степени выразителен, что утратил навсегда всякий интерес к сближению. Я подумал: «Высокомерный самолюб».
Ошибся, поспешил с выводами. Выводы не только поспешны, а и несправедливы. Приду к этому лишь годы спустя. Человек, с вечной грустинкой в глазах (впрочем, и это мне могло всего-то лишь тогда показаться), отгородился от мира глухим забором, не оставив даже щелей, чтобы никто не мог заглянуть в его священный внутренний мир, до которого, как ему кажется, никому нет дела. За забор он никого не пустит.
Майор проводит в нашей конторе лишь пару часов и спешит домой. Ему ни с кем не хочется общаться (это видно), но страсть к шахматам, которую (единственную в его жизни) он не в силах удовлетворить дома, принуждает идти на контакт.
Пару раз увидел майора в районном Доме культуры: в зале – не более десятка зрителей и сквозняк. На киносеансе.
Еще раз увидел в местном вокзальном ресторане (он, то есть ресторан, – единственный на весь поселок). Сидит у большого окна, выходящего на перрон, мимо которого проносятся с шумом поезда, поезда на Москву. Перед ним – графинчик с водкой и незатейливый салат. Как понимаю, зашел сюда не на минутку.
Это был единственный раз, когда видел майора за выпивкой и без жены. О чем он думал, разглядывая поезда, уносящие людей в даль, в том числе и в Москву? Сожалел? Вспоминал? Или, может, о чем-то мечтал?
Парочка постепенно примелькалась. Поселковые перестали возбужденно обсуждать поведение «варягов». Свыклись. Стали воспринимать как местную достопримечательность, но не более того. К тому же «варяги» зажили тихо, скромно, не возбуждая любопытства и кривотолков. Не стало интереса. Угас он, как костер, в который не подкладывают регулярно дровец.
Да и местечковая общественность вскоре была взорвана другой сенсацией, куда более зажигательной и привычной для всех. Мужик (видный такой, служащий, из культурной местной элиты; его всякая собака знает в поселке и не облаивает), напился, пришел домой только под утро и стал шарашиться в доме. Супруга его (живут без малого три десятка лет) спросонья загундела: ах, мол, такой-сякой да разэтакий, когда эта жрачка прекратится? Надоела, видать, мужику со своими проповедями. Цыкнул на нее и ногой топнул. А супруга того больше распалилась и давай его крыть последними словами. Мужик – хвать, что подвернулось под руку в тот момент, да и запустил в жену. Метательным снарядом послужил чайник, оказавшийся в руке. Чайник, пролетев мимо жены, ударился в сервант, и брызги стекла – во все стороны. Караул, вопит супруга, муж, кричит во всю глотку, убивает. Милиционер тут как тут, протокол составляет, а оскорбленная супруга заявление строчит, чтобы, значит, призвали к порядку мужа-буяна. И неважно, что на потерпевшей стороне ни единой царапины. Важно тут другое: мужик посягнул не просто на зануду-супруженцию свою, а на лицо ответственное в поселке городского типа, на заведующую отделом райкома КПСС. Тут, братцы мои, не хулиганкой, а политикой попахивает. На кого руку поднял мужик? На партию покусился?! Ну, не совсем на партию, а всего-то на одного из ее активных бойцов, но все равно… Хулиганка с политическим душком.
Новая сенсация затмила старую. Теперь поселковые обсуждают, лишат воли или нет мужика, замахнувшегося на самое святое – на «ум, честь и совесть» эпохи?
И потому, взглядывая на «варягов», принимающих вечерний моцион, кумушки уже не судят, а всего-то завистливо вздыхают в след.
– Остались еще настоящие мужчины в России… Этот в свою бабу чайник не швырнет…
Глава 1
Молодечество
Он был близок к окончанию восьмого класса, когда на семью свалилось несчастье: погиб отец. Погиб, выполняя интернациональный долг. Его эскадрилья базировалась на военном аэродроме под Кандагаром. По нему ударили «духи» из переносного зенитного комплекса американского производства. Ударили на взлете и с близкого расстояния. Так что от самолета и экипажа остались мелкие обгоревшие обломки, перемешанные с песчаной пылью.
Конечно, прибыл на родину «груз-200». Что там, в запаянном наглухо цинковом гробу? Ни он, ни мать не увидели. Назначили смехотворную пенсию за потерю кормильца. Так сказать, в утешение.
Через месяц после похорон пришло письмо от отца: где-то уж слишком долго блудило. Если судить по дате на конверте, отец отправил письмо за день до своей гибели. Письмо, как и все предыдущие, дышало неиссякаемым оптимизмом: писал, что свой «интернациональный долг» он когда-нибудь да выполнит полностью, вернется живым-здоровым. В самом низу была приписка, адресованная сыну: «Если все-таки (не дай Бог, конечно!) что-то случится, прошу тебя, Алёшенька, об одном: иди в суворовское. Сделай, как прошу, ясно? Хочу видеть тебя офицером… Как я… Как твой дед и прадед».
И последние слова отца: «Побереги, пожалуйста, маму».
Он сберег это письмо. И выполнил предсмертную волю отца: после восьмилетки, собрав все необходимые документы, почти тайком от матери (она противилась, она не хотела сыну той же судьбы, что настигла отца), сдал в канцелярию Свердловского суворовского училища. Вскоре его пригласили на собеседование. Пригласили вместе с матерью. Мать расплакалась. На вопрос заместителя начальника суворовского училища, согласна ли отдать сына на ученье, тяжело вздохнув, сказала:
– Не хочу… Но и противиться не могу… Алёшенька мой не будет мужчиной, если ослушается отца.
Парнишку зачислили без проволочек. Ну, какие там проволочки, если восьмилетку закончил с хорошими отметками, если медицинскую комиссию прошел на «ура»? Ну, ясно: повлиял факт гибели его отца в Афганистане. Мать подулась на него и перестала. Смирилась. Поняла, что сын иначе поступить не мог.
Ровно через год – опять беда: не уберег маму. Уж больно незаметно подкралась болезнь и взяла мать в острые когти. Мать уходила мучительно. Сын узнал, в чем дело: как-то лечащий врач отвел в сторонку суворовца с суровым лицом, чтобы не услышали посторонние, и сообщил: мать – безнадежна, у нее – рак желудка, оперировать уже не имеет смысла.
Он убежал и в больничном саду, под старым тополем, приткнувшись к щербатому стволу, расплакался. Расплакался навзрыд. Ему никто не мог помочь. И утешить мальчишку тоже было некому. Он оказался мужчиной. Матери, страдавшей от нестерпимых болей, так и не показал, что знает ее страшный секрет.
Снова – похороны. Сослуживцы и соседи помогли мать похоронить.
Взвод, в котором числился он, решил взять над ним шефство. Как над круглым сиротой. Начались скрытные поблажки: стали освобождать от дежурств по казарме или от уборки снега на училищном плацу. Парнишка быстро смекнул, в чем дело. И по-взрослому, мрачно нахмурившись, как это делал отец, когда на что-то сердился, заявил всем, что в опеке не нуждается и проживет без покровительства. Он не захотел, чтобы кто-то его видел слабым, то есть слюнтяем: он – сильный и сможет все.
Учиться стал еще усерднее и теперь получал исключительно пятерки. Никаких нарушений дисциплины или внутреннего распорядка. Быстро повзрослев, стал мужчиной, несущим полную ответственность за себя. Как выдавалась свободная минутка, отправлялся в спортзал или на волейбольную площадку. Он, между прочим, больше всех в роте кидал вверх и ловил гирю-двухпудовку. Он был невысок, но широк и крепок в кости. И вынослив, наверное, из-за своего ослиного упрямства.
И вот пришла пора выпуска из суворовского. Экзамены – позади. Впереди, через неделю – последний парад на училищном плацу. В документе о среднем образовании (знает, хотя и не получил еще; получит – на торжественном построении) – исключительно «отлично». Значит? Карачится золотая медаль.
Май. Солнце уральское неласково, а все-таки пригревает. Черемуха отцветает, покрывая землю под собой беленькой легонькой скатёркой. Зато сирень, набрав огромные бутоны, начинает распускаться, дурманя своим запахом юные души.
Вечер. Отбой. Никому не спится. Хочется озорничать, ведь им всего-то восемнадцать! Через полуоткрытые окна с улицы несутся городские шумы: вот на перекрестных стыках прогрохотал трамвай; вот донеслись тренькания гитары и молодые голоса (суворовцы, не видя, знают: студенты политеха, находящегося неподалеку от суворовского); вот радостно и звонко защелкал-засвистел озорник-скворец (откуда, чертяга? Центр же большого города!).
Тихо скрипнула дверь спальной комнаты. Вихрастые головы, как одна, нырнули под одеяла. Это – старший воспитатель, которого воспитанники боятся гораздо больше, чем самого начальника училища. Старший воспитатель проверяет, все ли воспитанники в кроватях и не сбежал ли кто. Он не входит. Он, обведя суровым взглядом кровати воспитанников, прилежно сопящих носами, тихо прикрывает дверь. Он знает, что не спят и лишь притворяются. Он делает вид, что им удалось обмануть его бдительность. Это его поблажка: мальчишки последние деньки доживают в этих стенах.
Первым высунул свой длинный и острый нос из-под одеяла Славка Смирнягин, кровать которого стоит ближе всех к двери.
– Отбой! – гукнул он. – Опасность миновала!
Заёрзали и на других кроватях.
Олежка Караваев, неженка и единственный сын генерала-командарма второй воздушной, штаб которой дислоцируется в Челябинске, потянулся, сладко и громко зевнул.
– Надоело, – сказал он, не адресуясь ни к кому конкретно.
Приподнявшись на локте и повернув голову в его сторону, Славка Смирнягин спросил:
– Что тебе «надоело»?
– Все надоело… Ать-два! Левой-правой! Вся жизнь по команде… Круглые сутки… И до старости?! Ну, нет!
– Не в отца, – вновь гукнул Славка Смирнягин. – Он-то, вон, куда поднялся!
– Не в отца, – подтвердил, согласившись с ним, Олежка Караваев. – Я – в мать пошел… Мы с матерью всё уже решили…
Смирнягин спросил:
– И отец не знает?
– Не знает…
– Узнает – врежет, – бросил со своего места Колька Юрин, – и будет прав.
Караваев крутнул по подушке головой.
– Ну, да! Так и дался… Я – взрослый.
Колька Юрин захохотал.
– Вздует по-взрослому, – бросает он.
– Не посмеет… Да и мать не даст… Заступится.
Все знают, что Олежку мать нещадно балует. Навещая постоянно, сует что-нибудь сладенькое и без денег на карманные расходы не оставляет. Деньги Олежка тратит по-разному: иногда подружку-школьницу водит в театр музыкальной комедии, но чаще – на сигареты или даже на вино. Балуется и в роте все знают, но не докладывают командиру роты, поэтому увлечения суворовца неизвестны училищному командованию. Не попался – значит, все в порядке.