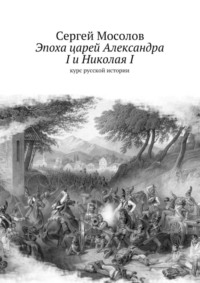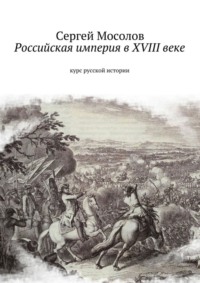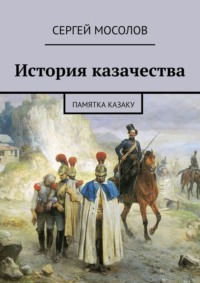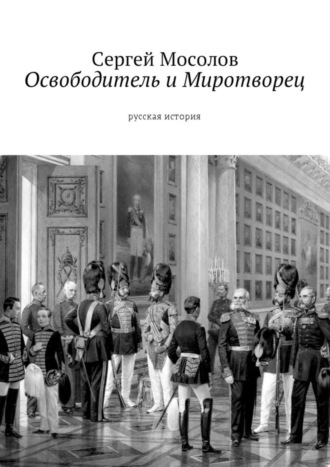
Полная версия
Освободитель и Миротворец. Русская история
В 1837 году, после сдачи общего экзамена, завершившего круг образования, Александр Николаевич предпринял, согласно собственноручно начертанной императором Николаем инструкции, путешествие по России. Целью его было личное ознакомление со страной и её обитателями как необходимое дополнение к познаниям, приобретённым научным путём. В этом путешествии наследника сопровождали его наставники Василий Жуковский и Александр Кавелин (назначен вместо умершего в 1834 году Мердера. – Примеч. авт.), преподаватель истории и географии Арсеньев, лейб-медик Енохин, а также его сверстники и товарищи – Александр Паткуль и Иосиф Виельгорский, с которыми он проходил полный курс обучения. В процессе этого путешествия, Александр посетил 29 губерний Европейской части, Закавказья и Западной Сибири. За семь с половиной месяцев кортеж наследника проехал двадцать тысяч вёрст. Вот его маршрут: Санкт-Петербург – Новгород – Тверь – Ярославль – Кострома – Вятка – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Тобольск – Курган – Оренбург – Уральск – Казань – Симбирск – Саратов – Пенза – Тамбов – Воронеж – Тула – Калуга – Рязань – Смоленск – Брянск – Малоярославец – Бородино – Москва – Владимир – Нижний Новгород – Рязань – Орёл – Курск – Харьков – Николаев – Одесса – Севастополь – Бахчисарай – Симферополь – Массандра – Алупка – Геленджик – Керчь – Ялта – Перекоп – Екатеринослав – Киев – Полтава – Бердянск – Таганрог – Новочеркасск – Москва – Царское Село. В Ялуторовске и Кургане он встретился с сосланными в Сибирь декабристами и пообещал им смягчить их участь.
В 1838—1839 годах цесаревич побывал в Европе: в Швеции, Пруссии, в немецких княжествах, Австрии, Италии, Ватикане, Голландии и Англии.
В сентябре 1840 года в Россию прибыла невеста цесаревича – принцесса Гессенского дома Мария. Вскоре 5 (17) декабря она приняла православие с именем Мария Александровна. На следующий день, 6 декабря, состоялось обручение Александра с Марией Александровной. А 16 (28) апреля 1841 года в Большой церкви Зимнего дворца состоялось их бракосочетание9.
После венчания государь с новобрачными появился на балконе Зимнего дворца. При этом царь и цесаревич оба были в казачьих мундирах. Восторгам и шумным восклицаниям несметной толпы, залившей Дворцовую площадь, не было конца. Торжество бракосочетания сопровождалось длинным рядом пиров и празднеств. 19-го апреля был дан парадный спектакль в Большом театре, за которым последовали балы в Зимнем дворце, в Михайловском дворце у великого князя Михаила Павловича и в дворянском собрании. И только после майского парада, где цесаревич командовал 2-ю гвардейской пехотной дивизией, молодые супруги, наконец-то, смогли уединиться в Царском Селе, где им был отведён Александровский дворец. Но и там оставались они недолго. Первопрестольная столица жаждала видеть царского первенца и его юную супругу.
Торжественный въезд в Москву состоялся 14 мая 1841 года. Государь лично ввёл цесаревну в святилище земли русской – Успенский собор. Там встретил молодых супругов тёплым приветственным словом митрополит Филарет. Десятидневное пребывание в Москве завершилось посещением Троицко-Сергиевой лавры и днём, проведённым юной четой в уединении дворца наследника, в селе Бородино. 29 мая они возвратились на летнее жительство в Царское Село.
Следует отметить, что в целом брак Александра Николаевича и Марии Александровны оказался весьма удачным и стабильным. У супругов родилось восемь детей: в 1842 году – Александра, в 1843 – Николай, в 1845 – Александр, будущий царь, в 1847 – Владимир, в 1850 – Алексей, в 1853 – Мария, в 1857 – Сергей и в 1860 – Павел. При этом только их старшая дочь, Александра, скончалась в младенческом возрасте, но четыре сына и вторая дочь, родившиеся до воцарения, росли, развивались и расцветали под попечительным взором нежно любивших их матери и отца. Царь Николай Первый являлся крёстным отцом у всех своих внуков, детей старшего сына. Новорождённые великие князья сразу же зачислялись в ряды армии, шефами полков.
Обычное летнее пребывание наследника и его супруги в Царском Селе и Петергофе время от времени прерывалось путешествиями за границу. Так, поздней, осенью 1843 года, их высочества совершили поездку по Европе, продолжавшуюся семь недель – с 9 ноября по 30 декабря – и посетили при этом родственные дворы: прусский, веймарский и дармштадтский. В следующем году целью заграничного путешествия, состоявшегося весной – со 2 марта по 17 апреля, – было шестинедельное пребывание в Дармштадте, в семье цесаревны. В 1846 году наследник выехал на несколько дней в Вену по приглашению императора австрийского, а в 1847 году сопровождал цесаревну в Дармштадт и оттуда на воды в Киссинген, после чего посетил вместе с ней великую княгиню Ольгу Николаевну в Штутгарте. Потом, оставив цесаревну в Югенгейме, Александр в сентябре вернулся в Россию для участия в высочайших смотрах, произведённых войскам, расположенным в юго-западном крае. Но уже в конце того же месяца наследник отправился с государём в Варшаву для встречи цесаревны, возвращавшейся из-за границы, в сопровождении принцессы Александры Саксен-Альтенбургской, наречённой невесты великого князя Константина Николаевича.
Что касается военной службы цесаревича, то она также протекала довольно быстро и успешно. Так, в 1836 году он уже стал генерал-майором, с 1844 года – полный генерал, командовавший гвардейской пехотой. С 1849 года ему были подчинены на общем основании специальные военные училища: главное инженерное и Михайловское артиллерийское, а с 1854 года – и академия Генерального Штаба. Во время Крымской войны 1853—1856 годов с объявлением Петербургской губернии на военном положении Александр командовал всеми войсками Северной столицы. Цесаревич имел звание генерал-адъютанта, входил в состав Главного штаба Его Императорского Величества, был атаманом всех казачьих войск; числился в составе ряда элитных полков, в том числе Кавалергардского, лейб-гвардии Конного, Кирасирского, Преображенского, Семёновского, Измайловского. Он являлся канцлером Александровского университета в Финляндии, доктором права Оксфордского университета, почётным членом Императорской академии наук, Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, Общества поощрения художников, Санкт-Петербургского университета.
Крымская война и смерть Николая I
В начале 1853 года на политическом горизонте России появились зловещие, грозные тучи. Занятие русскими войсками Дунайских княжеств вызвало общий протест собранных на конференции в Вене великих держав, что в конечном итоге побудило Турцию объявить войну России, в расчёте на военную поддержку Франции и Англии, а также Австрии и Пруссии. Император Николай пожелал лично удостовериться в расположении своих союзников, императора Франца-Иосифа и короля Фридриха-Вильгельма, и сам отправился на маневры в Ольмюц, после чего австрийский император и король прусский посетили его в Варшаве. Сопровождавший государя в этой поездке (с 10 по 18 сентября) цесаревич мог лично убедиться, что в предстоявшей войне с двумя морскими державами России не только нельзя рассчитывать на помощь держав – участниц Священного союза, но следует даже опасаться их перехода в лагерь противников.
Начало 1854 года ознаменовалось разрывом с Англией и Франциею. Все боевые силы Российской империи были поставлены на военную ногу. Гвардия выступила в поход и была заменена в Петербурге своими резервными и запасными частями, сформированными под непосредственным наблюдением цесаревича, которому, ввиду ожидаемого появления в Балтийском море англо-французского флота, поручена была, по званию главнокомандующего гвардейским и гренадерским корпусами, защита побережья от Выборга до Нарвы. В продолжение всего 1854 года цесаревич разделял труды и заботы своего царственного родителя по обороне Империи, умножению и усовершенствованию её военных сил. Вынужденное угрозами Австрии снятие осады Силистрии, отступление русских войск за Дунай, очищение Молдавии и Валахии, вторжение турок в Закавказье, появление англо-французского флота в Балтийском море, высадка союзников в Крыму, проигранные князем Меншиковым сражения при Альме и Инкермане, затопление Черноморского флота у входа в Севастопольскую гавань, наконец, изнурительная осада Севастополя, – всё это были тяжкие испытания, подорвавшие здоровье Николая I. Не менее тревожило государя, возбуждая в нём искреннее негодование, поведение союзных с ним Дворов венского и берлинского, из которых первый явно принял сторону врагов России, а второй колебался и, видимо, готов был последовать примеру Австрии. «Буде воля Божия, – писал император Николай в конце ноября главнокомандующему южной армией князю Горчакову, – буду нести крест мой до истощения сил». Однако сил не хватило. Простудившись в начале февраля, царь 11-го числа слёг в постель. Болезнь быстро развивалась; силы покидали; он уже не мог более заниматься государственными делами, и бремя их вынужден был возложить на наследника.
16 февраля цесаревичу пришлось принять важное решение, изложенное в двух собственноручных письмах. В первом, к главнокомандующему Крымской армией, известив о болезни государя, он именем его величества выразил князю Меншикову огорчение по поводу последних неудач в Крыму: провала штурма на Евпаторию и безостановочного приближения осадных работ союзников к укреплениям Севастополя. Передав мнение государя, что ввиду неоднократно высказанного Меншиковым убеждения в невозможности всякого наступательного движения, единственным исходом для нас представляется дождаться неприятельского приступа на Севастополь и по отражении его двинуться вперёд как из самой крепости так и со стороны Чоргуна на Кадыкиой, угрожая одновременно центру, правому флангу и даже тылу союзников, наследник продолжал: «За сим Государь поручает мне обратиться к вам, как к своему старому, усердному и верному сотруднику, и сказать вам, любезный князь, что, отдавая всегда полную справедливость вашему рвению и готовности исполнить всякое поручение, доверием его величества на вас возлагаемое, государь, с прискорбием известившись о вашем болезненном теперь состоянии, о котором вы нескольким лицам поручали неоднократно словесно довести до Высочайшего его сведения, и желая доставить вам средство поправить и укрепить расстроенное службой ваше здоровье, Высочайше увольняет вас от командования Крымской армией и вверяет её начальству генерал-адъютанта князя Горчакова, которому предписано немедленно отправиться в Севастополь». Весть об увольнении смягчалась для Меншикова пожалованием его сына генерал-адъютантом и заключительными словами письма: «Государь поручает мне, любезный князь, искренне обнять своего старого друга и от души благодарить за его всегда усердную службу и за попечение о братьях моих».
Во втором письме к князю Горчакову цесаревич приглашал его, сдав начальство над Южной армией генералу Лидерсу, тотчас же ехать в Севастополь, чтобы вступить в командование Крымской армией и усилить её всеми войсками, какие только сочтёт возможным туда направить. При этом наследник посвятил нового вождя в намерение государя, считавшего сохранение Севастополя вопросом первейшей важности, в случае разрыва с Австрией и наступления неприятеля, жертвовать временно Бессарабией и частью даже Новороссийского края до Днепра для спасения Севастополя и Крымского полуострова. «Кончив с Божией помощью благополучно дело в Крыму, – замечал Александр Николаевич, – всегда можно будет соединёнными силами обеих армий обратиться на австрийцев и заставить их дорого заплатить за временной успех».
На сохранение жизни государя не оставалось более ни малейшей надежды. Императрица Александра Фёдоровна взяла на себя инициативу внушить обожаемому супругу необходимость исполнить последний долг христианина. Узнав от лейб-медика Мандта, что ему грозит паралич сердца, государь сам пожелал приобщиться Святых Тайн и проститься со всеми членами царственной семьи. При этом весьма трогательны были последние слова его, обращённые к старшему сыну: «Мне хотелось, – говорил он, нежно обнимая его, – приняв на себя всё трудное, всё тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе. Теперь иду молиться за Россию и за вас. После России я вас любил более всего на свете».10
18 февраля (2 марта) 1855 года император Николай I скончался, и Александр II вступил на прародительский Престол.
Глава 2. Начало царствования Александра II. Великие реформы и Польское восстание
Первые годы царствования. – Парижский мир. – Поездка в Финляндию, Польшу и Пруссию. – Коронация. – «Оттепель». – Встреча с Наполеоном III. – Геральдическая реформа. – Великие реформы. – Отмена крепостного права. – Польское восстание. — Война с горцами.
Вступив на престол в день кончины своего отца, Александр II издал манифест, который гласил: «…пред лицем невидимо соприсутствующаго нам Бога, приемлем священный обет иметь всегда единою целью благоденствие Отечества нашего. Да руководимые, покровительствуемые призвавшим нас к сему Великому служению Провидением, утвердим Россию на высшей ступени могущества и славы, да исполнятся чрез нас постоянные желания и виды августейших наших предшественников Петра, Екатерины, Александра Благословеннаго и незабвенного нашего Родителя».11
Перед страной стоял ряд сложных внутренних и внешнеполитических вопросов: крестьянский, восточный, польский и другие; финансы были крайне расстроены неудачной Крымской войной, в ходе которой Россия оказалась в полной международной изоляции.
Первым из важных шагов нового царя было заключение Парижского мира в марте 1856 года – на условиях, которые в создавшейся ситуации были не самыми плохими. Исходя из того, что в Англии в то время были сильны настроения продолжать войну до полного разгрома и расчленения Российской империи, – сил у союзников на это хватало.
Весной 1856 года Александр II посетил Гельсингфорс (Великое княжество Финляндское), где выступил в Александровском университете и сенате. Потом он побывал в Варшаве, где произнёс на французском языке речь, в которой заверял аудиторию, что прибыл «с забвением прошлого, одушевлённый наилучшими намерениями для края», но что преисполнен решимости продолжать дело своего отца: «Вы близки моему сердцу так же, как финляндцы и другие русские подданные; но я желаю, чтобы порядок, установленный моим отцом, не был изменён нисколько. А потому, господа, отбросьте всякие мечтания! Я сумею остановить порывы тех, кто бы вздумал увлечься мечтами. Я сумею распорядиться так, что эти мечты не перейдут за черту воображения мечтателей. Счастье Польши заключается в полном слитии её с народами моей империи. То, что мой отец сделал, хорошо сделано, и я его поддержу. Верьте, что я имею относительно вас самые лучшие намерения. Вам лишь остаётся помочь мне в решении задачи, а потому, повторяю ещё раз, оставьте всякие мечтания». Речь эта оставила у слушателей крайне противоречивое впечатление, поскольку содержала целый ряд смутных и неясных высказываний о взаимоотношениях Российской империи и Царства Польского.
После Варшавы Александр II посетил Берлин, где имел весьма важную для него встречу с прусским королём Фридрихом Вильгельмом IV, родным братом его матери, с которым тайно скрепил «двойственный союз», прорвав таким образом внешнеполитическую блокаду России.
На дальнейшую нормализацию отношений с европейскими странами была нацелена вся работа Министерства иностранных дел, направлявшееся его руководителем – выдающимся дипломатом князем Александром Михайловичем Горчаковым.
В сентябре 1857 года в Штутгарте состоялась встреча Александра II и французского императора Наполеона III. На ней, как и на ряде последующих совещаний представителей России и Франции, удалось договориться о согласованных выступлениях в случае франко-прусской войны и принять ряд важных решений в отношении Османской империи. В итоге, в результате двустороннего давления на Порту Молдавия и Валахия получили статус автономии, что позволило заложить фундамент для последующего образования независимой Румынии. Правда, главный для себя вопрос – отмену статей Парижского договора – России решить не удалось. Впрочем, Горчаков не терял оптимизма. «Мы добьёмся этого, – писал он царю, – ибо всегда к этому стремимся. Надеюсь ещё при жизни это увидеть».12 И как показали дальнейшие события, чутьё и опыт его не обманули.
С воцарением Александра II в общественно-политической жизни Российской империи наступила «оттепель». Так, в декабре 1855 года императорским указом был закрыт Высший цензурный комитет, и обсуждение государственных дел стало открытым, то есть была предоставлена необъявленная, но долгожданная свобода слова. Следом были отменены стеснения, введенные в университетах после европейских революций 1848—1849 годов, разрешена свободная выдача заграничных паспортов (вечная и точная примета российских «оттепелей»).13
26 августа (7 сентября) 1856 года в Успенском соборе Кремля состоялась торжественная коронация вступившего на российский престол императора Александра II. Священнодействие возглавлял митрополит Московский Филарет. В процессе коронации Александр II восседал на костяном троне царя Ивана IV, спинка которого была украшена серебряными двуглавыми орлами.
По случаю своей коронации государь объявил амнистию декабристам, петрашевцам, участникам польского восстания 1830—1831 годов; были приостановлены на 3 года рекрутские наборы; в 1857 году военные поселения и округа пехотных солдат были упразднены и переданы в управление министерства государственных имуществ.
Кстати, амнистия коснулась и писателя Фёдора Михайловича Достоевского14, которому было возвращено потомственное дворянство. Также царь разрешил ему возвратиться из Сибири в Петербург и тем самым дал возможность вновь заниматься столь близким его сердцу литературным трудом.15
Достоевский считал императора Александра II своим благодетелем и был горячим его поклонником. Период каторги и военной службы был поворотным в жизни Достоевского: из ещё не определившегося в жизни «искателя правды в человеке» он превратился в глубоко религиозного человека, единственным идеалом которого на всю последующую жизнь стал Христос. Мысль о великом значении для человека веры в Бога и бессмертие души Фёдор Михайлович высказывает и развивает во многих своих сочинениях и выступлениях, и она, бесспорно, заключает в себе основной стержень его жизни и творчества, источник его целожизненного, прошедшего в великих интеллектуальных и нравственных борениях богоискательства.
Геральдическая реформа
В России, как и во многих странах Европы, государственные гербовые эмблемы появились ещё в эпоху средневековья. В 1497 году двуглавый орёл в качестве государственной эмблемы впервые появился на печати Ивана III, причём совместно с изображением святого Георгия Победоносца. Но если на печати Ивана III обе эмблемы выступали как бы на равных, занимая каждая свою сторону, то уже со следующего века двуглавый орёл становится главной эмблемой российского герба. По мере укрепления царской власти к орлу и всаднику Георгию Победоносцу добавлялись новые атрибуты. В XVII веке в лапах орёл уже держал скипетр и державу – регалии королевской, императорской власти, общепринятые во всех монархических государствах. Потом герб России видоизменялся при других царях. Это происходило при Иване IV Васильевиче Грозном, Михаиле Фёдоровиче, Петре I, Павле I, Александре I и Николае I.
Поэтому вступив на престол, Александр II решил покончить с монаршими экспериментами в области государственной геральдики. И в 1856—1857 годах он провёл серьёзную геральдическую реформу. Специально для работы над государственными гербами в Департаменте герольдии Сената ещё при Николае I создали Гербовое отделение. Его руководитель барон Бернгард Кёне (Борис Васильевич Кёне) предложил новому монарху целую систему российских государственных гербов, ориентируясь в их художественном воплощении на общепризнанные в европейской монархической геральдике нормы и правила, а также некоторые нереализованные «наработки» императора Павла I. В результате работы гербового отделения были созданы: Большой, Средний и Малый государственные гербы, соответствующие им печати, гербы всех членов императорского дома и родовой герб Романовых.
Большой государственный герб Российской империи был введён 11 апреля 1857 года по указу Александра II. Идея герба, изложенная в давно забытом манифесте 1800 года императора Павла I, была реализована: большой герб Российской империи стал отражать в себе символ единства и могущества России. В нём присутствовала древняя традиция изображать вокруг двуглавого орла гербы территорий, входящих в состав русского государства. Это сходно с идеей объединений русских княжеств вокруг Москвы.
Итак, Большой Государственный Герб Российской империи (окончательно доработанный в 1882—1883 годах) представлял собой следующее: В золотом щите чёрный двоеглавый (двуглавый) орёл, коронованный двумя императорскими коронами, над которыми такая же, но в большом виде, корона, с двумя развевающимися концами ленты Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Государственный орёл держит золотые скипетр и державу. На груди орла герб московский: в червлёном с золотыми краями щите Святой великомученик и победоносец Георгий, в серебряном вооружении и лазуревой приволоке (мантии), на серебряном, покрытом багряною тканью с золотою бахромою, коне, поражающий золотого, с зелёными крыльями, дракона золотым, с восьмиконечным крестом наверху, копьём. Главный щит (с гербом Государственным) увенчан шлемом Святого Великого Князя Александра Невского. Намёт чёрный с золотом. Вокруг щита цепь ордена Святого Апостола Андрея Первозванного.

Большой Государственный Герб Российской империи
По сторонам щита расположены изображения святых щитодержателей: Архистратига Михаила и Архангела Гавриила. Сень золотая, коронованная императорскою короною, усеянная российскими орлами и подложенная горностаем. На ней червлёная надпись: «Съ Нами Богъ!» Над сенью позникающая государственная хоругвь, с осьмиконечным на древке крестом. Полотно государственной хоругви золотое; на ней изображение среднего государственного герба, но без окружающих девяти щитов.
Слева и справа от государственной хоругви, на одной горизонтальной линии с ней расположены шесть щитов с соединенными гербами княжеств и волостей. Девять щитов, увенчанных коронами с гербами Великих княжеств и царств и гербом Его Императорского Величества, составляют продолжение и большую часть того круга, который начали соединенные гербы княжеств и волостей. Гербы таковы (против часовой стрелки): Герб Царства Казанского, герб Царства Польского царств, герб Царства Херсониса-Таврического, Соединённые гербы великих княжеств: Киевского, Владимирского и Новгородского, в щите, разделённом вилообразно на три части.
Внизу главного щита – Родовой Его Императорского Величества герб. Подробное описание: Щит, рассечённый на две части. В левой половине щита – герб рода Романовых: в серебряном поле червлёный гриф; держащий золотые меч и тарч (круглый шит), увенчанный малым орлом; на чёрной кайме восемь оторванных львиных голов, четыре золотые и четыре серебряные. В правой половине – герб Шлезвиг-Голштинский: щит четверочастный с особою внизу оконечностью и малым в середине щитом. В первой червлёной части – герб норвежский: золотой коронованный лев с серебряною алебардою; во второй части – герб шлезвигский: два лазуровые леопардные льва; в третьей червлёной части – герб голштинский: пересечённый малый щит, серебряный и червлёный; вокруг оного серебряный, разрезанный на три части, лист крапивы и три серебряные гвоздя с концами к углам щита; в четвёртой части – герб стормарнский: серебряный лебедь с чёрными лапами и золотою на шее короною; в червлёной оконечности – герб дитмарсенский: золотой с поднятым мечом всадник на серебряном коне, покрытом чёрной тканью, средний малый щит также рассечённый: в левой половине герб ольденбургский – на золотом поле два червлёные пояса; в правой – герб дельменгорстский – в лазуревом поле золотой, с острым внизу концом крест. Этот малый щит увенчан велико-герцогскою короною, а весь щит – королевскою.

Родовой герб Гольштейн-Готторп-Романовых
Далее за Родовым гербом – герб Великого княжества Финляндского, герб Царства Грузинского, герб Царства Сибирского и герб Царства Астраханского.
Над сенью главного щита помещались шесть щитов:
– Княжества и области Великороссийские (гербы: Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Нижегородский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский).
– Княжества и области Юго-Западные (гербы: Волынский, Подольский, Черниговский).