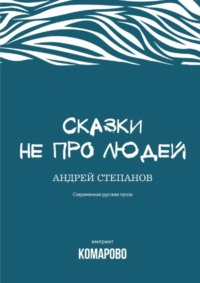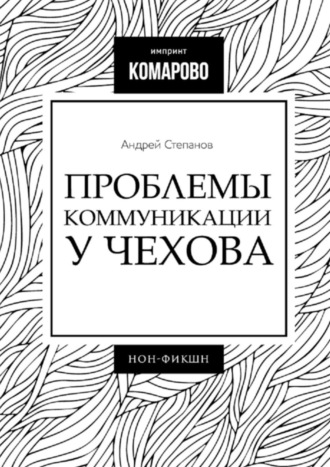
Полная версия
Проблемы коммуникации у Чехова
«Завещание старого, 1883 года» (2, 300—301), «Контракт 1884 года с человечеством» (2, 306).
187
«Тысяча одна страсть или Страшная ночь» (1, 35—38).
188
«Летающие острова» (1, 208—214).
189
«Тайны ста сорока четырех катастроф или Русский Рокамболь» (1, 487—492), «Шведская спичка» (2, 201—221).
190
«Репка (перевод с детского)» (2, 64), «Сборник для детей» (2, 280).
191
«Письмо к ученому соседу» (1, 11—16).
192
«Корреспондент» (1; 183, 184, 193—194).
193
Ср.: «Особенно часто Билибин и Чехов в „мелочишках“ прибегают к своеобразной поэтике абсурда. Очевидно, доведение до нелепости какого-либо утверждения или изложение с невинным видом вопиющей бессмыслицы позволяло наиболее наглядно и кратко представить суть изобличаемого явления» ( Чехов плюс…: Предшественники, современники, преемники. М., 2004. С. 82). Катаев В. Б.
194
По классификации В. И. Карасика перед нами «нарушение семантики образов» и «семантики координат» (. Анекдот как предмет лингвистического изучения. С. 150). Карасик В. И
195
Ср. также «Записка» (4, 149).
196
В том же духе писали чеховские коллеги-юмористы. Ср., например, рассказ В. Билибина, в котором юрист пишет роман: «Он совсем потерял голову <…> нашедший имеет право получить третью часть. <…> „О, ты моя! Наконец, ты моя <…> на основании тома X части 1-й законов гражданских“, – говорил юноша в упоении» и т. д. (<> Юридический беллетрист // <Юмористические узоры. СПб., 1898. С. 95). И. Грэк Билибин В. В. И. Грэк Билибин В. В.>
197
Work and Words in «Uncle Vanja // Anton P. Čechov – Philosophische und Religiöse Dimensionen im Leben und im Werk. München, 1997. P. 119. Evdokimova, Svetlana. »
198
Ср. «Любая аграмматичность внутри стихотворения есть знак того, что есть грамматичность где-то еще, то есть того, что аграмматичность принадлежит к другой системе. Это системное отношение привносит в текст значение (significance)» ( Semiotics of Poetry. Bloomington – L., 1978. P. 164—165). Riffaterre M.
199
Денис Григорьев в «Злоумышленнике» не понимает своей роли подследственного на допросе и самого значения допроса; полковник Пискарев в «Дипломате» не может выдержать избранного жанра: сообщить мужу о смерти жены и одновременно утешить его.
200
Героиня «Загадочной натуры» лжет самой себе и собеседнику во время «исповеди».
201
Чинопочитание рушит дружескую беседу в «Толстом и тонком».
202
О способности жанра (в том числе «устного», «риторического») у Чехова «превращаться в другой жанр» писал еще в 1973 г. В. Н. Турбин (см.: К феноменологии литературных и риторических жанров у А. П. Чехова // Проблемы поэтики и истории литературы. Саранск, 1973. С. 204). Однако множество интереснейших наблюдений в этой статье сочетается с редким сумбуром в изложении. Наша задача, прежде всего, – упорядочить огромный материал первичных жанров у Чехова, отсюда построение типологий. Турбин В. Н.
203
Проблема речевых жанров. С. 192. Бахтин М. М.
204
См. разделы 2.2, 2.3 и 2.4.
205
Об этой закономерности у позднего Чехова будет сказано в разделе 6.4.
206
«Кто это не велел? Кто имеет право? Это посягательство на свободу! Я никому не позволю посягать на свою свободу! Я свободный человек!» («Двое в одном»; 2, 10).
207
«Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного!» («Радость»; 2, 12).
208
Очень важным для позднего Чехова приемом оказалась гиперболизация жалобы. См. об этом подробнее в разделе 5.1.
209
Последний случай можно также классифицировать как «понижение ожидания» – часть «несоответствия вывода» (см.: Анекдот как предмет лингвистического изучения. С. 151). Карасик В. И.
210
У позднего Чехова часто наблюдается обратная закономерность: жалоба может парадоксальным образом замещать любой речевой жанр. Ср., например, рассказ «Учитель словесности», где она замещает признание в любви: «– Позвольте… – продолжал Никитин, боясь, чтоб она не ушла. – Мне нужно вам кое-что сказать… Только… здесь неудобно. Я не могу, не в состоянии… Понимаете ли, Годфруа, я не могу… вот и всё…» (8, 321).
211
О принципе омонимии знаков и референциальных иллюзиях у Чехова см. раздел 2.3.
212
См. раздел 2.3.
213
Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996. С. 308. Гаспаров Б. М.
214
Проза Чехова: проблемы интерпретации. М., 1979. С. 132. Катаев В. Б.
215
Мир Чехова: Возникновение и утверждение. С. 300. Чудаков А. П.
216
Русский реализм конца XIX в. Л., 1973. С. 21. Бялый Г. А.
217
Зощенко и Чехов (сопоставительные заметки) // Чеховский сборник. М., 1999. С. 190. Жолковский А. К.
218
Молодой человек в дряхлеющем мире: (Чехов: «Ионыч») // Мира автора и структура текста. Tenafly, 1986. С. 22—23. Щеглов Ю. К. Жолковский А. К., Щеглов Ю. К.
219
Чехов: от рассказов и повестей к драматургии // Литература и театр. М., 1969. С. 49. Берковский Н. Я. Берковский Н. Я.
220
О ролевом поведении у Чехова см. раздел 4.3.
221
Ср., например, замечание Л. М. Лотман о закономерности чеховского водевиля: «„серьезные“, торжественные ситуации – свадьба, юбилей, взимание долгов, лекция, брачное предложение – перетекают в нечто противоположное» ( Драматургия А. П. Чехова. Идеи и формы // Русская литература 1870—1890-х годов. Проблемы литературного процесса. Свердловск, 1985. С. 111). Лотман Л. М.
222
См.: . Мир Чехова: Возникновение и утверждение. С. 69—75. Чудаков А. П
223
Например, проповедь в рассказе «Без заглавия»; письмо в рассказе «На святках»; о последнем см. раздел 6.3.
224
«Брюзжание» у Михаила Федоровича в «Скучной истории», обличение у Павла Ивановича в «Гусеве» и т. п.
225
Ср. «Скучную историю», где старый ученый оказывается дезориентирован сам и не может никого ничему научить.
226
Петр Игнатьевич в «Скучной истории», Панауров в повести «Три года» и др. См. об этом подробнее в разделе 2.1.
227
См. раздел 3.3.
228
См. разделы 4.2 и 4.4.
229
Ср. как самый характерный пример рассказ «Именины». Подробнее см. раздел 6.1.
230
Этому посвящен раздел 5.1.
231
См. раздел 5.3.
232
Эпос и роман (к методологии исследования романа) // Вопросы литературы и эстетики. М., 1979. С. 471. См. также: () Формальный метод в литературоведении. М., 1993. С. 175—185. Бахтин М. М. Бахтин М. М. Медведев П. Н. Бахтин М. М.
233
Ср., например, уже упомянутую фундаментальную речевую дихотомию «фатика vs. информатика», за которой стоит дихотомия категорий «общение vs. сообщение», исследованные в работах Т. Г. Винокур.
234
В данной работе говоря «Чехов» мы почти всегда имеем в виду «чеховский текст» – имплицитный автор, не обязательно совпадающий с биографическим и его прямыми суждениями. Исключение составляют цитаты из писем и других прямых высказываний А. П. Чехова (и в этом случае мы добавляем инициалы). Тем самым мы стремимся избежать постоянной литературоведческой аберрации: попыток передать своими словами «что хотел сказать автор своими художественными произведениями» (Зощенко). Когда мы пишем «Чехов говорит о…», мы имеем в виду: «С нашей точки зрения, основанной на таких-то данных, чеховский текст говорит о…».
235
Так, наличие нехарактеристичных, дисфункциональных деталей у Чехова – доказанный А. П. Чудаковым факт, но нельзя ответить на вопрос «как сделан» любой текст, опираясь только на эти детали.
236
Модель речевого жанра // Жанры речи. Вып. 1. Саратов, 1997. С. 91. Шмелева Т. В.
237
Там же.
238
См.: Речевые жанры научного эмпирического текста // Текст: стереотип и творчество. Пермь, 1998. С. 50—74; Речевые жанры научного эмпирического текста (статья вторая) // Стереотипность и творчество в тексте. Пермь, 1999. С. 40—65. Салимовский В. А. он же.
239
Некоторые аспекты изучения речевых жанров в нехудожественных текстах // Стереотипность и творчество в тексте. Пермь, 1999. С. 28. Курсив автора. Кожина М. Н.
240
См.: Реализм: Диахронический подход // Russian Literature. VIII—I. January 1980. С. 6. Дёринг И. Р., Смирнов И. П.
241
Там же. С. 12.
242
Точно так же воспринимает науку как этическое откровение герой рассказа «На пути» Лихарев: « <Я> отдался наукам беззаветно, страстно, как любимой женщине. Я был их рабом и, кроме них, не хотел знать никакого другого солнца. День и ночь, не разгибая спины, я зубрил, разорялся на книги, плакал, когда на моих глазах люди эксплоатировали науку ради личных целей» (5, 469—470).
243
Кроме того, Панауров оставляет и свою вторую семью, где у него есть еще двое детей (9, 79).
244
Это явление – частный случай мотива «непонимание слов», который охватывает такие разные явления как непонимание крестьянами церковнослявянской и официальной лексики («Мужики», «По делам службы»), непонимание разными – образованными и необразованными – людьми терминологической и специальной лексики («Драма на охоте», «Попрыгунья», «Свадьба с генералом» и др.).
245
Здесь нарративная последовательность становится иконическим знаком происходящего по признаку «запутанности». Знак оказывается мотивированным – но только в том случае, если это знак абсурда, то есть отсутствия знаковости.
246
В позднем чеховском творчестве на абсурде и неуместности информации строятся целые рассказы: «Душечка», «Случай из практики», «На святках». О последнем см. раздел 6.3.
247
То, что эти принципы были хорошо усвоены Чеховым, видно, например, по его выпискам из Ренана – материалам для научной диссертации самого Чехова: «Предания, отчасти и ошибочные, могут заключать в себе известную долю правды, которою пренебрегать не должна история. … Из того, что мы имеем несколько изображений одного и того же факта и что легковерие примешало ко всем им обстоятельства баснословные, еще не следует заключать, что самый факт ложен» (16, 354).
248
Проблема содержания, материала и формы в художественном творчестве // Проблемы литературы и эстетики. М., 1975. С. 25. Бахтин М. М. Бахтин М. М.
249
Точно так же «случайностные», по А. П. Чудакову, внеструктурные детали не заполоняют весь чеховский текст, а остаются в меньшинстве, создавая, тем не менее, эффект неотобранности.
250
См.: Проза Чехова: проблемы интерпретации. М., 1979, passim. Катаев В. Б.
251
Сочинения: В. 7 т. СПб., 1897. Т. 1. С. 15, цит. по: Чехов и позитивизм. М., 1998. С. 73. Спенсер Г. Долженков П. Н.
252
Заметим, что молитвы у Чехова всегда привычны, автоматизированы, хотя они далеко не всегда полностью обессмысливаются: по привычке, но в то же время осознанно молится о. Христофор в «Степи»: « <Н> а каждый день у меня положение» (7, 28); архиерей в одноименном рассказе: «Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери» (10, 188).
253
Впрочем, в исследованиях ритуальных речевых жанров присутствует мысль о незначимости содержания речи: достаточно формального означивания высказывания. Ср.: «Закрытость ритуального текста как характерная черта ритуала прослеживается в том, что важен целостный текст как знак, а не его развернутое дискурсивное содержание» ( Ритуальный дискурс // Жанры речи. Вып. 3.Саратов, 2002. С. 168). Карасик В. И.
254
Ср., например: «Исходным для культурологического понятия текста является именно тот момент, когда сам факт лингвистической выраженности перестает восприниматься как достаточный для того чтобы высказывание превратилось в текст. Вследствие этого вся масса циркулирующих в коллективе языковых сообщений воспринимается как не-тексты, на фоне которых выделяется группа текстов, обнаруживающих признаки некоторой дополнительной, значимой в данной системе культуры, выраженности» ( Текст и функция // Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1990. С. 133). Лотман Ю. М., Пятигорский А. М. Лотман Ю. М.
255
В этих примерах перед нами ориентация при помощи кода профессиональных понятий. Подробнее об этом см в гл. 3.
256
Так, в рассказе «Гость» отставной полковник «сидел и хриплым, гнусавым голосом рассказывал, как в 1842 г. в городе Кременчуге его бешеная собака укусила. Рассказал и опять начал снова» (4, 93). В рассказе «Дорогие уроки» герой, влюбленный в свою учительницу французского языка, ежедневно слушает ее дословные переводы «с листа» («Он ходил по улице и встречал господина своего знакомого <…>»; 6, 392), не усваивая ни одного французского слова, и т. д.
257
О чеховской риторике см. в разделе 3.1.
258
В аналогичной (дис) функции выступают декламации стихов (Некрасова – от <Безотцовщины> до рассказа «У знакомых»; «Грешницы» А. К. Толстого и др.).
259
См., например, список цитат из Пушкина в работе: Онегинский «миф» в прозе Чехова // Чеховиана: Чехов и Пушкин. М., 1998. С. 150—152. Кошелев В. А.
260
«<К> Косоротову только что вернулась его жена, особа сварливая и легкомысленная, которую звали Анной» (9, 162).
261
«Под Красным взяли двадцать шесть тысяч пленных, сотни пушек, какую-то палку, которую называли маршальским жезлом» ( Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 12. М., 1940. С. 182). Толстой Л. Н.
262
Указ. изд. Т. 32. М., 1933. С. 138. Толстой Л. Н.
263
Ср. трех богородиц в приведенной выше молитве бабки в «Мужиках».
264
В другом случае иконы сменяются картинами, «соблюдая самую строгую и осторожную последовательность в переходе от божественного к светскому» («На пути»; 9, 462), однако сам принцип рядоположенности сохраняется и здесь: «последовательность» не предполагает строгой границы.
265
То есть человека, занимающего в социуме позицию, промежуточную между привилегировнными и непривилегированными («Он ни мужик, ни барин, ни рыба, ни мясо» («Неприятность»; 7, 155)) и не имеющего перспектив роста. Мечта о социальном продвижении превращается в манию, как в «Записках сумасшедшего» Гоголя.
266
Заметим, что здесь мы сталкиваемся с еще одним случаям обессмысливания иконы – на этот раз через прямое остранение.
267
А в интертекстуальной перспективе – как полемическую отсылку к «Станционному смотрителю» Пушкина (учитывая важность темы «блудного сына» для обоих текстов).
268
Такую же заторможенность, машинальную походку, навязчивые неосознаваемые жесты Чехов придает и доктору Кирилову в первые моменты после потрясения («Враги»; 6, 32).
269
Жесты Лаевского передаются и Надежде Федоровне: «руки держала как гимназистка» (7, 453).
270
Комментаторы, впрочем, отмечают, что такой картины не существует (П 4, 461).
271
Ср.: «Чехова же парадоксально тянет во всей этой дивной хрупкой гармонии к единственному месту, где в живописи зияет провал, черная дыра. Его особенно привлекает замазанный черной краской фрагмент изображения этих нескольких тысяч человек, своеобразное memento mori» ( Поэтика раздражения. М., 1994. С. 205). Толстая Е.
272
Н. Е. Разумова замечает, что иронический отказ от описания картины «адекватен утверждению, что „равнодушие“ противоестественно для человека» ( Творчество А. П. Чехова в аспекте пространства. Томск, 2001. С. 92). Разумова Н. Е.
273
При этом Чехов указывает на литературный, а не жизненный источник такого восприятия: молодой следователь Дюковский видит мир «глазами следователя», потому что начитался детективов Габорио (2, 216).
274
Ср., например, в «Шведской спичке»: подозреваемый бледнеет и шатается от мысли, что его, невиновного, засудят – а следователи решают, что он потрясен тем, что его уличили (2, 214—215); становиха заливается алой краской, думая, что ее уличили в измене мужу – а следователи принимают это за знак признания в убийстве (2, 117) и мн. др.
275
Эта тема намечена еще раньше в рассказах «Теща-адвокат», «Розовый чулок», «О женщины, женщины», «Любовь».
276
См.: Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л., 1987. С. 113. Сухих И. Н.
277
Ср.: «В лице своего героя он представил душевнобольного, подверженного такого рода психической болезни, какая может длиться десятки лет, не обнаруживаясь никакими явными и резкими симптомами» ( Есть ли у г-на Чехова идеалы? // А. П. Чехов: pro et contra. СПб., 2002. С. 147). Скабичевский А. М.
278
Ср.: «Рагин – сумасшедший, находящийся на свободе только потому, что не подошел случай, так сказать, по недоразумению» ( Литературные заметки // Там же. С. 222). Волынский А. Л.
279
Ср.: «Наиболее яркой фигурой рассказа является доктор Рагин, этот тип наследственного дегенерата, отделенного лишь одной ступенью от его пациентов» ( Чехов как изобразитель больной души // Там же. С. 608). Никитин М. П.
280
Слепой пиетет перед образованностью и благородством университетских людей – одна из постоянных тем Чехова. Об этом прямо говорит фон Корен в «Дуэли»: «Вы знаете, до какой степени масса, особенно ее средний слой, верит в интеллигентность, в университетскую образованность, в благородство манер и литературность языка» (7, 373).
281
Чехов и позитивизм. М., 1998. С. 45. Долженков П. Н.
282
Наиболее специфическая «чеховская» черта пьесы, на наш взгляд, состоит в том, что читатель / зритель никак не может оценить научной ценности трудов профессора Серебрякова. Эта неопределенность принципиальна, и потому не работают ни обвинения в его адрес, основанные на «взгляде Войницкого», ни попытки «апологии Серебрякова».
283
«Я хочу спросить: что будет с садом, когда я помру? В том виде, в каком ты видишь его теперь, он без меня не продержится и одного месяца», – говорит садовод Песоцкий («Черный монах»; 8, 236).
284
Этюды о творчестве А. П. Чехова // А. П. Чехов: pro et contra. СПб., 2002. С. 494. Овсянико-Куликовский Д. Н.
285
Художественный символ в драматургии А. П. Чехова. Иркутск, 1989. С. 185—186. Собенников А. С.
286
Прямой поправке препятствует субъектно-объектная организация повествования, при которой повествователь передает «своими словами» точку зрения героя.
287
Подробнее о возможности и границах противоположных интерпретаций см. раздел 6.4.
288
См.: Проза Чехова: проблемы интерпретации. М., 1979. С. 10—30. Катаев В. Б.
289
Сюжет чеховского рассказа. Рига, 1976. С. 83. Цилевич Л. М.
290
См., например: Проблема речевых жанров // Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5 М., 1996. С. 169. Бахтин М. М. Бахтин М. М.
291
В модели используются некоторые положения из трактата о споре известного логика С. И. Поварнина (см.: Спор. О теории и практике спора. М., 2002, passim). Поварнин С. И.
292
Разумеется, возможен и спор между тремя и более участниками. Мы говорим только о «сборных» логических актантах спора – сторонниках и противниках тезиса.
293
Как мы уже писали в первой главе (раздел 1.1), в критике бахтинской концепции указывалось на необходимость пересмотра тезиса о речевом жанре как типе высказываний (и, соответственно, о смене речевых субъектов как их границе) по отношению к диалогическим жанрам (см.: Нерешенные вопросы теории речевых жанров // Вопросы языкознания. 1997. №5. С. 102—104). Федосюк М. Ю.
294
См., например: «Стиль» ссоры // Русская речь. 1993. №5. С. 14—19. Федосюк М. Ю.
295
См.: Проза Чехова: проблемы интерпретации. М., 1979. С. 34. Катаев В. Б.