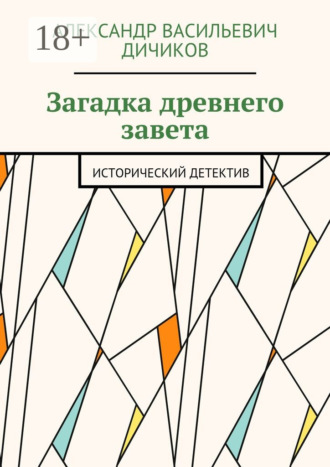
Полная версия
Загадка древнего завета. Исторический детектив
Правительственное заявление поражало своей ясной прямотой и ясной обличительной логикой.
«Вы придумываете речи для обличения?
На ветер пускаете слова ваши»
(ИОВ 6—26)
Через несколько недель канадский премьер господин Кинг конфиденциально передал Вячеславу Молотову, «как своему другу», специальное послание, в котором выражал своё большое беспокойство в связи с излишне горячим тоном советского правительственного заявления. Премьер просил дорогого Вячеслава передать товарищу генералиссимусу, что мероприятия, принятые против советской разведки, вовсе не направлены против самого Советского Союза и тем более, упаси Боже, лично против товарища Сталина, как это пытается утверждать враждебная отдельная печать. Эти мероприятия должны были быть приняты по внутренним соображениям канадских спецслужб. Канадский премьер также при этом выразил свою личную уверенность, что выявленная разведывательная деятельность проводилась, конечно, без ведома советского посла Зарубина.
Предательство советского шифровальщика, наследника Мазепы, трагически сказалось на судьбе руководителя разведки в Канаде Николая Заботина. Грамотный специалист, профессиональный разведчик, он получил длительный срок за чужое предательство.
«Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть»
(1-е КОРИНФЯНАМ 10—12)
17
Неприятный провал в Канаде ещё более осложнил непростое положение Молотова. В конце октября находящийся на лечении Сталин встретился с американским послом Гарриманом. Эта встреча приглушила слухи о тяжёлой болезни генсека, так как последний смотрелся не так и плохо. Гарриман официально заявил, что Сталин находится в неплохой спортивной форме. Но когда 7 ноября Виссарионович не появился на трибуне мавзолея в столице, эти слухи опять вспыхнули с новой силой.
Увлекательная шпионская история в Канаде побудила генсека ускорить вопрос с концетрацией Лаврентия Берии полностью на атомном проекте. Для этого было решено освободить Лаврентия от поста наркома внутренних войск. Берию это не очень устраивало, так как он наряду с Молотовым входил в круг первоочередных наследников вождя.
А на Молотова уже посыпались новые шишки. В телефонном разговоре он обещал товарищу Сталину восстановить строгую цензуру на иностранные издания. В то же время в одной из центральных американских газет вновь появилась публикация с обсуждением вопроса о том, кто же это заменит безнадёжно больного Сталина. Раздражённый Сталин заявил, что Молотов почему-то считает в порядке вещей фигурирование таких пасквилей. Маленков и Берия уже предвкушали, что скоро их четвёрка превратится в тройку. Но они рано так предвкушали. Сталин уже имел большие претензии и к ним самим. Маленков был обвинён в халатности в связи с делом авиаторов. А Берия потерял управление органами безопасности, где общее руководство принял на себя сталинский ставленник Абакумов.
Практически по похожему сценарию завязалась яростная борьба за власть в той же самой Москве в 15-ом веке после Дмитрия Донского. В своём царском завещании Донской указал, что в случае смерти его сына Василия высокий пост должен перейти к следующему его сыну Юрию. На момент составления этого завещания старший сын Василий ещё не был женат и не имел детей. И поэтому Донской писал о своих детях, а не о внуках.
Таким образом получилось очевидное противоречие между двумя документами. Впоследствии Юрий буквально трактовал завещание своего родного отца.
В свою очередь Василий передал наследие старшему сыну. После смерти Василия для принесения присяги новому «генсеку» в Москву был приглашён Юрий. Но Юрий не был бы настоящим русским, если бы не начал многолетнюю тяжбу за престол в Москве. Он демонстративно отказался ехать присягать в столицу новой власти, а отправился в город Галич собирать своих верных сторонников. Перчатка была брошена.
«Можно ли сказать царю:
«ты-нечестивец», и князьям:
«вы-беззаконники?»
(ИОВ 34—18)
Трудно сказать, кто из братьев был тут большим нечестивцем, как и через пятьсот лет в княжеской команде Сталина в той же Москве и в тех же палатах. Василий в столице первым собрал большое народное ополчение и двинулся против Юрия в сторону Костромы. Это был Василий-младший. Юрий не захотел начинать «мясорубку» из-за личных царских амбиций и попросту убежал в сторону. В погоню за ним был направлен его же младший брат Константин, но Юрий умел быстро убегать.
Через некоторое время в город-герой Галич был направлен важный митрополит, чтобы как-то договориться с Юрием о мире и сотрудничестве. Юрий ответил, что утверждение московской власти должно произойти именно по повелению ордынского хана. А если такое повеление следует со стороны, то тогда и сам Василий Васильевич может вдруг оказаться мятежником и самозванцем.
Шли месяцы и годы, а вопрос о главной власти в стране оставался открытым. Пришлось обоим претендентам собрать богатые дары и поспешить в Орду к самим ханам. Провести всенародные выборы тогда никому не приходило в голову – электорат был совсем не тот.
Один из влиятельных ханов стал покровительствовать Василию. Умело «лоббировал» в ханских кругах независимой и гордой Орды интересы Василия его помощник Всеволожский. Против бедного Юрия играло то обстоятельство, что он состоял в побратимской связи с поляками, а в то время как раз у ханской знати с поляками были довольно сложные отношения.
Когда началось судебное разбирательство спора по существу иска, с длинной избирательной речью перед ханской общественностью выступил всё тот же господин Всеволожский. Он оказался дипломатом не хуже Молотова и Микояна. Он заявил группе ханов, что Юрий хочет царствовать по грамоте своего отца, а Василий добивается ханского ярлыка. Но оратор не сказал при этом, что таким образом Юрий хочет продолжить дело Дмитрия Донского, а Василий желает стать слугой чужеземцев.
«Разве на множество слов нельзя
дать ответа, и разве человек многоречивый прав?» (ИОВ 11—2)
18
Через год в стольной Москве прошла свадьба Василия младшего. На свадьбу были приглашены два сына Юрия. Сначала всё было хорошо- выпивка, закуска… Но дальше во время празднования княгиня Софья увидела на одном из Юрьевичей драгоценный пояс самого Дмитрия Донского. Она расценила это как посягательство на престолонаследие и прямо на пиру дерзко сорвала этот пояс с молодого человека. Оскорблённые братья немедленно покинули Москву. Затянувшийся конфликт разгорелся с новой силой. Обиженный Юрий собрал войско и подошёл к Москве..
При «царе» Юрии главным «членом политбюро» стал боярин Морозов. Действия Морозова на верхушке кремлёвской власти стали вызывать большие нарекания, и многие известные бояре стали уезжать из столицы в знак протеста. Но более того, Морозова резко не стали любить оба сына самого Юрия. В скором времени они и убили Морозова, а сами дружно бежали подальше от отцовского гнева. Юрий Дмитриевич в условиях очевидного правительственного кризиса делает поразительный ход- он приглашает к себе в команду Василия Васильевича, и заключает с ним дружеское перемирие, а затем сам уезжает в далёкий геройский Галич.
Но два сына Юрия, ликвидировавшие Морозова, решают продолжать борьбу за власть. Они встречаются в нелёгкой битве с полками Василия, и одерживают там победу. Тут уже отец Юрий не хочет оставаться в стороне и неожиданно желает помочь своим сыновьям – в явное нарушение ранее заключённого перемирия. Юрий посылает на битву и свои личные войска.
В наказание за такое вероломство Василий не спеша собрал большую рать и подступил к мятежному городу Галичу. Тогда Юрий призывает своих двоих сыновей объединиться в единый военный блок против Василия. В очередном сражении вновь образованный союз одерживает победу, и в марте 1434 года уже вторично Юрий торжественно въезжает на московский престол.
Юрий не успел построить идеальное общество, за которое воевал против своего племянника. О таком идеальном будущем, когда никто ни с кем не будет вовсе воевать, писал пророк Исаия:
«И перекуют мечи свои на орала,
и копья свои – на серпы,
не поднимет народ на народ меча,
и не будут более учиться воевать»
(ИСАИЯ 2—4)
В этом светлом коммунистическом обществе исчезнут классовые различия и классовая борьба.
«Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком,
и барс будет лежать вместе с козлёнком,
и телёнок и молодой лев,
и вол будут вместе, и малое дитя
будет водить их»
(ИСАИЯ 11—6)
В новозаветные времена эта заманчивая ориентация на очень светлое будущее стала пытаться доминировать в обществе. Она сохранила своё определённое влияние и во времена генсека Сталина. Однако лидер ВКП (б) отчётливо понимал, что далеко не всё, что пропагандируется, на самом деле так уж хорошо. Он на многое имел свою отличную точку зрения. Он исходил из того, что сказал в своей программной речи праведник Иов:
«После слов моих уже не рассуждали,
речь моя капала на них»
(ИОВ 29—22)
На исходе девятнадцатого столетия профессор Победоносцев учил всякого глупого, что парламентское правление есть великая ложь. История внимательным людям показывает, что самые разумные преобразования обычно исходили от центральной власти и воли, от меньшинства, вооружённого высокой идеей и глубоким знанием. А с расширением выборного начала всегда происходит принижение государственной мысли.
При парламентском правлении на выборах получается отбор не самых лучших, а только более наглых и нахальных. В любом парламенте нет единства разумной воли, ибо всё здесь прямо зависит от случайности, так как воля парламента определяется большинством.
«Если между вами зависть, споры и
разногласия, то не плотские ли вы,
и не по человеческому ли обычаю поступаете?»
(1-е КОРИНФЯНАМ 3—3)
19
Профессор особенно отметил для наиболее наблюдательных людей, что избирательные дешёвые спектакли наиболее опасны в многонациональных государствах. Разумная единоличная власть успевает вовремя устранить местные порывы уравнением прав и отношений под одной верховной властью. А демократия не в состоянии с этим справиться, и откровенно демагогические порывы национализма служат для неё разъедающим элементом.
О таких вот внешне вроде привлекательных «парламентариях» говорил ещё известный Софар, один из друзей праведника Иова по Книге Писания:
«Но пустой человек мудрствует,
хотя человек рождается подобно
дикому ослёнку»
(ИОВ 11—12)
Таких же самых «диких ослят» видит профессор и в представителях средств массовой информации. Любой болтун из непризнанных гениев в условиях так называемой свободы нравов может, имея средства, основать газету. Так называемый свободный рынок привлекает за деньги любые таланты – и таланты пишут для редактора. Такая газета на свой любой вкус формирует уродливое общественное мнение (о практической пользе «прожекторов перестройки»).
При таких вот парламентах и при подобных средствах массовой информации в понятие прогресса начинают вкладывать неустанное стремление к постоянным преобразованиям. Умный человек не сможет не заметить здесь ловкую подмену понятий.
«Но не у всех такое знание»
(1-е КОРИНФЯНАМ 8—7)
В каждом народе имеется земляная сила инерции. Как судно балластом, ею держится человечество в судьбах своей истории. Эта могучая сила обьективно необходима для благодеяния общества и нации. Разрушать её – значит тем самым лишать общество устойчивости, без которой трудно найти точку опоры для дальнейшего движения.
Следующая подмена понятий связана со смешением понятия преобразования с понятием улучшения. Кто выставляет себя представителем новых начал, поборником каких-то преобразований, тот как бы уже заранее становится носителем нового, прогрессивного. При такой преобразовательной горячке лучшие деятели становятся равнодушными к делу, потому что каждое серьёзное дело требует к себе постоянного внимания и трудов.
«А вы сплетчики лжи,
все вы бесполезные врачи»
(ИОВ 13—4)
С такими «бесполезными врачами» начинал свою яростную борьбу ещё незабвенный Ленин, организатор гражданской войны в России. Против ленинской политики выступила довольно многочисленная «рабочая оппозиция» с её руководителем Шляпниковым. На заре советской власти тысячи участников «рабочей оппозиции» фиксировали, что практика партийных центров и государственных органов сводит к нулю влияние рабочих союзов в государстве, и власть в стране по существу является не властью рабочих и крестьян, а властью партийной бюрократии.
Такие, как Шляпников, рвались показать себя наиболее «искусными». Сильно не соглашались с Лениным не только тысячи участников «рабочей оппозиции», но ещё и «демократические централисты», делавшие упор на приоритет партийной демократии. Их большими идеологами были товарищи Осинский и Сапронов. Главной бедой ленинского правления они считали засилье в партии бюрократического аппарата. Спасение от этих бед «демократические централисты» видели в принципе выборности всех союзных органов и отказе от практики назначенчества.
Чтобы разогнать этих «самых искусных», Владимир Ильич должен был нанести упреждающий удар своим оппонентам на десятом съезде партии в 1921 году. Но для этого нужно было тщательно подготовиться.
«Кто думает, что он знает что-нибудь,
тот ничего ещё не знает»
(1-е КОРИНФЯНАМ 8—2)
При подготовке к десятому партийному съезду РКП (б) Владимир Ильич конспиративно собрал группу из десяти своих самых надёжных сторонников. Он регулярно проводил с этой «платформой десяти» конспиративные совещания для надлежащей организации работы любого съезда или Пленума. В эту нелегальную «десятку» входили, в частности, Орджоникидзе, Молотов, Ярославский. Это был изначально ленинский партийный резерв. Затем живая жизнь внесёт свои коррективы. Перед «десяткой» ставилась конкретная задача- умелый отбор делегатов партийного съезда.
20
Ильич заранее дал подробные указания членам «платформы», как должен проходить съезд партии, и какие должны будут приняты решения. Он заранее разработал свой сценарий.. Он заранее поставил задачу убрать всех недовольных («децистов», «рабочую оппозицию») из руководящих органов партии. В то же время исключительно все члены «платформы десяти», как надёжная «группа поддержки», должны были подняться вверх по партийной лестнице.
«От домостроителей же требуется,
чтобы каждый оказался верным»
(1-е КОРИНФЯНАМ 4—2)
На одном из последних заседаний «платформы десяти» Ленин заранее представил подготовленный им состав будущего Центрального Комитета. Из этого состава Ильич решительно вычеркнул тех, кто слишком независимо вёл себя и слишком много рассуждал о демократии и правах рабочих. Среди них были- Смирнов, Крестинский, Серебряков, Преображенский. Через несколько лет Сталин их всех капитально «подчистит», а из руководящей верхушки их вычеркнул именно Ленин.
Сталин же в те волнующие дни, действуя от имени Ленина, вёл свои закулисные интриги против товарища Троцкого. Виссарионович исходил из того, что доверчивые «децисты» и слишком простодушная «рабочая оппозиция» будут легко раздавлены мастерскими интригами Ленина, а вот если выступит вдруг Троцкий, с ним справиться будет намного труднее. Лев Давыдович сам был большим мастером политической интриги не слабее Ленина. В этом трудном деле они были достойными партнёрами.
«Каждого дело обнаружится,
ибо день покажет»
(1-е КОРИНФЯНАМ 3—13)
Сталин направляет надёжного товарища Анастаса Микояна в Сибирь для предварительного отбора и обработки надёжных делегатов. Сталин предлагает при этом Анастасу поехать тихо, без шума, не привлекая лишнего внимания, как бы по своим семейным делам. Также Сталин заявляет другу, что не имеет такого большого значения то, что Шляпников со своей группой скрытно ведёт групповую борьбу. Главная опасность может исходить именно от Троцкого. Троцкий легко может мастерски усыпить бдительность партии, восстановить свой авторитет, и провести побольше своих сторонников в Центральный Комитет партии.
В этой прямой связи Сталин выразил Микояну личную озабоченность, какие именно делегаты приедут на предстоящий партийный съезд, и много ли среди них окажется троцкистов. В этом отношении сильно беспокоила Сибирь. Там было ещё немало отъявленных троцкистов, и они имели немалое влияние в сибирской партийной среде..
«Я говорю вам как рассудительным,
сами рассудите о том, что говорю»
(1-е КОРИНФЯНАМ 10—15)
Вполне рассудительные члены «платформы десяти», которых сам легендарный Ленин в обмен на свою поддержку вывел на вершину партийной власти, в 1922 году выдвинули Сталина на важный пост генерального секретаря партии -чтобы, значит, освободить «дорогого Ильича» (первого выпуска) от рабочей текучки. А тут вдруг оказалось, что Сталин сам быстро притягивает к себе почти всех членов «платформы десяти». С помощью этой десятки Иосиф стал везде расставлять своих людей. К осени 1922 года уже и Владимир Ильич видит, что его «десятка» плавно переплывает к Сталину..
«И вы возгордились, вместо того, чтобы
лучше плакать, дабы изъят был из
среды вас сделавший такое дело»
(1-е КОРИНФЯНАМ 5—2)
Отношения заболевшего Ленина с товарищем Сталиным на почве партийной ревности начинают немного портиться. С начала болезни Ленина главным приёмом его лечения становится информационная блокада (не трогайте дорогого вождя, пусть поправляет здоровье…) Совсем ещё недавно этот нынешний больной свободно манипулировал жизнью и смертью миллионов. И весь огромный партийный аппарат был послушным орудием его воли.
«Ибо ужасное, чего я ужасался,
то и постигло меня,
и чего я боялся, то
и пришло ко мне»
(ИОВ 3—25)
21
Всякие попытки больного Ильича сопротивляться не давали никаких хороших результатов. Его верная жена и его сестра Мария находятся сами на грани нервного приступа. Они хорошо видят и понимают, что ихний Володя по существу оказался под домашним арестом, и довольно крепким. Надежда Константиновна жалуется мужу на грубый стиль работы товарища Сталина. Она отлично понимает, что эта информация совсем не полезна для больного Ильича, но и молчать уже никак не может. Мария Ильинична публично угрожает обратиться открыто к рабочему классу страны. Секретарши Ленина по поручению последнего тайно бегают с его записками к последнему его союзнику-Льву Троцкому.
Владимир Ильич пытается насколько может избавиться от установленной за ним слежки. Вместе с тем, его тяжёлое состояние как-то вылилось в манию преследования (следствие мозговых болезней).
«Объял меня ужас и трепет,
и потряс все кости мои»
(ИОВ 4—14)
27 января 1923 года Центральный Комитет партии срочно принимает специальный циркуляр, в котором не рекомендуется губернским комитетам партии воспринимать чересчур серьёзно последние статьи Ленина. Документ подписали Сталин, Молотов, Калинин, Куйбышев, а также и… Троцкий.
Ильич ясно видит, как широко его отсутствие в Москве было использовано той же самой «десяткой» для одностороннего подбора людей в прямом противоречии с интересами дела. Верные ученики пошли в этом деле гораздо дальше своего талантливого учителя. Для контроля над закулисной деятельностью секретариата ЦК Ленин разрабатывает срочные меры. Он планирует создание партийного центра из надёжных членов партии, наделённого правами призывать к ответу всех чиновников.
23 января Ильич посылает через свою верную Надежду для последующего напечатания в «Правде» свою статью на тему о проектируемой им реорганизации партийного аппарата. Это была прямая апелляция к партии.
Виссарионович решительно отказал в этом Крупской, указав, что данный важный вопрос должен быть непременно обсуждён в Политбюро. На собравшемся заседании Политбюро все его члены были решительно против и предложенной Лениным реформы и напечатания его работёнки. Для должного утешения больного старика товарищ Куйбышев предложил напечатать особый номер «Правды» со статьёй Ленина- в одном экземпляре. Так «страстно» следовали верные «ленинцы» за своим учителем.
События показывали, что в составе Политбюро явно не было святых. Это была в основном всё та же самая «десятка», которую ранее сформировал сам Ильич для разгрома «децистов». Несчастных «децистов» разгромили, а полезные навыки остались. Следовало искать новых жертв.
И всё же опытные Троцкий и Каменев убедили остальных товарищей, что если статью не напечатать, то Ленин пустит её в ручное обращение, её будут переписывать от руки, затем читать с удвоенным вниманием. Статья появилась в «Правде» 25 января с большими сокращениями.
В начале марта Ленин направляет Сталину письмо с резким заявлением о возможности разрыва между ними всяких отношений. Ленин лично поручает Троцкому опубликовать статью в «Правде» по национальному вопросу, в котором сталинская компания заняла явно шовинистическую позицию Но добиться своего Троцкому не удалось. Неожиданно предательскую роль в этом сыграли Зиновьев и Каменев, оба проголосовавшие вслед за Сталиным против публикации статьи.
«Есть ли во мне помощь для меня,
и есть ли для меня какая опора?»
(ИОВ 6—13)
В последние месяцы жизни Владимир Ильич осознал, что явно потерпел поражение. Надежда Крупская писала: « Ссылки на Ильича были недопустимы, неискренни. Их нельзя было допускать Я думала- да стоит ли ему выздоравливать, когда самые близкие товарищи по работе так относятся к нему, так мало считаются с его мнением, так искажают его».
В своих мемуарах Крупская указала, что роковую роль в резком ухудшении состояния Ленина сыграли материалы, опубликованные в «Правде». Это были резолюции тринадцатой партийной конференции, направленные против критики бюрократизации партии. Прочитав их, Ленин сильно разволновался. Но это заметили не сразу.
Днём 21 января дежурный врач заявил, что Ильич чувствует себя значительно лучше, и к весне полностью поправится. Было также заявлено, что Ильич сможет выступить в мае месяце на намеченном съезде партии. Однако к шести часам вечера больному стало значительно хуже, и вскоре последовала кончина вождя. В Горки срочно выехали Сталин, Зиновьев, Калинин, Томский, Каменев. Занималась алая заря.
22
ЗВЕРСКАЯ ТРАДИЦИЯ
В те дальние годы, когда ещё в той земле не были ни царя, ни президента, жил в земле Ефремовой один товарищ. Он взял себе жену из города Вифлеема. Однажды они вдруг поссорились между собой, и жена ушла от этого товарища к своему отцу в Вифлеем. Прошло четыре месяца. Оставленный муж решил пойти за ней в Вифлеем, чтобы помириться и восстановить семейную жизнь.
Отец молодой женщины с радостью встретил своего зятя, и несколько дней кряду они вместе ели и пили. Через несколько дней примирившиеся супруги и их верный слуга тронулись в обратный путь. Когда они проезжали на навьюченных ослах около города Иевуса, слуга предложил господину заехать в этот город переночевать. Это был город иноплеменников, и господин, немного подумав, предпочёл двигаться к соседнему городу.
«Господин его сказал ему:
нет, не пойдём в город иноплеменников…
но дойдём до Гивы»
(КНИГА СУДЕЙ 19—12)
Г и в а находилась в пяти милях, и была крупным поселением. Один старик из того города радушно пригласил путников переночевать. Однако вдруг развратные люди из этого города окружили дом старика и потребовали выдачи гостей. Хозяин дома стал просить хулиганов не делать зла. Но хулиганы схватили жену этого господина, и ругались над нею всю ночь до утра. К утру она умерла.
Парадокс библейского рассказа заключается в том, что если бы этот господин со своей женой послушал своего слугу, и остался бы ночевать в Иевусе, то избежал бы такого трагического исхода.
Г и в а в то время была городом очень неважной репутации и для последующих поколений оставалась воплощением беззакония, заслуживающим позора.
Даже пророк О с и я упомянул об этом:
«Глубоко упали они, развратились,
как во дни Гивы»
(ОСИЯ 9—9)
Зверскую традицию политического убийства поддержал в славном русском княжестве внук Александра Невского Юрий Данилович. Не только дети и племянники Дмитрия Донского смертельно дрались за престол. Славный Юрий тоже всячески обожал авантюрные мероприятия. Он имел перед собой задачи- расширить территорию своего княжения и вступить в борьбу за великое княжение владимирское. Это был великий учитель романовской династии и большевистских вождей.
Неожиданно закончился партийный княжеский съезд в Переяславле в 1303 году. Князь Андрей привёз с собой татарский ярлык на княжение в Переяславле. Упорный Юрий отказался признать права Андрея, и этот городок пока остался в московском владении.



