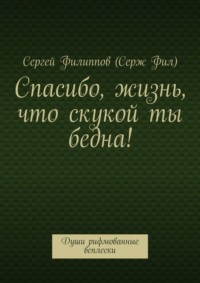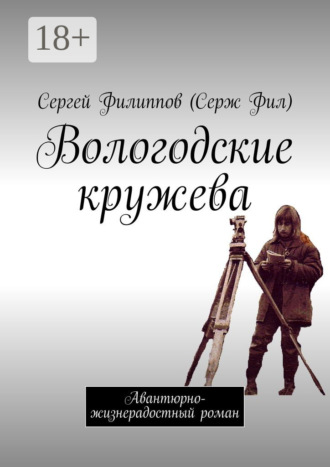
Полная версия
Вологодские кружева. Авантюрно-жизнерадостный роман
И ведь правда, подкинул!
Около магазина, куда мы почему-то направились, хоть денег в кармане было копеек десять, причаливала баржа. Продавщица, естественно, нас уже знавшая, улыбнулась так ослепительно, что я сразу понял: сегодня нам повезёт!
– Ребятки, срочно нужно разгрузить товар. Народ будет только к вечеру, а начать бы надо прямо сейчас.
Я вспомнил, как мы с Андрюхой разгружали в Питере машину с продуктами в гастроном. Тогда это получилось легко, играючи. А тут – баржа. Подумаешь!
– Сколько там товару? – тоном бывалого грузчика поинтересовался я.
Продавщица стрельнула зелёными глазами в накладную, пошевелила губами и просияла:
– Да всего-то двадцать пять тонн!
«Фигня, – подумал я, – это же пять машин, а с одной мы тогда управились за час!»
И мы лихо принялись за дело.
Во-первых всего, нами был вытянут ящик пива, которого в трюме баржи, к нашей великой радости, оказалось в избытке, и отставлен в сторонку, как часть оплаты будущего труда. Выпив по бутылке, мы браво ринулись в трюм.
Когда я принёс в магазин первый мешок, то понял, что ни к вечеру, ни к утру, ни через неделю, ни даже к концу нашей жизни, эту баржу нам с Вовиком вдвоём не разгрузить! Нет, здесь нужно быть помесью тяжелоатлета с акробатом, чтобы, волоча на горбу полцентнера, балансировать на скачущем, как батут, трапе! Причём, этот трап идёт из брюха баржи вверх под углом градусов в тридцать. Но, и пройдя это цирковое кидалово, необходимо карабкаться по тропке на почти отвесный берег, где торчит, как орёл на Эльбрусе, этот магазинчик с улыбчивой продавщицей.
Правда, видя темпы разгрузки нами этой гигантской баржи, улыбка зеленоглазой работодательницы плавно улетучивалась, и выражение её лица стало именно таким, каким вы себе его и представляете!
И вот, на втором часу работы, неся мешок с мукой весом в семьдесят килограммов (а сам я не весил и шестьдесят!) и будучи им нечаянно придавленным при незапланированном падении, я понял: во мне погасла последняя искорка желания физического труда. Духовно я умер! Выкарабкавшись из-под пыльного мешка, и взглянув на Вовочку, сидевшего поодаль на корточках и духовно отдавшего концы ещё раньше меня, я с нарастающей злобой прохрипел:
– Да пошли они все: и эта продавщица, и этот горный магазин, и эта баржа со ржавыми якорями, и «Шевченко» с «Синоптиком», все!!!
– А «Синоптик» -то почему? – обиделся Вовочка.
– По чему, по чему – по воде!..
Баржу мы закончили разгружать в два часа ночи, но было нас не двое, а пятнадцать. Первым к нам присоединился Андрюха, убивший на своей дебильной охоте какую-то маленькую красивую птичку и проливающий по этому поводу тонны слез. Следом за ним притопал Мишка, вырвавший из многотысячетонных рыбных запасов Сухоны трёх тощих, вялых, будто похмельных ершей. А часов в шесть пришла машина с целой футбольной командой, и работа стала продвигаться очень видимо. Видимо и потому, что трюм баржи быстро пустел, и потому, что трап, приподнимаясь, скоро оказался в горизонтальном положении.
Допив последнее пиво в безжалостном мраке ночи (этот вкусный, но зверски разжигающий аппетит напиток, фактически и явился оплатой нашего каторжного труда!), мы пошлёпали на свой чердак, чтобы улечься спать голодными, злыми, в общем, полностью изнасилованными этой прелестной баржей!
– Завтра опять пойду на охоту! – упрямо заявил Андрюха, когда мы уже укладывались спать.
– Нет! – отрезал я. – Ни охоты, ни рыбалки, ни разгрузки больше не будет! У меня есть другой вариант. Завтра утром Вовочка, сделав свою рожу понаивней и пожалостливей, прошвырнётся по деревне и достанет еды!
– Но я никогда…
– Только не строй из себя Кису Воробьянинова, предводитель дворянства из тебя не выйдет – не родились ещё такие олухи, которых бы ты смог предводить!
– Вова, – серьёзно сказал Мишка, но я, даже не видя его лица в темноте, понял, что он улыбается, – ну не нам же, с нашими наглыми бандитскими рожами клянчить хлебушка! Ты ведь парень умный!
– И ещё, – громко похлопал Вовочку по плечу Андрюха, – ты забыл одну деталь: это же ты, а не мы – самый ценный член бригады!
– Это точно, – промямлил вполголоса Вовик, – член я, член!
XXXII
В восемь утра нас растолкал Петрович и мало того, что нещадно разметал сладкие вкусные сны, но и ещё разбил вдребезги все наши планы по безболезненному изъятию у населения излишков провианта.
Оказалось, что Литомин, долго и упорно дожидавшийся нашего выхода в эфир, сумел-таки связаться с пристанью Устья и передал телефонограмму, из которой следовало, что мы должны срочно, бросив все работы к чертам собачьим, прибыть в Сокол, откуда нас пошлют неизвестно куда. Вовочку же, как успешно и героически отбывшего практику, нужно посадить на любое плавсредство, чтобы он попал в Вологду, а оттуда в Череповец, где и получит то, что заслужил, в смысле, заработал.
– Давайте быстрее, – торопил нас Петрович, – сейчас толкач пойдёт на Вологду, на нём пацана и отправим.
Толкачами здесь называли огромные буксиры, у которых на носу имелось приспособление, с помощью коего они толкали баржу, упёршись ей в задницу (простите, в корму!).
Вовочка перелез с пристани через борт толкача и повернулся к нам. Лицо его было грустно и вытянуто, а влажные солёные линзы, нависшие на глазах, делали их большими и живыми, и не было в них теперь даже намёка на наивность. Была в этих голубых объективах печаль, но печаль пополам с радостью.
– Вова, не забывай, что ты всегда будешь нашим самым ценным членом бригады! – крикнул я, когда толкач отвалил от пристани.
Вовочка резко провёл рукой по глазам и замахал ею нам:
– Не забуду-у-у-у!
А через час и мы уже загружались на баржу, ту самую, которую накануне разгружали до упадка в организмах всего, что могло упасть.
Когда за поворотом показалась старая баржа, выброшенная на берег, я заметил на ней человеческую фигурку и почему-то сразу понял, что это Катерина.
– Прощай, Катенька! – крикнул я ей, когда баржи оказались друг напротив друга.
Она же, ничего не отвечая, пристально смотрела на меня, и я увидел, что передо мной не тринадцатилетняя девчонка, а практически взрослая молодая женщина! В её взгляде было что-то такое, что заставило меня замолчать и согнать с лица весёлую улыбку.
– До свидания, Серёжа! До свидания через пять лет! – не крикнула, а спокойно сказала она и, круто повернувшись, исчезла в чреве баржи…
Стальная палуба судна была тёплой от солнышка, хотя и сентябрьского, но ещё по-летнему ласкового. Я валялся, устроив из куска брезента удобное ложе, и барахтался в дрёме, потому что заснуть, как ни старался, не мог. И тому виною была, конечно, Катенька, и её последние слова. Они в меня воткнулись, как ржавый рыболовный крючок, и бередили потрёпанную, зияющую прорехами душу. Но чем больше я размышлял, тем больше путался, и, устав в конце концов, решил, что все те слова мне только послышались – ведь и расстояние было велико, и машина теплохода работала слишком шумно. «Нет, это скорее всего глюки!» – решил я и стал погружаться в сон, успокоенный и удовлетворённый.
Но, вдруг, что-то стало рассеивать этот мой сладкий и долгожданный сон. Это что-то было голосом нашего шкипера:
– … твою мать! Васька, … …уев! А ну, …, прыгай за борт на …, … штопаный!
Резко вскочив на ноги, я увидел, что баржа наша находится совсем рядом с берегом. Потом я увидел шкипера Толика, стоявшего у борта с кувалдой и ломом. А еще я понял, что судно наше стоит, вернее, дрейфует по течению в обратном направлении, а машина молчит, как вор в законе на допросе у следака.
Тем временем Толик бросил лом и кувалду в сторону берега, и они, не долетев метров пяти до суши, благополучно затонули.
– Васька, е… тебя, колотить! Швартуйся … – речь Толяна была сочной и красочной, но, увы, приводить её в подлиннике нельзя, а в переводе это будет скучно и бледно!
Васька, невысокий тощий парнишка лет восемнадцати, прыгнул в воду и, отыскав кувалду и лом, принялся первым колотить по второму. Потом намотал конец троса, брошенный Толиком, на этот своеобразный кнехт.
Из машинного отделения вылез Сашка-моторист, грязный и уставший, и махнул рукой от плеча к колену:
– Приплыли. Откукарекался дизелёк!
Ближе к вечеру мимо нас со скоростью перепившей черепахи прошелестел лопастями «Синоптик», оглашая местность трубным гласом необычайно низкой частоты. За собою он тащил плот метров двадцати в ширину, но зато длиной не меньше полукилометра. Мы часто видели такие плоты здесь, на Сухоне, и всегда испытывали зудящее желание покататься на них. Наконец-то этот долгожданный миг настал!
При помощи лодки, оказавшейся на барже, и Васьки наша поредевшая бригада благополучно перебралась на плот, но поближе к его хвосту, дабы быть подальше от глаз команды «Синоптика».
Мы лежали поверх всех наших шмуток на влажных сучковатых бревнах и, стуча зубами от холода и ёкая пустыми желудочными мешками, наблюдали на чёрном экране небосвода, как Персей мчится на помощь Андромеде, как мерзкий Дракон подкрадывается к добрым Медведицам, как Орёл и Гриф кружат над Лебедем. Ярко горели углы осеннего треугольника – звёзды Альтаир, Денеб и Вега – как огни салюта по ушедшему весёлому лету.
– Интересно, – подал голос Андрюха, – что нам приготовил мой героический тёзка?
– Что бы он ни приготовил, это будет не подарок, – проскрипел Мишка.
– Это точно, – понял я мысль Мишки, – и Таня свалила, и Вовочка. Теперь Литомину, да, в общем-то, и нам тоже, выпендриваться не перед кем!
– Аминь! – констатировал Андрюха, а потом вдруг свирепо заорал, как игуанодон, у которого украли последнее яйцо из последней в его жизни кладки. – А-а-а-а-а-а! Да когда же кончится эта река, и мы приплывём в место, где есть еда, тепло и гостеприимные женские объятия? Ну когда?
И бодрое эхо, пометавшись недолго между берегов, вернулось, обкатав последние слова:
– Никогда! Никогда! Никогда!..
XXXIII
Давным-давно, в годы, настолько далёкие, что их не видно даже с пятой планеты тройной звезды созвездия Кентавра, повстречались семь мужиков из семи городов посреди тайги. Посидели, попили чайку из брусничника, да и порешили построить деревню. И построили. И нарекли её Семигородняя. И стали жить-поживать да детей наживать, поскольку бабы, прознав про расторопных мужиков, набежали со всех краёв – выбирай, кого хошь!
Ползли века, мелькали годы, прогресс оплодотворил науку, и она родила много всяких чудес. Одними из этих чудес стали паровоз и железная дорога. И проложили железную дорогу прямо через Семигороднюю. А коль проложили, то надо по ней возить что-то. А что тут есть, кроме леса? Ни хрена! Значит, лес и надобно возить. А лесу-то много, а народу мало! Как быть? Но прогресс никогда не был импотентом, он выдавал множество детей-идей. Причём, идейки-то все просты и дёшевы, чай мы не европейцы-привереды, чтобы засорять мозги изобретением технических монстров. У нас всё прозаичнее – поэтом можешь ты не быть, но лесорубом быть обязан! Конечно, не все захотели стать лесорубами, но на то он и прогресс, чтобы придумать статью, отменяющую это хотение!
И вот вам результат: Семигородняя – это посёлок с пятитысячным населением, процентов девяносто которого приехали сюда пилить лес без острого желания! А на сём и сказочке конец, потому что, как всё было на самом деле, неизвестно. Не встречались, вероятно, семь мужиков из семи городов. Но в остальном – всё чистая правда!
Вот в это интересное местечко и послал нас, как миссионеров на Гавайи, Литомин.
Посёлок, на две трети состоящий из одноэтажных бараков, вольготно развалился гектарах на ста (а может и больше, кто их измерял?). Почти все улочки были окантованы деревянными тротуарами, потому что посредине их ходить было можно лишь в болотниках, а ездить только на тракторах и другой технике, способной плавать в грязи. Но зато здесь были и клуб, и больница (жаль, Татьяны нет!), и даже столовая, куда мы и завалились первым делом, прихватив в магазине несколько бутылочек винца.
– Порядок, сейчас всё будет! – радостно потирая руки, плюхнулся на стул Андрюха.
Мы сидели в гордом одиночестве в небольшом зале столовки за угловым столиком у окошка, а рядом валялись все наши шмутки.
И правда, через пару минут две нестрашненькие девушки появились с подносами, уставленными тарелками и стаканами. Одна девчонка была высокая и тощая (нет, это я перегнул, она была стройная), а другая – низкая и толстая (чёрт, опять не то, она, конечно же, была пухленькая).
– Вот, Андрюша, все самое свежее, – улыбаясь, поставила поднос на стол высокая.
Мы с Мишкой переглянулись: ого! Андрюша! А тот, по-хозяйски расставляя тарелки, с лёгкой небрежностью бросил:
– Знакомьтесь, это – Люба, – и он кивнул на высокую, – а это – Тося.
Мишка достал из рюкзака бутылку и предложил:
– Ну что, девчонки, может, за знакомство? Кстати, меня зовут Михаил.
Тося, сверкнув глазами, спрятанными за очковые стёкла такой толщины, какие, вероятно, применяются для иллюминаторов батискафов, и произнесла приятным голоском:
– Если только пригубить…
Когда мы пригубили пятую бутылку, я вспомнил, что нам ещё нужно найти жилье:
– Девчонки, а где здесь можно надыбать комнатку недельки на три-четыре?
– Так рядом с нами комната пустует. Мы будем рады таким соседям, – многозначительно улыбаясь, томно проворковала Люба, не отводя взгляда от Андрюхи.
– Правда-правда, – Тося плечиком прижималась к Мишкиному плечищу, – там и печка исправна, и свет есть.
– А кровати? – поинтересовался осовевший слегка Мишка.
– Кровати? – задумалась на мгновенье Тося, видимо, потеряв нить разговора. – А кровати у нас с Любой широкие и мягкие.
Я смотрел на них и думал с завистливым раздражением:
«Вот, гады, не успели осмотреться на новом месте, а уже так ловко устроились! Видно, придётся мне одному спать в комнате с исправной печкой!»
– Слышь, Серж, – зашептал мне в ухо Андрюха, – а ведь эхо-то нам наврало!
– Какое эхо?
– Ну помнишь, на плоту, оно кричало: никогда, никогда! А смотри, всё, как я просил: еда, тепло, гостеприимные женские объятия!
XXXIV
Если сейчас Литомину не икалось, то, значит, нет на свете ни сверхъестественности, ни сверхсправедливости! Уже три дня дождь средней паршивости замачивал наши бренные тела и скудные вещички. Палатка, позабыв о своем наиглавнейшем предназначении, текла, как добротное исправное сито, и мы чувствовали себя в ней отважными исследователями морских глубин, путешествующими в батискафе. Хотя, чёрт, в нём-то сухо! Нет, скорее всего, мы находились на подбитой подводной лодке, и час полного затопления был близок!
Вероятно, в наших злоключениях был виноват я, так как именно меня посетила мысль начинать работу с самого дальнего, самого трудного хода. Эта мыслишка пришла в мою неумную голову не просто так, но под действием поскрёбываний зависти, которую я испытывал, глядя на моих друзей, бурно проводивших досуг в обществе Любочки и Тосечки. Но я бы, может, ещё потерпел не один день их идиллию, да они сами всё испортили. Испортили не со зла, а с благими намерениями, но всем хорошо известно, куда ведёт дорога, замастыренная из этих самых намерений! В общем, четыре счастливых придурка, решив, что я невероятно тоскую, притащили мне подружку, после знакомства с которой я и решил валить как можно дальше и как можно быстрее! А поскольку я не самый большой женоненавистник на свете, то можете себе представить, какова была та, которой предстояло скрасить моё одиночество!
Костёр шипел и дымил, сырые дрова пузырились влагой, но единственное утешение в такую погоду – чайник – всё же работало исправно.
– Серж, а давай рванём домой! – грея руки о кружку с чаем, предложил Андрюха.
– Домой? – переспросил я. – В Ленинград, что ли?
– Да какой, на фиг, Ленинград! В Семигороднюю.
Я молча достал двухкилометровую карту (это не величина её, а масштаб) и поманил пальцем Андрюху:
– Вот, смотри. До Семигородней двадцать вёрст, и всё без дороги. Да что я тебе говорю, ты лучше меня знаешь.
– Знаю, знаю! Но тут так холодно и мокро, а там, у них (Андрюха мечтательно закатил глаза), так тепло и сухо!
– Ну подумай, если ТАМ у них сухо, то какое же может быть удовольствие?
– Да как это како… – начал было Андрей, но запнулся, врубившись в истинный смысл моих слов. – Ну не надо, не надо подкалывать. И вообще, это не я, а Любка отыскала ту прелестницу. Думаешь, мне она понравилась? Мы тебе найдём другую, самую лучшую в Семигородней!
– Спасибо, но я и сам, кажется, не парализованный импотент, страдающий старческим слабоумием и недержанием мочевого пузыря! Найду, коль понадобится.
– Хватит вам трепаться, давайте решать, – неожиданно для нас, так увлёкшихся волнующей темой, влез Мишка. – Так идём или не идём?
– Как хотите, – махнул я рукой. – Если вас прельщает двадцатикилометровое путешествие под дождём по хлюпкому болоту и непричёсанному лесу да с последующим возвратом в это же место, то – пожалуйста! Но если…
Хрена с два стали дослушивать меня до конца эти сексуально озабоченные молодчики! И откуда силы-то взялись? И палатка, и все остальные шмутки были распиханы по рюкзакам в мгновение ока! Ну точь-в-точь, как в фильме «Три плюс два». И так же, как в том фильме, я спросил их, впрягшихся в рюкзаки и готовых скакать галопом хоть к чёрту в зад:
– Всё собрали?
– Да всё, всё!
– Значит, всё?
– Ну хватит издеваться! – Андрюха притоптывал, как арабский скакун, вернее, как жеребец-производитель, которому намекнули на скорую работёнку. – Всё! Всё собрали!
– А инструменты? – ехидно и подленько заулыбался я.
– О-о-о-о, чёрт! – взвыл Андрюха и сбросил с себя рюкзак, который смачно чавкнул, упав в лужу.
Дело в том, что до инструментов было километр с хвостиком. Мы их оставили там, где закрепили не пройденный ход, как и делали неоднократно – в лесу воров нет, по крайней мер тех, кто ворует вещи.
И вдруг Андрюха засиял:
– А давай их оставим, всё равно возвращаться.
– Хорошо, – немного подумав, согласился я, – но если, по каким-либо причинам, нам возвращаться сюда не придётся, то за инструментами ты пойдёшь один. Ладно?
– Да пойдём, Андрей, сходим, – хлопнул Мишка по плечу своего единострадальца. – Лучше сейчас пару километров пробежать, чем потом сорок утаптывать.
Когда они ушли, я стал размышлять, как побыстрее доделать трудный ход, справедливо полагая, что, пройдя эти два километра и окончательно промокнув, казановы порядочно порастеряют свой сексуальный аппетит.
Эх, как я был молод и наивен!
– Вставай, а то примёрзнешь! – заорал Андрюха бодро и громогласно. – Вперёд, труба зовёт!
Я посмотрел на него грустно, осознав, что идти всё же придётся, но нашёл силы, чтобы пошутить:
– Это какая тебя зовёт труба? Уж не фаллопиева ли?
– Что это за труба такая? – посмотрел на меня Мишка в недоумении.
– А это ты у Тосечки спроси, – ответил я ему, с содроганием натягивая мокрый рюкзак.
– Если это что-то из истории, то навряд ли, она историю плохо знает.
Когда я от смеха упал, то рюкзак надавил мне на темечко, отчего лицо погрузилось в лужицу, и вместо хохота раздалось бодрое бульканье.
Рядом со мной булькал Андрюха.
А Мишка укоризненно начал головой:
– Эх, дети, дети! Вам бы только пошалить!
В ответ мы забулькали еще интенсивней.
XXXV
Если есть такой человек, которому нравится лежать в больнице, то пусть придёт в любое время суток и плюнет мне в рожу!
Так, примерно, я думал о больничном времяпровождении до того, как мы с Андрюхой попали в семигороднинскую больницу.
Если сказать, что мы здесь очутились случайно, то это значит оклеветать меня, хрупкую игрушку в лапах фортуны, но обелить Андрюху с Мишкой, которые и являются лапам (причём, не всегда чистыми) этой самой пресловутой фортуны. Пережди мы промозглую сырость у тлеющего костра и в текущей палатке, максимум, что мы получили бы – это сопливые носы и осипшие глотки, Но нет, где там! В некоторых же просто бурлят и выплёскивают через край природные инстинкты и разудалая бесшабашность! И вот он, закономерный итог незрелости ума: стёртые по задницу (ну, если честно, то просто до мяса!) ноги плюс сопливые носы и осипшие глотки, а моя правая нога к тому же насквозь пропорота гвоздём! Но главное: в больнице мы с Андрюхой вдвоём, Мишке хоть бы хны – он цел, сух и звонок! Если после этого кто-то скажет, что существует справедливость, то я ему не пожму руку даже в том случае, если он меня снимет с электрического стула за две миллисекунды до включения рубильника!
Отмахав двадцать километров мокрыми и промёрзшими, мы только дома увидели плоды своего героического перехода – стёртые в кровь ноги у меня и у Андрюхи. Но появление Любки и Тоси с сумкой еды и выпивона заставило позабыть нас о таких пустяках. А зря! Через два дня, пролетевших весело и бестолково, ножки наши опухли, загноились, а ночью, ближе к рассвету, мощные клыки боли впивались в них жадно и вожделенно, без устали кромсая и теребя свою добычу.
На третий день, когда алкоголь уже перестал глушить нашу зубастую мучительницу, к нам завалился наш сосед Биокрин. Его так прозвали за особое пристрастие к этой спиртосодержащей жидкости, предназначенной для протирания различных поверхностей. Но Биокрин с особым удовольствием, не могущем быть понятым человеку нормальному, ею полировал лишь поверхности пищевода да желудка. Увидев наши мерзкие нижние конечности, он побелел, схватил со стола бутылку вина, высосал её в семь секунд и заорал:
– Всё, конец! У вас же гангрена!
И тогда мы, полупьяные полудурки, струхнув, поплелись в больницу. По пути я где-то нашёл торчащий гвоздь и конечно же наступил на него (скорее всего, этот оголённый гвоздь был единственным в Семигородней).
В больнице работали нормальные люди и они попытались, что вполне понятно, отослать двух пьяных, грязных, небритых и нестриженных идиотов в место их изначального естественного появления, но, когда я сунул в нос медсестре свою ногу, истекающую кровью и грязью, она в сердцах плюнула:
– Идите в душ и отмокайте, да ещё попытайтесь отрезветь, или я вас выгоню к чёртовой матери!
Первый день мы кайфовали: кровати с чистым бельём, телевизор, медсестрички, постоянно желающие взглянуть на наши попки (но, увы, не для того, чтоб ими полюбоваться, а для всем известного садистского действа – прокалывания толстенной иглой и вливания какой-то плесени), и трёхразовое, хоть и скудное питание!
Я в своей палате (в одну нас с Андрюхой не пустили!) познакомился с Костей – здоровенным бугаём-флегматиком и втирал ему и остальным сопалатникам всякие бредни о наших героических буднях, о весёлой житухе, о прекрасном Ленинграде. И, если трудовые подвиги ни в ком интереса не вызывали, то Питер – это была та тема, развивая которую, я мог слышать жужжание мухи в столовой!
Андрюха в своей палате, кстати, занимался тем же. Но, в отличие от меня, упиравшего на достопримечательности города и его историю, мой друг разглагольствовал о своих лихих похождениях в бомонде Ленинграда, в частности, в его прекрасной половине.
Этими рассказами, а ещё вином и тушёнкой, которыми нас щедро снабжали Любка, Тоська и Мишка, мы заслужили всеобщее уважение.
Но разве бывает бочка мёда без черпачка дегтя? Что-то я не встречал!
Шесть утра. Глаза мои открываются сами собой, и я вижу то, что и должен видеть: чёрные, прямые волосы, обрамляющие полное личико, чёрные строгие глаза, пухлые, алые от природы, губы, красивая – просто огромная! – грудь и руки, беленькие, маленькие, но держащие большущий шприц и ватку, источающую аромат хорошего спирта. Это – Анечка, медсестричка, и она явно ко мне неравнодушна, потому что с утра до ночи колет и колет меня, никому не доверяя. Но есть, право, что-то магическое в её ладонях, которыми она нежно поглаживает мои ягодицы после каждого укола, и та боль, с которой пенициллин вливается в меня, разрывая мышечную ткань, становится всё терпимее и терпимее и, наконец, перерастает в приятное пощипывание. Тогда я, как бы невзначай, переворачиваюсь на спину, и взгляд Анечки наталкивается на другой орган моего тела. Она смущается, румянец молнией пробивает пухлые щёчки, а руки осторожно натягивают на меня одеяло. Потом Анечка поворачивается и, цокая каблучками туфелек, спешно выходит из палаты.
– Хорошая деваха, – слышу я голос Кости, – да только серьёзная, с такой просто так не погуляешь.
– А как?
– Только через ЗАГС. Так что, если ты что думаешь, то имей в виду!..
Через несколько дней приехал Литомин, а с ним инженер по технике безопасности. Долго они нас учили уму-разуму, строя из себя людей, с пелёнок ведущих истинно правильный образ жизни. Потом, приказав выздороветь к завтрашнему дню, оставили денег и уехали, довольные выполненным долгом!