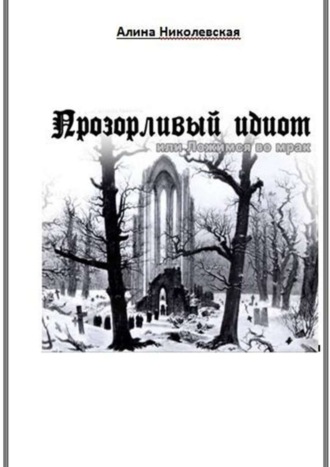
Полная версия
Прозорливый идиот, или Ложимся во мрак
– Ну почему пустота, – возразил я исключительно из духа противоречия. – Ребята молодые, у них опыта маловато, техники. Если будут стараться, всё у них получится.
Блондин несколько минут молча смотрел на меня. Потом сказал:
– Пустота, потому что в их музыке нет жизни. Такие клубные выступления для них лишь способ подзаработать. Знаешь, кто они такие, эти четверо шведов? Один стоматолог, другой массажист, третий автослесарь, четвёртый страховой агент. Неделю они усердно трудятся на своих рабочих местах, а на выходные едут неважно куда – куда пригласят и там с красными линзами на глазах, одетые как на карнавал к Сатане музицируют, якобы, создавая атмосферу ужаса и интровертивного настроения. Используя простые аккорды, размытые ревером гитары, отчётливый лидирующий бас и первобытные барабаны на четыре четверти. Ну и непрофессиональный нарочито искажённый вокал. Слышишь, как надрывается?
Один из шведов – в чёрной майке с надписью на груди «DEVOLUTION» – действительно вопил на пределе своих голосовых связок, откинув голову – на шее вздулись вены – и засунув микрофон чуть ли не в гортань.
– Поёт по-английски. О чём, понимаешь? О том, что солнечному свету и теплу предпочитает ледяной кровоподтечный сумрак мертвецкой. Ну так, казалось бы, и вперёд, в этот самый сумрак. Кто мешает? Нет. Благополучно отыграв, парень возвратится в свой милый шведский домик, к своей милой шведской жёнушке, она будет печь пироги, а он – стричь лужайку перед домом, на которой они с детьми и собаками будут наслаждаться солнечным светом и теплом.
Блондин был конечно же прав. Но он был на редкость красивым, к тому же чрезвычайно элегантным – безупречного покроя костюм, тёмная шёлковая сорочка, того же оттенка галстук с булавкой, украшенной миниатюрным серебряным черепом с рубиновыми глазами, – поэтому с ним не хотелось соглашаться.
Я поднял брови.
– Ну и что в этом плохого?
– Ничего, – пожал он плечами. – Кроме того, что, снимая обёртку, получаешь пустоту. Если тебя это устраивает, стань фанатом группы «Bad Religion» – «Плохая религия». Там вообще обязанности вокалиста исполняет доктор биологических наук, а на гитаре играет глава одного из специализирующихся на панк-роке лейблов некто Гуревич. Душераздирающие гитарные партии владельца торговой марки как фон для слезливых завываний и злобных криков учёного-биолога – это ли не готично!
– Есть Мэрилин Мэнсон, – не сдавался я.
Губы блондина скривились.
– Фальшивка и убожество. Типичный продукт шоу-бизнеса. По текстам – начальная школа, по качеству звучания – провинциальная Россия, по актуальности музыкального материала – всё это имело смысл двадцать – двадцать пять лет назад. В смысле эпатажа – восковая копия Элиса Купера, который по большому счёту тоже фальшивка.
– Но почему? – изумился я. – Все знают, – в активе Элиса гастроли с наркотиками, выпивкой, кровью, змеями, закулисными драками и ещё кучей всякого разного. Не говоря уже о психушке, куда он, в конце концов, загремел.
– Ага. И через месяц вышел, чтобы вновь шокировать обывателей сценами, якобы, необузданного разгула, включающими в себя леденящие кровь инсценировки харакири и детоубийства, с текстами, повествующими о сексе с мертвецами и о зловещих медсёстрах-маньячках. Казалось бы, живёт человек так, как дышит, бездумно швыряя в толпу радостно визжащих фанатов одну вонючую бомбу за другой, и радуется. На самом деле «Великий и Ужасный Элис» все сорок лет своей концертной деятельности чётко держал нос по ветру. Как змея сбрасывает кожу, так и он менял музыкальные жанры, неизменно оставаясь в рамках мейнстрима. Не брезговал даже диско и тривиальным радио-форматом, пока не стал походить на чьего-то подвыпившего папашу, ворвавшегося на школьный бал.
Крыть было нечем. Но капитулировать следовало, не теряя достоинства, и я спросил:
– А кто же, по-твоему, не фальшивка?
– Много кто, – блондин отпил из стоявшего перед ним толстостенного стакана. – Хочешь? Двойной бурбон с содовой. Настоящий. Рекомендую.
– Хочу, – сказал я.
Приподнявшись, он выбросил вверх руку – пальцы в виде буквы «V» – подавая знак бармену, который не замедлил откликнуться, прислав официанта с подносом.
– Спасибо, – произнёс блондин после того, как стаканы с бурбоном переместились с подноса на стол. Потом, обратил взгляд на меня.
– Выпей, потом договорим.
Три глотка виски сотрясли меня, как динамит, вытряхнув из доброго расположения духа – я и раньше был не в восторге от самоуверенно-снисходительного тона моего визави, а тут вдруг тон этот показался мне недопустимо оскорбительным.
Я уставился на блондина с вызовом.
– Ну и кто же, по-твоему, не фальшивка?
– Джим Моррисон, например. Его безумства многих восхищают, но вряд ли кто из ныне живущих музыкантов хочет вступить на этот путь. Его выходкам пытаются подражать, но получается лишь жалкая пародия. Перед его поэзией все, вроде как преклоняются, тащась от шальных образов и метафор, но мало кто замечает – во всех поэтических текстах сквозит одна и та же мысль, то уходящая на глубину, то выступающая на поверхность.
Так мирен и мягок был голос моего собеседника, так тих и спокоен, что струны агрессии ослабли, и злость моя улетучилась.
– Ну и что это мысль? – поинтересовался я с довольно, впрочем, мрачным видом.
– Мысль очень простая: я люблю жизнь, но и смерть считаю другом. Незадолго до смерти лидер группы The Doors Джим Моррисон написал:
«Я взбирался ступенями кладбища, шорохи, мгла…
Та короткая ночь лучшею порою была.
И пусть я одинок, так и не обзавёлся женой,
Мой единственный друг, ты по-прежнему рядом со мной».
Блондин отодвинул на край стола пустой стакан. Пригубил от полного.
– А когда Doors выступали в лондонском Roundhouse, у меня на DVD запись этого концерта, так там есть момент – Джим мимоходом заглядывает в объектив камеры и вполголоса говорит оператору: «Не парься, шеф, мы здесь ненадолго… совсем ненадолго». Прямо мороз по коже! И сколько ни смотрю, мурашек меньше не становится. А здесь, – он втянул носом воздух, словно принюхиваясь к беснующейся возле сцены толпе, – процентов на десять – наркотики, а на девяносто – имитация экстаза.
Я хотел было возразить, но не стал этого делать. И хорошо, что не стал. Ведь стоило истаять финальному такту последней перед перерывом композиции «фронтёров» – звук был похож на стон старого издыхающего тролля – как сидевший на полу в непосредственной от нас близости голый по пояс парень, перестал бить себя кулаками по голове, кричать и сотрясаться в конвульсиях. Встал, отряхнулся, поболтал со стоявшей рядом девушкой и деловой походкой направился к выходу, разминая в пальцах сигарету. А ведь казалось, покинет вечеринку в карете «скорой помощи» после серии успокоительных уколов.
На лице Ди Зилло, извергнутого из недр остывающей и распадающейся на части человеческой массы, выражения бессмысленного счастья также не наблюдалось. Наоборот, он был довольно хмур. А, встретившись со мной взглядом, нахмурился ещё больше. Сам подходить не стал, жестом попросил приблизиться.
– Не знал, – он встретил меня недоверчиво-презрительным прищуром, – что ты тоже из этих. Хотя столько лет прошло….
– Ты о чём? – спросил я, начиная нервничать.
– Говорят, он гей, – Ди Зилло кивнул в сторону блондина, который, откинувшись на спинке стула и красиво заложив руки за голову, не сводил с нас глаз. – А выводы делай сам.
Меня бросило в жар, ибо я как человек, склонный к самоанализу, и при этом чуткий к новым веяниям нашего времени всегда с беспокойством относился к тому, что в присутствии друга того же пола ощущаю порой не только душевный подъём, но и некоторую эмоциональную теплоту. С подозрением смотрел на парней, обнимающихся и целующихся без стыда, с воем кидающихся после разлуки к другу на грудь, сам предпочитая, если уж не удалось уклониться от объятий, садистически лупить приятеля промеж лопаток, ощеривая зубы.
А блондин, между тем, раскурил сигару, и явно обращаясь ко мне, не повышая голоса, – шум в зале к этому моменту уже утих, – произнёс:
– Приходи завтра. Завтра здесь будут совсем другие люди.
*
К тому времени, как лёг в постель, оказалось, – незнакомец в сущности уже выиграл. Я страшно жалел, что не сказал: «А пошёл ты…», меня тяготило ожидание завтрашнего дня и данное мной обещание. Которого я, конечно же, не давал – просто скованной походкой с лицом, не обещавшим ничего хорошего, направился к выходу, – но ведь не отказался, промолчал, а молчание, как известно, знак согласия. Эти мысли разрушали мой сон. Полночи я был занят размышлениями, и эти часы мне уже не принадлежали, они принадлежали незнакомцу. Я вынужден был лежать и думать о нём, лежать и отгадывать, что он завтра мне скажет, о чём спросит, лежать и мучительно восстанавливать в памяти подробности нашего разговора, отчётливо при этом понимая, – он умнее меня, образованнее, намного привлекательнее внешне, лучше воспитан. Именно поэтому атака этого человека, явно более сильного и настойчивого, чем я, была мне неприятна, всё во мне противилось этому, сжималось и закаменевало. Лишь после того, как некоторым образом уяснил себе своё завтрашнее поведение – зайду в «Фантазус», выпью у барной стойки пару рюмок «Реми Мартин» и уйду – мне удалось отвлечь мысли от незнакомца и наконец-то уснуть.
Наступил следующий день. Наступил и тот послеобеденный час, когда люди позволяют себе строить планы на вечер, и созваниваются друг с другом. Мне позвонил Ди Зилло и пригласил в клуб «Точка», где выступала играющая тру хеви метал немецкая группа «Soman», ближе всех подобравшаяся к тому музыкальному стилю, который принято называть анти-музыкой. Я с радостью согласился, подумав, – ну вот и хорошо, – «Фантазус» автоматически побоку, – хотя от анти-музыки немцев был не в восторге, – у меня имелся их диск. Более всего это напоминало грохот работающего цеха – ритмично ухают прессы, шипят сварочные аппараты, металл скрежещет о металл, здесь же кого-то методично пытают, начальник всего этого адского хозяйства, чеканя шаг, ходит туда-сюда как заведённый, то раздавая отрывистые команды, то что-то злобно бормоча себе под нос. Творение, конечно, на любителя, но, если включить воображение, представив, что получаешь удовольствие, вкушая от чистого индастриал источника, то очень даже ничего.
Если бы я услышал в тот вечер в «Точке» то, что ожидал услышать, я бы так там и остался. Но перед приездом в Москву лидер «Soman» – здоровенный рыжий немец, страдавший маниакально-депрессивным психозом, распустил группу, набрав новичков, а главное, и это было его роковой ошибкой, – завязал с наркотиками. В результате публика получила вместо хаоса и чистой металлической агрессии тоскливый зудящий панк-рок, что катился и тянулся – весь в зазубринах ломаных ритмов, – словно ржавая консервная банка, привязанная к хвосту туберкулёзной крысы.
– Хреновое псевдопогружение в говённый андеграунд, – поделился своими впечатлениями от первых двух композиций Ди Зилло. – Ловить здесь нечего. Я, пожалуй, в «Реллакс», там сегодня «фронтёры» играют. Конечно, мало радости опять с ними встречаться, видеть, как пафосно суровые шведские парни нарезают сырой, непропечённый блэк-метал, сами по колено в гитарной грязи, но всё лучше, чем здесь. А ты куда?
– Не знаю, – сказал я, уже зная, что встречи с блондином мне сегодня не избежать.
Уже на выходе услышал, как какой-то фанат «Soman», чтобы раззадорить едва не испускающего дух вокалиста, крикнул:
– Харди, вылезай из гроба!!
Не знаю, вылез Харди или нет, но, что меня поразило – под крышку гроба была стилизована входная дверь клуба «Фантазус»! Прошлым вечером я не обратил на это внимания, так как перед входом толпился народ. Сейчас же, стоя в одиночестве перед чёрной, трапециевидного профиля вертикальной плитой с узким серебряным обрамлением по периметру и изображением ангела с крестом – посередине, испытал даже некоторый трепет. Но он исчез, уступив место любопытству, стоило взяться за массивную, под серебро с чернением, дверную ручку.
В узком длинном помещении, где располагался гардероб и туалетные комнаты, никого не было, и я сразу прошёл в зал, поразивший меня своим убранством. Накануне из-за сильного задымления и присутствия большого количества людей я его толком и не рассмотрел.
Вдоль стен были выставлены ряды колонн, на которые якобы опирались остроконечные стрельчатые арки. Якобы, потому что они были лишь красочными изображениями, искусно выполненными на потолке, фрагменты росписи которого композиционно объединялись идеей крестового свода. Фон потолка был в боковых пределах тёмно серым, а в центре – светло-серым, сияющим, благодаря чему возникало ощущение безмерности пространства над головой. Этот необычный интерьер был озарён цветным мерцаньем витражей – красных, синих, жёлтых – вправленных в стрельчатые рамы фальш-окон, углы которых были кое-где затянуты искусственной паутиной из ниток. Такая же паутина свисала с венчавших столбы каменных розеток, за которые цеплялись летучие мыши родом из сувенирных лавок, торгующих «ужасами».
Я знал это и всё-таки вздрогнул и замахал руками, когда перепончатокрылая тварь упала мне на голову, своим писком перекрывая смех девушки с голубыми как у Мальвины волосами, которая веселилась от души, держа пальчик на джойстике пульта дистанционного управления. Её сосед по столику – парень в чёрной кожаной жилетке, – бицепсы в татуировках, на лбу защитные сварочные очки – также веселился, но более сдержанно, как бы за компанию. Не смеялись, а лишь улыбались две барышни – обе в чём-то прозрачно-сетчатом, затянутые в корсеты они изображали госпожу и рабыню. Шею «рабыни» охватывал металлический ошейник, к которому крепился кожаный поводок, «госпожа» его периодически натягивала, что, по-видимому, входило в правила игры.
Не улыбался мой блондин, сидевший не там, где вчера, – в зале в смысле расположения мебели вообще всё было не так, как вчера. Так вот он сидел за одним из столиков центрового полукруга, напротив большого плазменного экрана, на котором одна картинка сменяла другую, но все они были отражением изысканных, пёстрых и одновременно меланхоличных образов нездешнего мира. Ландшафты с замками, горы, охотничьи угодья, кони, породистые собаки, кусочек неба с радугой, рыцари, странствующие монахи, прекрасные дамы, одна из которых глубокой ночью поднимается по витой лестнице сторожевой башни и входит в каминный зал. Высокие своды потолка на стройных желобчатых колоннах теряются в темноте, там летает, натыкаясь на стены, пленная ласточка, через окно – переплёт в форме лилии – заглядывает луна, она освещает фигуру карлика-шута, безнадёжно влюблённого в свою госпожу, которая идёт по мозаичному полу, роняя из букета одну розу за другой. Карлик поднимает цветы, прижимает к лицу, острые шипы ранят кожу, слёзы смешиваются с кровью.
И всё это под музыку, полную холода, слёз и отчаяния, бездонно глубокую, благодаря высокому, хрустального тембра женскому голосу и вторящему ему словно эхо низкому мужскому.
– Это «Лакримоза»? – спросил я, усевшись на стул рядом.
– «Лакримоза», – кивнул блондин. – Только настоящая моцартовская, являющаяся последней частью «Реквиема». А ты думал это группа Тило Вульфа?
– Неважно, что я думал, – от раздражения плечо моё нервически дёрнулось. – Я, кажется, забыл поздороваться.
– Ну, привет, – он внимательно на меня посмотрел. – Я рад, что ты пришёл. Всё-таки, пришёл. И не беспокойся, пожалуйста, твоё неброское личико совсем не в моём вкусе.
– Ты тоже даже не герой моих ночных кошмаров, – парировал я, находясь в недоумении, – вот какого, спрашивается, расселся тут и не ухожу?
– Не сердись. Скажи лучше, как тебя зовут.
Он произнёс это в свойственной ему подкупающей манере – с искренней теплотой в голосе. И вновь повторилось вчерашнее чудо, – как бы даже против моей воли все его предыдущие фразы, ещё несколько секунд назад казавшиеся претенциозными и оскорбительными, перестали таковыми казаться.
– Прозорливый Идиот, – сказал я.
– О, как интересно! – он прищурил глаза, окаймлённые лентой из чёрной туши. Значит, ты отказываешься участвовать в общественной жизни, да ещё и считаешь такое поведение правильным с точки зрения исторической перспективы?
Я поднял брови.
– С чего ты это взял?
– С того, что в Древней Греции идиотосом называли человека, принципиально не участвовавшего в общественной жизни.
– Да? Я не знал.
– А ты в ней участвуешь?
– Нет.
– Я тоже нет. Значит, я тоже идиотос. Но ты же у нас ещё и Прозорливый, то есть умеющий предвидеть ход событий. Это, между прочим, здорово! Можно я буду звать тебя Прозо? Просто Прозо. Ты не против?
– Не против.
– Ну вот, а я Влад.
Блондин улыбнулся – первый раз за время нашего знакомства, – и я увидел в ряду белых ровных зубов длинные вампирские клыки. Отвести от них взгляд было невозможно, а смотреть, тупо выкатив глаза, человеку в рот, – неприлично. Хорошо, что он выручил меня сам. Спросил, принимая серьёзный вид:
– Нравится?
– Настоящие? – уклонился я от прямого ответа.
– Нет. Накладные. К сожалению, настоящие, в смысле имплантанты, я себе позволить не могу. Я же работаю. Нельзя отпугивать потенциальных заказчиков.
– А кем ты работаешь?
– Я ландшафтный архитектор. Работа хорошая, – как у палача из анекдота – на свежем воздухе и с людьми.
Я выдавил из себя пару вежливых смешков, потом небрежным тоном осведомился:
– А к чему они тебе, эти накладки? Зачем?
– Ну как же, – он пожал плечами. – Положение обязывает. Самого знаменитого вампира – графа Дракулу из Трансильвании звали Владом.
– Вла-ад, – потянула его за рукав девушка, похожая на несчастную, выброшенную на помойку дорогую куклу – рваные колготки, длинные сетчатые перчатки в дырках, пышная, как балетная пачка, мятая кружевная юбочка, спутанные волосы розово-сиреневого цвета, но главное – большая, чёрная, нарисованная на щеке слеза. – Влад, как тебе моя новая причёска?
– Отлично, Агата, детка, – он притянул её к себе как ребёнка и поцеловал в лоб. – Здравствуй.
– Здравствуй, – отозвалась она, косясь на меня. – А где клавесин?
– А на прежнем месте его нет?
– Не знаю, – протянула она, вытянув губы трубочкой. – Я ещё не проверяла.
– Ну так иди проверь. Думаю, он там же, где всегда. По крайней мере, я на это надеюсь, – это Влад сказал уже мне. – После вчерашнего нашествия варваров всё может быть. Кстати, ты знаешь, что варварами в третьем веке нашей эры называли германские племена готов, которые к готике как стилю никакого отношения не имеют.
– Я этого не знал, – рассеяно обронил я, глядя вслед удаляющейся Агате, – ножки у неё были очень даже ничего.
– Так знай, что термин «готика» был введён в эпоху Возрождения как уничижительное обозначение всего средневекового искусства, считавшегося «варварским». Понял?
– Это понял. Я другого не понял, зачем вы в ваш клуб приглашаете готов-варваров, вроде вчерашних «фронтёров» и их фанатов? Если они вам по духу не близки?
– Не близки, – мотнул головой Влад. – Но почему бы не дать ребятам из Швеции подзаработать. Это во-первых. Во-вторых, клуб «Фантазус», кстати, Фантазус в римской мифологии бог грёз – сын бога сна Гипноса и брат Морфея. Так вот наш клуб, хоть и элитарный, но не закрытый. Мы и приглашаем гостей, и сами ездим в гости. Совсем недавно побывали в Польше на очередном dark-independent-фестивале. Представь, три дня аккуратного безумия в Болковском замке – свечи, музыка, танцы, новые знакомства на фоне старинных интерьеров, реки горячительных напитков и, как следствие, уверения в вечной любви и дружбе.
– А в чём элитарность вашего клуба? – спросил я, глядя, как отодвигают в сторону экран и выкатывают на сцену клавесин – похожий на миниатюрный рояль инструмент, только с двумя клавиатурами, и контур «крыла» не плавный как у рояля, а угловатый.
Влад, тоже внимательно следивший за тем, что происходило на эстраде, обратил взгляд на меня.
– Здесь собираются лучшие представители отечественной готической субкультуры. Я не говорю, что наш клуб такой единственный, но он из числа самых достойных.
Я хотел было указать на парня в чёрном цилиндре, с набелённым как у арлекина лицом, с красным, похожим на рваную рану ртом, и язвительно бросить: «Так уж и лучшие!». Но парень сел за клавесин и взял первый аккорд, ясностью тона напоминавший эхо над горным озером. Затем звук словно взбежал по винтовой лесенке, увешанной колокольчиками, и к нему присоединились шелест ударных и элегические стоны гитары. Ударник и гитарист тоже выглядели как те ещё клоуны, но теперь это не имело значения. Ну вот, а потом запела Агата. Так тихо, что это скорей напоминало завораживающий, словно молитва, протяжный шёпот. Подобная исполнительская манера свойственна Карен Энн Зейдель, слушать которую – всё равно, что с ней целоваться, – дыхание с лёгким запахом сигарет «Gauloises», ботфорты набиты украденными драгоценностями, а её билет до Палермо – это лимонная косточка, растёртая в пыль челюстями химер, охраняющих собор Парижской богоматери. Фатально и чертовски сексуально.
Так вот, манера была похожа. Но пела Агата совсем о другом:
Нежнее нежного
Моё лицо
Белее белого
Моя рука
От мира целого
Я далека
И всё моё
От неизбежного.
От неизбежного
Моя печаль
И пальцы,
Что сжимают бритву,
Слабеют руки
Творю молитву
Едва творю
Вновь
Кончаю битву
Я отворю…
Кровь…
И снова плеск клавесинных струн, горящие свечи… а тут ещё и вино принесли в высоких серебряных кубках….
Чувствуя, что противиться очарованию атмосферы клуба «Фантазус» вряд ли дальше достанет сил, я всё-таки небрежным тоном произнёс:
– Похоже на суицидальный арт-рок Blondie.
– Чушь, – немедленно отреагировал Влад. – Там пластмасса, а здесь настоящий талант и настоящее чувство. К твоему сведению у Агаты на счету две действительно серьёзных попытки суицида. Правда, это было до того, как она попала в нашу компанию.
– Она конечно немного странная, – я тянул слова, переваривая услышанное. – Но всё-таки никогда бы не подумал…
Влад остановил на мне ледяной взгляд, но в этом взгляде не было враждебности.
– За каждым готом, Прозо, – бездна. Как, впрочем, и за не готом. Исключений не бывает. Пусть пустяшная, но бездна есть за каждым.
Я хотел было сказать, – ну, не знаю, за мной никакой бездны точно нет, но прикусил язык, потому что бездна была. И ещё какая!
Однажды, это случилось ещё до того, как у меня появилась отдельная квартира, я пришёл домой поздно. Матери не было, она осталась в загородном доме, а отец… Отец даже не потрудился закрыть дверь супружеской спальни, и я, проходя по коридору мимо, увидел их, – его и какую-то девчушку, чуть ли не мою ровесницу, судя по нежным розовым пяткам, – нагишом в постельной буре.
Я застыл на месте, как человек, впервые наблюдающий вскрытие трупа. Трупом была совместная жизнь отца и матери, но мертвец в кое-как подогнанном саване лежал до этой поры в гробу на не убранном цветами постаменте, всё-таки сохраняя черты благопристойности. Теперь же ошмётки этой благопристойности летали по комнате вместе с бесстыдными взвизгиваниями девчушки, стремившейся всеми способами показать, что происходящее доставляет ей удовольствие.
Опомнившись, я прикрыл дверь спальни. И пошёл прочь из родительского дома, решив переночевать у бабушки – матери моей матери. Она жила на другом конце Москвы в двухкомнатной, с маленькой кухней квартирке, в которой когда-то ютились все мы.
Притомившись от дальней дороги и пребывая в расстроенных чувствах – такого тоскливого стыда мне испытывать ещё не доводилось – я выпил в баре возле её дома два дрянных коктейля, от которых чуть не умер на месте. Неудивительно, что сознание моё начало выключаться ещё до того, как я нажал кнопку звонка. Бабушка открыла дверь, и тут коврик, на котором я стоял, словно выдернули у меня из-под ног. Стараясь удержать равновесие, я подался вперёд, но коварный порог поймал мой ботинок за рифлёную подошву, а пол прихожей встал дыбом, и изо всей силы шарахнул меня по лицу. Я лежал, и от боли перед глазами вспыхивали сотни огненных цветочков. Потом увидел два шлёпанца с розовыми помпонами и услышал бабушкин голос, в котором клокотало бешенство.
– Пьяная дрянь! Яблоко от яблони! Такой же ублюдок, как отёц, этот прохиндей из Рязани!
В прошлом учительница математики она не отличалась уравновешенностью и легко переходила от одного настроения к другому, так что нередко объектом её критики становилось то, что час назад она восхваляла. Неизменно негативным оставалось лишь её отношение к моему отцу, которого она считала хитрым и циничным провинциалом из Рязани, женившимся на её дочери исключительно из-за московской прописки.
Поражаясь степени, до какой этот день был не моим – и отец никогда ранее не позволял себе приводить домой девок, и бабушкина ненависть к нему никогда ранее не транспонировалась на меня с такой определённостью, – я с виноватой улыбкой приподнялся на руках. И тут внутри меня словно вышибло какой-то клапан: в попытке предотвратить неизбежное откинулся назад, набрал в грудь воздуха и со стоном, похожим на всхлип, вывалил содержимое своего желудка прямо на розовые помпоны. Растерянный и безнадёжно несчастный я не мог даже пошевелиться, в каше глухих звуков и мутных образов, похожих на галлюцинацию, выделил судорожно кривящиеся губы возмущённой бабушки, но не мог понять, что она говорит. Лишь после того, как меня вырвало ещё раз, стал доходить смысл страшных слов, которые она бросала мне в лицо, – жаль, что ты не умер в младенческом возрасте, а мог бы, был у тебя такой шанс, когда заболел двусторонним воспалением лёгких, а главное, твоя мать хотела твоей смерти, желая таким образом отомстить негодяю из Рязани, который уехал к морю с очередной проституткой, наплевав на жену и больного ребёнка, да, жаль, что не умер, и ведь уже синеть начал, да я – старая дура, пожалела, вызвала «скорую помощь», приехали, где, спрашивают, мать, а мать в парикмахерской, волосы перекрашивает, вот так-то!





