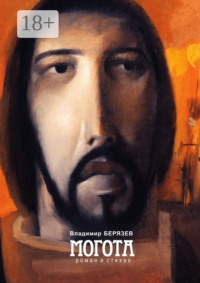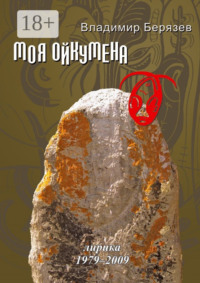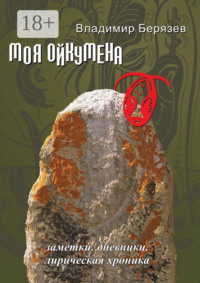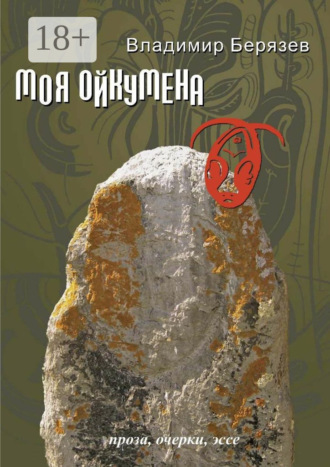
Полная версия
Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе
Третий мой хакасский камень с одной стороны похож на молоток, каким вполне можно было раскалывать кости прежде чем высосать из них сладкий мозг, а с другой – это фигурка, каменный истуканчик, прообраз степных изваяний, он так весело торчит у меня на полке, словно полон воинского духа, доблести и оптимизма…
В. В. Розанов любил по вечерам разглядывать древние монеты, он брал в руки экземпляры своей коллекции и отправлялся в путешествие по мирам человеческой истории. Монеты – хороший проводник, но память у монеты не так глубока, камень – сильнее и чище.
Погружённая в забытьё черепаха… она плывёт по великой реке Океан, а на спине её покоится Земля со всей полдневной суетою обитателей.
Чуть улыбающаяся, проглотившая свой хвост золотая змея Космоса – символ вечного обновления и непреходящих катастроф, за которыми начинаются новые циклы самопожирания и самовозрождения.
И, наконец, человек, человечек, стойкий каменный солдатик, голова – как молоток, он плывёт на черепахе и наблюдает как в небе сжимает и разжимает свои кольца гремучая змея Вселенной.
Мы ехали на Сундуки, не зная толком где это и что это. Так задумалось, захотелось, что-то узнали от знакомых, кто-то из приятелей побывал или собирался побывать там с экспедицией профессора Ларичева, я слышал, что в те места наведывается красноярский художник Николай Рыбаков, и уже это о многом говорило, такой художник, как Рыбаков, куда попало не поедет…
Итак, Хакасия. Трёхлитровый BMW, подобно хорошему скакуну, покрывает расстояние в 1200 вёрст за световой день. Но мы никуда не торопимся. Московский тракт до Кемерово по родной лесостепи, на дороге караваны изрыгающих солярку КаМАЗов, мост через Томь, за кузбасской столицей – почти сто километров горной дороги по Кузнецкому Алатау, тайга, черневая тайга, пихты, пихты островерхие и тёмные, как траурный креп, в промежутках – массивы глухого осинника, где гнилой валежник, буреломы и папоротник, на склонах гор видны проплешины вырубок, рыжие гари, останки непонятных сооружений, разваленные срубы, брошенные полуистлевшие стеллажи брёвен, деревни если и встречаются, то хилые, состоящие из нескольких дворов, с избами, покрытыми ржавым и прохудившимся рубероидом, кроме трассы Москва – Владивосток, дорог практически нет, кругом лесоповальные угодья в прошлом могущественной системы Мариинских лагерей. В сороковые-пятидесятые годы тайгу здесь почистили основательно, но судя по всему она зализывает раны, без дорог человеку здесь делать нечего, а дороги в таком рельефе дело для нас, слава Богу, не подъёмное.
На реке Золотой Китат решили сделать привал, сготовить обед, помыться и немного отдохнуть, до Мариинска ещё восемьдесят вёрст, из них шестьдесят по горной тайге. Пока двое моих товарищей разводили костёр, я решил набрать грибов и нырнул в сумрак пихтового леса. Буквально за четверть часа, прыгая с кочки на кочку и обламывая пихтовые ветки, я набрал на сухих островках под сплошным хвойным шатром полный котелок рыжиков, моховиков и маслят. Из-за плотной стены леса импульсами доносился шум трассы. Где-то невдалеке журчала река. Я отошёл не более чем на триста метров от бивака. Но – тропы не было. Я попытался вернуться. Пошёл налево, направо, прямо, назад, и везде попадал либо в непроходимые заросли, либо в болото. Я занервничал, попытался пробраться к реке, но увяз в чаще. Я ломонулся в сторону трассы, но почти по пояс провалился в болото. В пору было растеряться, но, ей-богу, глупо заблудиться в двух шагах от автомобиля. Тем не менее, преодолев смущение и растерянность, я принялся кричать, и лишь, услыша изумлённый отклик товарищей, как-то сразу сориентировался и буквально за секунды выбрался из дебрей на свет белый.
Чертовщина.
Кто бы рассказал – не поверил.
А как ходить по этой тайге, если углубиться в неё не на триста метров, а, хотя бы, километра на три?
А ведь я с детства, лет с двенадцати хожу по таким лесам. Но, видимо, это совсем гиблые места. Страшно представить, что такая тайга тянется на пятьсот вёрст к югу полосой в сто километров минимум – вплоть до Горной Шории.
Мариинск – город одноэтажный. Ему два с лишним века. Столица тридцати уголовных зон и местечко, где уже сто лет производят великолепную, благородную, чистую, словно ангельская песнь, водку.
Надо признать, что это единственное достоинство сего гоголевского, чеховского, салтыково-щедринского места.
Время среди этих домишек словно замариновано. Нищета, уныние, глушь. Выбраться из его переулков-закоулков – воистину физическое облегчение.
После Кузнецких гор и Мариинска дорога идёт по открытым местам, дальше или ближе, но всё вдоль русла Чулыма. Дюжина труб ачинского энергетического гиганта не менее полутора часов маячит то впереди, то за спиной. Незаметно промелькнул городок Назарово с патриархальной плотиной, для чего-то замкнувшей Чулым. И, наконец, прямая, бесконечно покатая лента, упавшая среди чистого вольного поля, ровный-ровный путь на Юг.
Холмы и степи Хакасии не приближаются, не возникают за ветровым стеклом из-за рощиц или неких отдалённых возвышенностей. Хакасия наступает как другое состояние, как полдень, как Новый год, как некое царство, которого ещё мгновение назад не было, ан вот, оно уже и есть, окружает тебя, поскольку ты в него попал по чьей-то доброй воле.
Что изменилось?
Всё. Всё в том смысле, что чуть поплыли привычные мерки, другими стали – цвет, свет, линия, ощущение перспективы, небо то ли побледнело, то ли сделалось выше и прозрачней, восток и запад распахнулись до предельно допустимых границ, выдавая своими очертаниями ощутимую закруглённость горизонта.
Я вдруг начинаю понимать что такое подлинная панорама. Барабинская степь не даёт панорамной картины: слишком много неба и слишком плоское и невзрачное поле по периметру. Горы Алтая грандиозны и монументальны, но там панораму возможно наблюдать лишь с вершины хребта и то лишь при хорошей погоде, в долине – горы над тобой самодовлеют, ты на них смотришь словно бы из колодца, вместо полёта и праздника пространства, ты здесь чувствуешь могущество Творца и ничтожество сидящего внизу. Алтай – это ярко выраженное волевое мужское начало, Алтай – это правота гениального художника, это орган в Домском соборе, это в чём-то даже агрессия и насилие.
Хакасия – полная противоположность золотой стране скифов.
В Хакасии нет четких границ, нет острых углов и резких линий, Хакасия полна женственности и материнства, словно древняя керамическая пиала полна до краёв молока кобылицы.
Хакасия – пологое лоно, золотые холмы, озёра, степи и синие округлые горы в три ряда вдоль всей обозримой оконечности мира.
На прибрежных отполированных ледником до блеска матёрых валунах Амура-батюшки можно отыскать удивительную галерею личин. Личины высечены на камне в незапамятные времена, возможно, потомки народа, их запечатлевшего на поверхности гигантских валунов, живут сегодня где-нибудь на другой стороне планеты, если вовсе не растворились, не вымерли, не исчезли вместе со своей мрачной эстетикой духовидения. Это именно личины, а не лица, не маски, не какие-то стилизованные изображения маскарадных чудовищ. Это образы Нижнего мира, с которыми, очевидно, соприкасались древние художники неведомого племени. Именно такие изображения получают на своих рискованных снимках спиритические фотографы, нечто подобное можно встретить в любой культуре, но, как правило, это всегда связано с проявлением тёмных стихийных сил.
Академик Окладников, во времена, когда ещё подобная роскошь позволялась науке, издал целый альбом в переплёте, на мелованной бумаге, где отобразил всю амурскую галерею личин, сделал её достоянием не только случайных рыбаков, искателей женьшеня или туристов-браконьеров, но – буквально всех, галерея личин стала предметом культуры, ещё одной дверцей в лабиринт первобытного сознания, хотя сам лабиринт от этого не перестал быть лабиринтом.
Я вспомнил об этом альбоме посреди хакасской степи. Здешние камни являются как бы мерой жизненного бытия, путь пролегает от камня до камня, от горы до горы, от скалы до скалы, каменный столб, каменная плита, каменная кладка на вершине холма, или изваяние, или жертвенник, или странная, загадочная оградка с вкопанными по пояс плоскими осколками сланца. А у подножия холмов и по берегам речек – целые залежи, целые россыпи, целые кладовые самых различных каменьев, каменюк, камушков. Здесь и глыбы песчаника от расщеплённой эрозией скалы, и окатыши галечника из гранита, мрамора, кварцитов, вулканического стекла и пемзы, здесь можно подобрать и полудрагоценные осколки, которые притащило полой водой с близлежащих Саянских и Кузнецких гор, а в сухом жёлтом поле, среди кустов степной травы, при везении отыщешь нефритовый наконечник стрелы, пластину ножа из цельного отщепа халцедона или даже полуиспользованный нуклеус с осколками палеолитического производства.
Не редки наскальные изображения.
Встречаются и личины.
Но вот что интересно, хакасские личины не имеют в своих очертаниях, в своём образе тёмной, инфернальной проекции, которая свойственна амурским и многим другим подобным изображениям. Эмоция, идущая от них – эмоция радости, если это и духи, то духи светлые, больше похожие на ангелов, недаром неотъемлемым элементом многих изображений являются лучи вокруг головы запечетленного духа.
Подобную каменную графику я встречал и на Алтае.
Это одна рука, одно сердце, один Род.
Народ же, который пользовался этими символами, несомненно, знал нечто высокое и сокровенное, несомненно и то, что светлое знание его не сгинуло в веках.
Сундуки… Это чашевидная долина в самой серёдке Хакасии, обрамлённая с севера и северо-востока восемью невысокими горами, которые в сторону долины имеют пологий спуск, а наружу, вовне, в степь обращены своей обрывистой стороной.
Они выстроились полукругом по линии какого-то древнего разлома.
Это словно какая-то полуразрушенная крепостная стена или циклопических размеров Колизей, возраст которого превышает миллион лет.
На самом деле – Сундуки, вероятно, первая и древнейшая на Земле обсерватория…
Посох, чаша, диск и ожерелье-гривна…
Эти предметы относятся к разряду самых-самых древних.
До последнего времени я не мог себе объяснить, не мог ни понять, ни предположить – почему именно так случилось, произошло, почему эти, а не другие предметы связаны с первоосновой художественного сознания древнего человека.
Сегодня я, кажется, догадываюсь где сокрыт ответ.
Эти предметы, наверное, первые абстрактные образы, некие предтечи понятий, их не существует в природе, они придуманы, созданы, сотворены.
Посох объединяет в себе признаки священства, власти, мудрости, в нём несомненное мужеское начало, он одновременно и жезл, и нож, и меч, и фаллос.
Чаша противоположна посоху, чаша как лоно, как форма для наполнения, чаша – сосуд, хранящий истину, питательный источник, в котором может быть и молоко, и чистая вода, и божественная сома. На поясе большинства тюркских изваяний обязательно присутствует кинжал, а в руке – небольшая пиала.
Диск – небесный символ, по преимуществу солнечный, но одновременно это и животворение, и хлеб (лепёшка, блин), и благодатный свет, и совершенство круга, и, конечно, колесо («коло» – круг). Из этой точки берёт начало всё астрономическое знание, за ним вся математика, а, стало быть, и вся механика вкупе с технологическим прогрессом.
Гривна – более сложный знак, гривна носилась на груди и представляла собой стилизованную спираль-лабиринт. Гривна, несомненно являлась отличительной принадлежностью древнейшего жречества. Уже позже, в неолитические времена, гривны стали изготавливать из металла, бронзы или золота, а первоначально гривна представляла собой тонкую овальную отполированную пластину из хорошего камня, на пластине в зашифрованном, закодированом виде содержалось всё то знание о небесных и земных циклах, которое палеоастрономы смогли накопить за многие тысячелетия наблюдений небесного свода. Точки, лунки, линии, зигзаги, вроде бы ни о чём не говорящий узор, но достаточно представить, что в сознании Предка ещё не существует того, что мы называем «знак», «символ», что всё его представление о мире построено в какой-то другой системе образов, что, возможно, знание открыто ему изнутри, по иному абсолютному каналу, которым дозволено пользоваться как раз тем, кто является частью Целого и не противоречит своим уже разумным существованием разумному устройству природы. Тогда эти ничего не значащие лунки, зигзаги, черты и резы обретают некий смысл, они становятся и числовым и образным ключом, с помощью которого Предок мог погружаться в суть небесных и земных процессов, постигать причины катастроф, предсказывать фазы благополучного существования… Думаю, что магия – гораздо более позднее изобретение человечества, все её приёмы есть лишь жалкие остатки всеобъемлющих способностей, но сохранённые в разрозненном варварском виде одичавшими после неведомых катаклизмов и утратившими способность к восприятию Целого потомками.
Рождение Адама есть рождение человека, лишённого памяти Рода. Адам – индивидуальность, самость, глухота,
В России до сих пор сохранилось атавистическое и одновременно архаическое начало, когда приходящий в мир не воспринимает себя как нечто исключительное, самоценное, уникальное. Русский или евразийский человек не редко относится к своему телесному бытию спокойно, фатально, поэтому терпеливое несение своей судьбы – не признак тупости и рабства, а корневое понимание себя как частицы великого потока. В этой системе координат не может быть ни страха, ни одиночества.
Всё-таки Блок был прав: впереди двенадцати красногвардейцев-пролетариев действительно шёл Христос.
Когда вырождается аристократия, а патриархи не могут уже хранить чашу с кровью Христовой неосквернённой, тогда, во избежание второго грехопадения, подымается ветер – ветер, ветер на всем Божьем свете – это не умещается в сознании, голод, эпидемии, массовые убийства, ненависть, правовой и нравственный релятивизм среди миллионов лишь вчера православных и верноподданных, а во главе всего этого, словно некий «сокрытый движитель», высший промысел – Христос Всевластитель, Пантократор, хотя, если вспомнить образы Сикстинской капеллы в Ватикане, то почему бы и нет.
Адамово проклятие, проявившееся в просвещённых и аристократических сословиях российского государства на закате империи, как и в эдемские дни, вновь повлекло на себя страшное возмездие. Поэты не врут. И «Возмездие», и «Двенадцать» – истина.
Но не только Блок.
Я знаю, насколько честен Гумилёв, когда он пишет о рабочем, который уже отлил для него пулю. Я верю Есенину, который с великой печалью оплакивает патриархальную деревню, но яростно желает перевоплощения родины, другой стальной Руси, хотя понимает, что плыть до нового берега придётся по реке, полной трупов, выгребая вместо вёсел обрубками рук.
Но, более того, я верю и Маяковскому.
Маяковский как не кто другой выразил порыв 150 миллионов – прочь от прошлого. Маяковский гениален во всём. Даже его поэма «Владимир Ильич Ленин» читается сегодня как правдивейший художественный документ о том, что же всё-таки происходило.
Блаженны нищие духом, блаженны чистые сердцем, не отягощённые сомнением, свято верящие в идею справедливости, в торжество царствия небесного, блаженны не боящиеся смерти, сгоревшие в огне Великой революции.
Им была открыта память Рода.
С их помощью Христос вывел Россию из лабиринта телесных прелестей и самоуверенного знания. Не стало ни пыльных вериг культуры, ни кастовых пут.
Зёрна от плевел, любовь от фарисейства, жизнь вместо рассуждений о жизни…
Тургенев в «Записках охотника» описывал отношение к смерти русских людей как нечто диковинное, не доступное пониманию, но несомненно достойное уважения.
У Бунина те же самые картины вызывают ужас, неприятие, отчасти даже брезгливость («Деревня»). Бунин, как парнасский житель, не удостоил даже сочувствия народ, впавший в безумный самоубийственный транс. А уж предположить, что этот транс открывает трансцендентальные горизонты он и вовсе не мог. Безумье – Божье наказание.
Но от безумия до откровения всего полшага, безумный и блаженный – близнецы-братья.
Андрей Платонов совершил то, что не под силу было выразить всей дворянской литературе во главе с графом Львом Толстым и его Платоном Каратаевым. «Котлован», «Чевенгур», «Ювенильное море» – это стихия высокого безумия, это метания в час, когда бессмертная душа народа разлучается со старым, ветхим, измождённым болезнями телом и уже видит сияние небесных кущ.
Но и сегодня это слепое следование судьбе («Бог дал, Бог взял», «что сгорит, то не сгниёт», «от смерти не отбрешешься») присуще большинству. Это не только старики и старухи по родным городам и весям, это ещё и зоны жизненного риска – солдаты, шахтёры, бандиты, бизнесмены и пр., словом, активная часть населения.
Живой поток. Он находит себе новое русло и новые берега.
Я словно бы вижу их.
Семь человек в балахонах из белых шкур, предводитель опирается на высокий посох, вершина посоха раздвоена, судя по всему он изготовлен из берцовой кости какого-то гигантского древнего животного.
Они идут цепочкой, гуськом, след в след по глубокому декабрьскому снегу, они начинают подъём по пологой тропе, которая серпантином опоясывает половину горы Чёрной (никто не может и предположить сегодня, как гора называлась в те доисторические времена), они начинают подъём ещё задолго до рассвета, чтобы в морозном сумраке дождаться когда первый луч солнца выскользнет из-за дальнего горизонта, совместит точку восхода с вершиной второго Сундука и упадёт на стену святилища чуть правее изображения лошади.
Профессор Ларичев говорит, что это происходило не менее, чем 20000 лет назад.
До Адама. До Потопа.
Собственно, можно даже попытаться в это поверить, но проку от этой попытки никакого. Представить сей масштаб времени не по силам для нашего сознания, зажатого в рамках хронологической истории. Но если немного отстраниться, забыть о существовании дат и запечатленных цифрами столетий, то возникнет единое поле времени, некий эпический мир, замкнутый в кольцо. Год в этом мире длится 41000 лет в нашем исчислении, именно столько требуется плоскости эклиптики, качнувшись на два с половиной градуса по отношению к небесно-звёздному экватору, вернуться в прежнее состояние. И ночь, и день, и утро, и вечер, и цветение, и созревание, и грозы, и снегопады, и много разных событий внутри этого Великого Кольца, – но, тем не менее, это всего лишь год.
Почему бы и нет.
Почему невозможно такое восприятие времени?
Тогда человеческая жизнь уложится в какие-нибудь три миллиона лет. Именно эту цифру называет палеоантрополог Мочанов, который уже второй десяток сезонов копает на берегу Лены под Якутском. Мочанов упрям и гораздо более удачлив, чем академик Окладников. Он уже много чего накопал и скоро докажет не только коллегам по институту, но и всему миру, что сибирский человек взял в руки каменное рубило гораздо раньше, чем обитатель Восточной Африки, череп которого посчастливилось найти англичанину Луису Лики в Олдовайском ущелье на севере Танзании как раз в том году, когда я появился на свет.
С площадки, которая расположена в трёх-пяти десятках метров от вершины горы Чёрной, можно наблюдать почти весь дальний горизонт, за исключением лишь западной и северо-западной стороны, закрытой стеной красного песчаника, что понимается прямо к вершине.
Здесь тихо.
Мощный козырёк и скальные выступы оберегают святилище от пронизывающего ветра. А если соорудить что-нибудь вроде шатра и развести очаг, то вполне можно вести стационарные наблюдения за небесным куполом непрерывно, в режиме научно-исследовательского института. В Хакасии мало пасмурных ночей.
Белая лошадь с длинным хвостом и передними ногами, как бы погружёнными в воды Леты – единственное наскальное изображение, которое обнаружено на площадке древней обсерватории. По сути это микробарельеф – в месте известкового натёка на плоскости красного песчаника «доПотопный» художник выскоблил лишнее и оставил на красном фоне как бы аппликацию белой лошади.
Изображение находится в неглубокой, но защищённой от эрозии нише на высоте человеческого роста и почти всегда освещается первыми лучами восходящего солнца. Единственный месяц в году, когда этого не происходит – декабрь.
Удивительно, но именно в декабре на небосводе невозможно увидеть созвездие Льва, которое, по мнению многих учёных, человек каменного и бронзового века именовал созвездием Лошади, беременной кобылы. Именно такая лошадка изображена на стене хакасского святилища, а десятки подобных изображений можно встретить в галереях пещерного искусства Франции, Испании и во множестве других мест.
«Хорс» – этим словом англичане до сих пор называют коня.
Хорс – золотой Конь-Солнце у древних славян.
Храм-обсерватория Стоунхэндж на плоской равнине Британии был посвящён именно Хорсу.
Сопровождаемый ветрами, стрибожьими внуками, Хорс кружит на Северным полушарием, дожидаясь того часа, когда созвездие Лошади приблизится к восточному горизонту. Это происходит лишь в последних числах ноября. Златобедрый жеребец настигает свою возлюбленную, и они уединяются в небесных долинах, невидимые никому. Целый месяц длится их союз, в это время Солнце лишь на короткое время показывается над горизонтом, происходит сокровенное, Лошадь становися жерёбой…
И когда первый луч солнца, скользнув по вершине второго Сундука, впервые после сакрального периода Тьмы, упадёт на пузатое изображение Белой Лошади на стене святилища, можно славить бессмертие Хорса, можно зажигать праздничные огни, можно устраивать пиршество, танцы, можно петь гимны в честь небесного союза – начался Новый год.
Кто ответит, возможно ли десяток, а то и более тысячелетий подряд, изо дня в день, из года в год вести наблюдения за небесным сводом, скрупулёзно фиксируя все события, все изменения, все повторяющиеся звёздные циклы?
На протяжении этого периода много раз меняется климат, происходят катастрофические деформации Природы. Растительный покров, животный мир, влажность, снежность, облачность, атмосферное электиричество, сейсмичность – во всём происходят многократные грозные метаморфозы. Ничтожное человеческое тело с его нынешними механизмами самозащиты и саморегуляции неминуемо должно было бросить все силы на то, чтобы выжить, не исчезнуть в годы экстремумов и катаклизмов, тут не до научных наблюдений, где время эксперимента растянуто на несколько десятков поколений. Но если обсерватории в Хакасии, в Стоунхендже, в некоторых других местах, о которых мы пока мало знаем или не знаем совсем, работали весь этот необозримый период, то следует предположить, что человек во времена палеолита был другим, возможно, речь идёт о некоей особой расе, но, скорее всего, органическое бытие внутри Природы давало Предку почти неограниченные возможности, утраченные впоследствии.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; – вам сие будет в пищу…
(Бытие 1: 27—29)Если безо всяких метафор и толкований, то из этого священного текста прямо вытекает, что человек сразу после Сотворения был полновластным хозяином всего животного и растительного мира, всё на земле подчинялось его Слову и вовсе не обязательно, что это Слово имело звуковое выражение.
И второе. Человек, созданный по образу и подобию Божию, питался лишь растительной пищей – злаками и древесными плодами.
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдуну в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.
И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.
И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбр его, и закрыл то место плотию.
И Создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку.