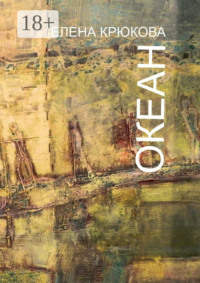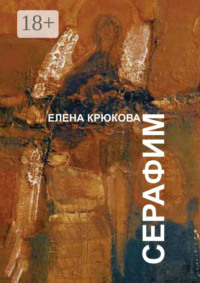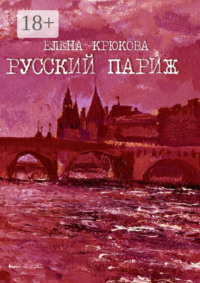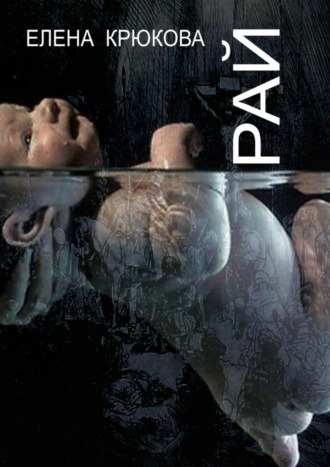
Полная версия
Рай
«Моряк. Когда-то ходил в море на кораблях. Моря, океаны. Акулы… летучие рыбы…»
Он прыгнул на нее сверху, как хищник прыгает на жертву, и бесполезно было сопротивляться, царапаться, бороться и визжать. В последний миг, во мраке затхлого подвала, она успела увидеть его вздыбленный, истекающий соком сук и поразилась его уродству и величине. Сцепить зубы, чтобы не орать. Вопли делу не помогут.
Помог ей он сам, всунув ей в рот – она и пикнуть не успела – грязный носовой платок, пахнущий дешевым парфюмом и кошачьей мочой.
Он содрал с нее джинсы. Стал расталкивать ей коленями ноги, а она все сжимала их, до тех пор, пока поняла, что надо уступить, время пришло.
Всему приходит свое время: гибели и рождению, гниению и зачатию.
Мужчина пыхтел и скрипел зубами. Всунуть суковатую палку в разымчивое пылающее женское мясо было делом двух секунд. Но он не предполагал, что должен порвать плотную завесу и пролить первую кровь. Это уже требовало особого труда. Он бил и бил в туго натянутую кожаную складку, пока не прободал ее, как бык рогом ребро неумехи-тореро. Уд скользнул в сосуд без дна, утонул, потерялся в нем. Девчонка, стерва, изловчилась и выплюнула самодельный кляп. Да как вопьется зубами в его губу!
Боль от укуса возбудила его, он задвигался сильнее, злее, мощнее. Грузней навалился на бьющееся под ним тело. Он заставит ее плясать и плакать! Орать во всю глотку! Она поймет, что такое страсть! С ним… с ним…
Человек обнимал человека. Сначала насиловал; но оба, и мужчина и девочка, ставшая женщиной, не поняли, когда насилие стало переходить в удивление, изумление – в тягу, борьба – в наслаждение, прощение – в прощание.
Они оба склеивались телами, руки наползали на руки, живот, плавясь, приваривался к животу, и они чувствовали – да, вот, вот оно. Два человека так неистово, неимоверно погрузились друг в друга, что тела на короткое, неуловимое мгновенье стали душами. И две души упоенно обняли друг друга и, летя под потолком, смотрели на самих себя, тесно и чисто сплетшихся на земле, на черном грязном спортивном мате. Души улыбнулись друг другу: так вот как бывает! – а тела вздрогнули и прижались еще теснее, еще неразрывней.
Руди перестала ощущать себя. Прекратила чувствовать боль. Ей сначала было больно, а потом боль стала уходить. Боль уходила, улыбалась ей и махала на прощанье рукой: прости, девочка, мы не увидимся больше, прощай. Руди зажмурилась и нашла губами прокушенную губу своего первого мужчины. Она не понимала, что она сейчас, вот сейчас, не зная, не думая, что происходит, целует его.
И мужчина это понял. Такой поцелуй дорогого стоил. Он крепче обхватил Руди руками, просунул ладони ей под лопатки, ощутил шершавой кожей ее слишком нежную, как у новорожденного поросеночка, теплую кожу. Она вся горела. Он, чувствуя, как странно горячим, податливым становится у него то, чем он кромсал и пронзал эту трусливую овцу, этого уличного найденыша, мусорную конфетку, ощутил прилив крови не к мошонке – к груди. В том месте, где у него давно не билось мертвое сердце, теперь возник теплый ток.
Ток струился и вытекал. Внизу все напрягалось и твердело, а вверху, там, где близ захлестнутой умилением глотки порывами билась вновь обретенная нежность, все таяло, мерцало и испускало лучи. Что за чертовщина, подумал он о себе зло и досадливо, что за дьявольщина, ты что, мужик, что тебя развезло, что ты как пьяный, как школьник за гаражами! Но он не тело обнимал под собой – живую, теплую, страдающую душу.
Единственную.
– Единственная, – странно, умалишенно выдышал он в теплое женское ухо, подвернувшееся под его дрожащие губы.
Они оба подались друг к другу. Женщина забилась под ним. Он подхватил ее ритм. Он становился попеременно то тяжелым, то бестелесным; то огненным, то ледяным; его бросало из огня да в полымя, он становился то зверем, то человеком, то ветром, то птицей, и вдруг, сам не понимая как, обратился в крохотную частицу плоти – в себя самого, ставшего невидимым быстрым мальком, плывущим к алой, набухшей счастьем и жизнью икре. «Я уже на крючке, я в плену, мне не выбраться», – подумал он сам о себе остатками мыслей. Они оба бились и вились вьюном, обвивали друг друга. Пальцы становились ртами, рты – срамными губами. Они видели сердцами и молились потрохами.
Одно мгновенье. Миг вдоха; миг выдоха.
Обняться еще крепче – и, крича от радости, выйти вон друг из друга, как ветер выходит из туч, насквозь пронзая распятую внизу черную, гиблую, мокрую землю.
Ты помнишь, как все было дальше?
Мужчина скатился с тебя. Встал, кряхтя. Долго обтирал ладонями, подолом рубахи окровавленный штык. Застегнул пуговицы; тем же крепким узлом завязал рубаху на животе.
– Ну что? Понравилось?
Голос ножом разрезал тайну. Тайны больше не было.
Руди слепо уставилась в стену. Грязь на стене складывалась в неведомые узоры: потеки и сопли сырости, осыпавшийся кирпич, рисунки мелом, следы тараканов, волокна паутины, процарапанные железом непристойные надписи.
И надо всем великолепием канувшего в небытие людского орнамента, нелепой вязи бытия, горело, написанное подсохшей коричневой кровью:
DUM SPIRO SPERO
Мужчина не знал латыни. Руди тем более.
Руди протянула руку и потерла кончиком пальца кровавые иероглифы.
– Что трешь? – спросил мужчина, уже стоя у выбитой двери. – Стереть хочешь? Силенок мало у тебя.
Мужчина поглядел на ее рюкзак.
«Сейчас отнимет. Заберет. И провалится. Навсегда».
Он перехватил ее взгляд и усмехнулся колючими, в рыжей щетине, губами. Пригладил волосы. Красные водоросли на волосатых руках гадко шевелились.
В дыру, прежде бывшую дверью, врывался свежий ночной ветер. Холодало. Надвигалась осень. А за ней во весь рост вставала зима, потрясая ледяными ветвями, набухшими вьюгой тучами.
Мужчина сделал шаг за порог, последний шаг, и Руди не сказала ему в спину ничего; ни слова.
Огонь. Как хорошо смотреть в огонь.
Она крепче обняла колени. Наблюдала, как гас костер. Осталось совсем немного жизни пламени. Может, полчаса; может, еще меньше. Тихая ночь, холодная осень. Скоро придет зима и все заметет. И живых, и мертвых; и боль, и радость.
Ей почему-то не хотелось спать здесь, с этими людьми. И не хотелось спать вообще. Она потрогала ногой рюкзак: ровно половина еды у нее осталась, а может, и того меньше. Задрала голову и обвела взглядом мрачный строй пустых домов.
Там холодно, а здесь огонь. И там, в домах, может таиться враг.
Руди глубоко вздохнула. Говорили, что сейчас нельзя глубоко дышать – вдохнешь отраву, быстрей умрешь. Люди умирали, кто плача и крича, кто безропотно и молча; она, идя по дорогам, видела, как корчились под кустами, царапали железо моста обреченные. Она часто думала о себе: вот я тоже скоро умру. Но ее тело, хоть и отощавшее, было еще сильно молодостью и жестким, жестоким сопротивлением гибели.
Где мать? Где Кролик? Об отчиме она не думала.
Может, они давно уже…
Мысль рвалась ветхой нитью. Мимо щеки полетели странные белые клочья. Она потерла лицо кулаком, будто спросонья. Зажмурилась, опять вздернула ресницы. Снег. Это шел снег, а она о нем тоже забыла. Думала: вот старая серая вата летит, как в театре, на спектакле, из-за кулис.
Поежилась. Брезентовая куртка спасала от холода только летом. Счастье, она успела натянуть на себя перед бегством из дома старый отцовский свитер.
Она очень любила отца. И помнила его. Его лысую, вечно загорелую блестящую голову; нежный, снежный пушок вокруг лысины. Его мощные, моржовые усищи, солнечную улыбку, родинку на подбородке. И руки, эти руки, что так высоко подбрасывали ее, малышку, в воздух. И сад, где она давила сливы и яблоки ногами в босоножках, похожих на утят; а отец вразвалку шел за ней по тропе и кричал ей в спину: «Рудька, слива падает, лови!»
Свитер колол грубой шерстью локти и предплечья. Она вскинула поклажу на спину. Вперед. Она все равно не уснет. Значит, надо не тратить ночь на бесполезный отдых, а идти.
Через пару минут она уже пожалела, что отошла от привала молчаливых людей.
Женщина изначально трусиха; но и дюжий, ражий мужик тоже может забояться, один в ночи, в мертвом городе.
Оглянулась: огонь догорал. Огонь подарил ей воспоминания, которых она не хотела. Зачем они приходили к ней? Все, теперь она никогда про это все не вспомнит. Ни к чему.
Прощай, огонь. Не встретимся больше никогда.
А жаль.
Руки, согревшиеся близ костра, уже начали мерзнуть. Под подошвами хрустел лед. Лужи схватились наледью, отсвечивали сизым сливовым налетом, чернотой сапога. Руди глянула на свои чудовищные башмаки. Они достались ей в наследство от того мужчины в язвах, что стал ее первым любовником.
«И последним».
Он так торопился уйти от нее, что ушел босиком.
А она, когда тяжело встала с бетонного пола подвала, обтерла с бедер кровь скомканными трусиками, озиралась беспомощно и жалко, как подстреленный зайчонок, обхватывала себя за плечи еще сведенными судорогой объятья руками, – увидела: стоят башмаки, и он ушел без них, и она босая, и значит, можно надеть чужую обувь, и значит, теперь дорога не изранит ее ноги, и пятки не покроются коркой крови и пыли, и гвоздь не вопьется, и камни не исколют. Воткнула ноги в башмаки. Ее плоть впрыгнула в чужую жизнь. Обувь еще хранила тепло хозяина. Руди стало и противно, и уютно. Будто она подсмотрела чужое купанье в замочную скважину.
А теперь она привыкла к этим башмакам, как каторжанин привыкает к колодкам.
Тупо, тяжело переставляя ноги, она уходила, удалялась от пристанища, где не ее ограбили – она сама отдала половину своей оставшейся жизни людям у костра.
Всем им? Тому мальчику, что так пристально смотрел на нее.
Улица сужалась, втягивая, всасывая ее в пугающую воронку. Руди оглянулась в последний раз на огонь.
Его уже не было. Все. Потух.
«Прошагать эту улицу до конца. И город кончится. И что? Выйти в поле? На берег реки? Там ночевать нельзя. Там волки, лисы. Одичавшие собаки. Значит, идти. До утра».
Она поправила ремни рюкзака на плечах. Ноша облегчилась. Руди шагала и шагала, и постепенно ритм ее шагов заставил ее успокоиться.
И, как только она успокоилась, – сзади нее послышался шорох.
Она резко обернулась как раз в тот момент, когда ее цепко схватили за локоть.
Она вывернула локоть. Ее схватили за другой.
Мужчина и женщина, оба ниже ее ростом, почти лилипуты, карлики, вцепились в нее – не вырваться.
– Эй, вы, – глухо сказала Руди, – что вы? Пустите!
Люди крепко держали ее за локти, с ненавистью глядели на нее снизу вверх и молчали.
– Что я вам сделала?!
Лысый карлик процедил на языке, не ее родном, но похожем на ее язык, и она поняла:
– Пища. Нам надо пищу. Еще нам надо одежду.
«Ударить его ногой в живот?! Ее – пяткой в рожу?!»
Женщина походила на лохматую собаку чау-чау. У мужчины на узкой тонкой шейке бессильно и сонно, как у китайского бонзы, болталась слишком большая, круглая, тяжелая голова.
Чау-чау гавкнула:
– Давай! Живо!
– Что – живо?
– Снимай!
Карлица стукнула ногой по ее башмаку.
Руди, как во сне, стянула ногой сначала один башмак насильника, затем другой.
Стояла босая на покрытом изморозью асфальте.
Чау-чау упрятала ее башмаки в два кармана: в один и в другой.
И это китайский бонза, а не она его, ударил ее ногой в живот так больно, что она заорала и скрючилась, и лямка рюкзака поползла вниз с плеча, и тяжко плюхнулся мешок с едой на камни, а женщина-собака прыгнула на него и придавила грудью.
Бонза выхватил из кармана нож и ловко разрезал ремень. Рюкзак был свободен от хозяйки. Он уже принадлежал не ей.
Руди стояла, держась за ушибленный живот. Слезы текли по лицу.
«Стыд. Плачу. Две козявки ограбили меня! Уж лучше бы я всю еду отдала тем, у костра! Лучше бы я осталась вместе с ними!»
Она выпрямилась, зло сверкнула глазами. Сделала шаг к грабителям.
«У них нож, а у меня ничего. Голые руки».
И этими голыми руками она слепо полезла в карман брезентовой куртки. И выдернула оттуда зажигалку. Она никогда не курила, и это была не ее зажигалка. Это была старая зажигалка отца. И, возможно, никакого бензина в ней уже в помине не было.
«Папа! Помоги!»
Крутанула колесико. Раз! – не зажглось. Другой! – нет огня.
«Дай огня. Папа, дай огня. Дай!»
Третий раз.
Карлики смотрели как заколдованные.
Они не знали, что произойдет.
Огонь пыхнул между пальцев Руди. Язычок огня. Язык пламени. Мощь света. Приговор. Обряд. Счастье. Горе. Торжество.
Она сунула пламя прямо в глаза китайскому бонзе. В один глаз. В другой.
Прыгнула к чау-чау. Ткнула горящей зажигалкой в спутанный лес ее грязных волос. Волосы занялись, как сухая солома.
Чау-чау завыла, присела на корточки. Китайский бонза вопил, прижимая к обожженным глазам кулаки. Руди подобрала с земли рюкзак и бросилась бежать.
Ледяной асфальт и острая щебенка обжигали, кусали босые ноги.
Она не добежала далеко. Вытянув руки, полетела носом вперед.
Через улицу была натянута тонкая леска.
Чау-чау, с горящими волосами, воя по-волчьи, подскочила к Руди, вскочила ей на спину и танцевала на ней страшный танец. Бонза кинул подруге нож. Женщина-собака, для острастки, резанула ножом по спине Руди – раз, два. Теперь закричала Руди.
– Не убивайте! Не надо!
Чау-чау, задыхаясь, встала на карачки на спине Руди и выкрикнула над ее ухом:
– А мы и не будем! Мы только потешимся! Мы тебе ухо отрежем!
Выпавшая из руки зажигалка валялась на обочине.
Руди извернулась и сбросила с себя карлицу. Изо всей силы пнула ее, как пинают футбольный мяч. Она чувствовала: по спине, по ребрам течет теплая кровь. Больно не было. Было страшно и весело. Скрючив пальцы наподобие когтей, она побежала на карликов, устрашающе разинув рот и издавая звериный рык. Они повернулись и побежали прочь.
Бежала она. Бежали они. Они бегали быстрее. Круглая голова бонзы моталась из стороны в сторону. Чау-чау превратилась в живой факел. Она кричала непрерывно, на очень тонкой ноте, пронзительно и невыносимо.
Когда Лысая Башка и Горящая Голова скрылись за поворотом, Руди без сил села на землю и зарыдала сухо, без слез. Вспомнила, как отец водил ее ребенком в цирк. Там вставали на хвосты, хлопая ластами, морские львы, а под куполом летали, как стрекозы, красивые гимнасты. А в перерывах между номерами на усыпанную опилками арену выбегали два клоуна – один черный, другой рыжий. И у рыжего, нарумяненного ярче яблока, так смешно вырывались из глаз фонтаны слез. А черный заботливо вытирал ему глазки громадным, как ковер, носовым платком и тоненько пищал: «Не плачь, зайчишка! Зайчишка, не плачь!»
Не плачь, зайчишка. Тебе бы сейчас такие слезные фонтаны. А слез нет. Уже все выплаканы давно.
Она вернулась на то место, где она зацепилась ногой за леску и упала. Нехитрая ловушка, а вот она попалась. Нашла острый камешек, пыталась разрезать леску. Получилось. Это неважно. Привяжут снова. Люди ловят людей. Что ж, после смерти и это возможно на земле.
Подобрала зажигалку. Крутанула колесико снова. Снова зажегся огонь.
Она смотрела на пламя.
«Гори, огонь. Гори снаружи. Гори внутри меня. Все на свете огонь. Человек выпустил силу огня наружу, и сила убила его. Но тот огонь, что внутри, не убить. Я умру – а этот огонь будет жить. Милое пламя. Бедное, маленькое пламя. Какое ты крошечное, жалкое. Какое ты любимое. Как я люблю тебя».
Язык огня бился на холодном ветру.
Женщина улыбалась ему.
Она улыбалась ему улыбкой безумной и счастливой.
Когда огонь погас, женщина встала.
Медленно пошла по дороге, вдавливая босые ступни в изрытый трещинами асфальт.
Месяц второй
Страх
Слепота. Навек сужденная слепота.
Он жив, но не видит. Он чувствует – надо ползти вперед.
Что есть «вперед»? Что есть «не видеть»?
Вперед – это значит: двигайся. А видеть можно всем собой: кожей и кишками, желудком и хвостом. Хвост это или голова, какая разница? Хвост может становиться головой, и наоборот. Красная, черная, рыжая, теплая яма. И ты в ней – червь. Червяк.
Ползи, пробивай кольчатым телом тьму. Это твоя земля. И ты живешь внутри своей земли свою жизнь. И ничью другую.
Безглазый скользкий червяк, он полз на ощупь, и он начинал чувствовать.
Что такое чувство? Иной раз он скрючивался, сворачивался в кольцо, и тогда чувствовал: он защищен. Иногда выпрямлялся, а потом кувыркался, и чувство шептало ему: ты преодолел, ты достиг.
Зарождение ощущений занимало червя. Он на йоту продвигался в темной и теплой, глубокой яме – и довольство охватывало его; он замирал, прислушивался к себе, его изнутри распирал приятный жар. Это еще не было наслаждением. Застывая в неподвижности, он предоставлял самому себе свободу чувствовать. И свободу забывать о новых ощущениях.
Поэтому все, что он чувствовал вновь и вновь, было для червя воистину новым, неведомым.
Однако он жил в царстве тьмы; и тьма была главной; и тьма была невидимой; и тьма была пустотой; и тьма была густотой; и тьма была ямой.
Яма защищала и берегла. Яма пугала и настораживала.
В яме можно было спрятаться навек, навсегда, укрыться, чтобы тебя никто никогда не нашел, не раздавил, не смял, не пронзил иглой. Червь чуял: кто-то неведомый, гораздо больший, чем он сам, гигантский и страшный, может сплющить его, разрезать острым и жестким, насадить на тонкое, твердое и длинное.
Это была память боли; он еще не помнил ничего, а уже чувствовал боль памяти.
Этот некто, огромный, опасный, иногда ощущался червем, как тьма во тьме, как еще более глубокая, бездонная яма – под ямой, бывшей его обиталищем.
Червь уже чувствовал тепло и холод. Тепло было похоже на вспышку огня – он ловил ее всей тонкой гладкой кожей, а еще тончайшей теплой нитью, проходящей по всему его телу, от головы до хвоста, а потом от хвоста опять к голове. Струйка огня бежала по живой дрожащей внутренней нити, воспламеняя ее, и он разогревался изнутри. Снаружи, во тьме, все тоже начинало пылать и согреваться. Червь и яма становились одинаково теплыми, добрыми и ласковыми; через миг – горячими; еще через миг – пылающими. Слишком сильный жар опасен, говорило ему робкое и верное чувство, не радуйся слишком, не торжествуй усердно.
И опять наваливалась тьма; она качала червя на мощных слепых руках, погребала под собой, заваливала комьями, и он едва шевелился под горами тьмы, бездыханный; а потом незрячая голова с упорством безысходности находила, торила, пробивала, прогрызала путь, и он полз по пути, ибо с пути свернуть нельзя было.
Червь ловил первые толчки материнской крови. Это было так странно.
Тьма – мать.
Это он чувствовал всякий миг, он не стал бы с этим спорить, если бы имел разум.
Каждый раз это было так неожиданно.
Вот он ползет, ползет – и замирает. Хочет отдохнуть. Все время двигаться нельзя.
Он замирал на века. На сотни столетий. Время переставало течь. Яма прекращала расширяться и сужаться. Верх и низ менялись местами. Голова обращалась в веселый хвост.
Конечное становилось бесконечным.
Тьма расширялась до пределов ощущаемого мира.
И в тишайшей ласковой тьме рождалось биение.
Тук-тук. Тук-тук.
Это билось сердце матери-тьмы; и он, впервые поймав этот далекий ритмичный стук, содрогнулся: пришло чувство, что вот сейчас на него накатит дикая красная волна, воздымется высоко над ним, потом обрушится на него, такого малютку, крошечного червячка, и смоет его в алый безбрежный, бездонный, довременный океан.
Стук повторился. Червь дрогнул всей скользкой кожицей.
А может, я уже не червь? Может, я уже способен на большее?
На что? Кто ты, если ты только научился чувствовать? Кто ты, если ты слеп, и слепа твоя мать, тьма, вокруг тебя?
Червь прислушался к себе.
И он ощутил в себе страх.
Страх. Он не чувствовал такого раньше.
Страх. Темный, темнее его родной ямы, страх.
Страх проникал под кожу. Забирался в тонкую вязь нитяных сосудов, в кровавую путаницу первозданных кишок. Было ли у червя сердце? Он не знал; он чувствовал – да, есть под кожей маленький теплый комок, и он отзывается на удары тьмы извне; одно биение тьмы – десять биений булавочного сердечка между двумя содроганьями слизистых, скользких колец.
Откуда явился страх? Червь не знал. Он то сжимался, то разжимался, пытаясь страх побороть шевеленьем, движеньем. Страх не уходил. Он не давался червю; он был во много раз больше и сильнее червя, и червь ощущал: не надо воевать со страхом, надо впустить его в себя.
Чувство, не обмани меня. Чувство, не подведи.
Чувство, подскажи, как лучше.
Что лучше: сражаться или уступить. Напрячься или расслабиться.
Страх сдвоенным стуком темной крови ударил опять – и червь притворился слабым, вялым, сонным, плывущим по темной, непроглядной воде беспамятства.
Червь поплыл, стал невесомым, превратился во влажный плоский лист на поверхности темно, горячо бьющейся тьмы.
Яма вздохнула. Раз, другой.
Выдохнула из себя страх.
Волна страха накатила опять, и червяк, расслабленный, переставший быть червяком, ставший волной, ямой, кровью, тьмой, подплыл под волну, погрузился, потонул, и ему было уже все равно, всплывет он или нет, будет он жить или нет.
Раствориться во тьме. Растечься кровью по чужим черным жилам.
Распасться на искры. На вздроги. На страшные удары: тук-тук, тук-тук.
Он старался повторять ритм ударов. Он сжимался: тук! – и потом разжимался: тук… Он приспособился к биенью тьмы. Он приноровился.
Чувство: а если расслабиться так, чтобы открыться, чтобы впустить в себя мать-тьму?
Что, если самому стать тьмой?
И снова непобедимой волной поднялся страх.
Теперь уже не извне: изнутри него самого.
Страх слеп. Страх не может видеть.
Страх вечен: таков страх смерти.
Червь уже жил, и червь боялся умереть. Не быть.
Червь чувствовал, а когда взрывался страх, червь забывал чувство. Червь наслаждался, а когда краснота страха накатывала и топила его, он забывал, что у него есть радость.
Страх убивал все, и, что странно, страх рождал все. Дойдя до предела первобытного, безглазого, слепого страха – вместо глаз оскал зубов, вместо рта железная щель, вместо крика ползущая слизь, – червь сворачивался в кольцо, стремясь укрыться в самом себе – и тут внутри него начинала раскручиваться огненная пружина: она разворачивалась, распрямлялась, и он распрямлялся вместе с ней, сбрасывая с себя страх, как старую кожу, как высохшую чешую, все в нем дрожало, ощущая мир, тьму, жизнь, яму, мать по-иному; тук-тук, тук-тук! – билась кровь матери, и червь жадно ловил телом это струение, обещание будущей встречи.
Стук говорил ему: не бойся, это молот жизни стучит в тебя; первый сон стучит в твою теплую кожу; это проблеск сознания напоминает о себе, потому что он помнит тебя, а не ты помнишь его. Не мать-тьма выбрала тебя; ты выбрал ее, ты нашел ее из многих матерей, во многой тьме, и, слепни не слепни, ты однажды прозреешь.
Страх – рост живого, а ты живешь, и ты растешь. Ты увеличиваешься с каждым днем. Ты еще не понимаешь, что ты набираешь силу – за тебя это понимает мать. Ты еще не выбрался из ямы – это твоя пещера, твой земляной храм, и ты в нем молишься лишь слепому, яростному току крови, ударам боли и страха. Ты не хочешь рождаться, тебе хорошо во тьме; но ты родишься когда-то.
И ты так боишься родиться!
Ты боишься рождения, ибо оно для тебя – смерть. Тьма большая, чем та, в которой ты ползешь, плывешь, спишь и бодрствуешь сейчас.
Ты ощущаешь: в яме даже страх хорош. Все можно вытерпеть.
Ты не хочешь вылезать из ямы. Это твой дом.
Ты готов быть всю жизнь слепым: так прекрасно не видеть.
Червь боялся расти, потому что рост, он ясно ощущал это, мог привести его к бесповоротному; к тому, чего не миновать. И это пугало больше всего.
Что значит жить? Жить – каждую минуту и каждую секунду подвергать себя опасности. Близости смерти. Живой, живущий каждый миг стоит над пропастью. Живой боится смерти. Но ведь все не жили когда-то. Нас не было. Так кто же ты такой, маленький слепой червяк?
Он хотел выползти из ямы, потому что рос и рос.
Он хотел навсегда остаться в яме, потому что не хотел расти.
Рождение для него было смертью: он уже жил, и ему казалось, он жил всегда. И всегда был слеп. И всегда копошился на дне теплой земляной, могучей, страшной ямы.
Прогрызть ход. Проточить лаз.
Пролезть туда, где ты еще не был!
Продырявить страх и вылезти с другой его стороны: а что там?
Пронзить собой время, свернувшееся в кольцо: а может, ты первый проложишь путь сразу в другой век, в иное бытие, минуя огромную, длинную, мучительную дорогу тысячелетий, дорогу тысяч жизней? Время – то же пространство. Прогрызи пространство, и ты выйдешь во времени ином. Червь не прост, он может совершить чудо. Пусть он слеп, он видит то, что все, кто жив и зряч, забыли.