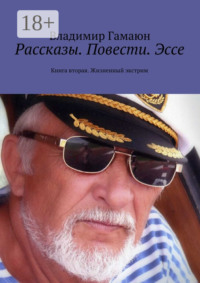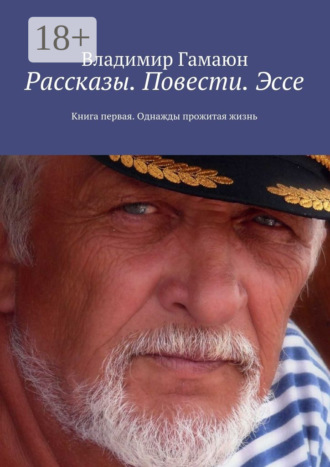
Полная версия
Рассказы. Повести. Эссе. Книга первая. Однажды прожитая жизнь
«Да что же ты, сынок, даже не предупредил нас?» – «Предупреждают, мам, чужих людей, чтоб не приехать не ко времени, а я приехал домой, а потому будьте мне рады и скорей накрывайте на стол, но сначала, для торжественного получения подарков, подбегай по одному. Ты, мам, как и всегда, без очереди». Гостинцы и подарки разошлись как горячие пирожки, и вся родня сделала вид, что премного довольна, а местами даже счастлива.
Маман срочно командирует «младшенького» (дылду) в гастроном, и я тоже, хорошо зная маму, успеваю сунуть брату деньги. Он испуганно глянул на купюры, глаза у него сделались квадратными: «Что, на все?» – «На все, на все и про пиво и сигареты не забудь», – «Так мне придётся делать две или даже три ходки?» – «Хоть четыре, это уже твои проблемы». – «Так, может, я сначала всё в подвал занесу да между бочек спрячу, а потом потихоньку и будем доставать, не то маму инфаркт хватит, она же уверена, что одной бутылкой водки весь дом споить можно». Пока младший выполнял моё и мамино поручение, по звонку мамы приехали ещё два брата со своими маленькими чадами и взрослыми домочадцами. Мама до слёз рада: «Слава тебе, Господи, хоть раз все собрались, слетелись, а я уж думала, что не увижу вас всех вместе до своих похорон».
Младший, Толян вернулся с покупками, всё отдал маме, заскочил в свою комнату, и там что-то звякнуло, но я сразу понял, что это: одна звенеть не может, а две звенят не так, значит, на первое время нам, четверым мужикам, хватить должно, а там перейдём и к запасам из подвала, куда сейчас Толик доставит и пиво, и достаточное количество водки, благо, что квартира находится на первом этаже, а сам подвал под квартирой. Это как раз то, что называется, в шаговой доступности, мечта домохозяйки и алкоголика.
Накрывая на стол, мама загорелась желанием угостить меня домашними бочковыми солениями, до которых я всегда был большой охотник, да и на стол ведь надо. Тут возвращается уже счастливый братан, и мама посылает нас обоих в подвал за капусткой, огурчиками да помидорчиками; как в воду глядела старая и будто знала, что нам туда нужно позарез.
Застолье
Спускаемся в подвальчик и, мама миа, что за божественный запах царит здесь для меня, давно забывшего запах укропа, чеснока и всего того, чем только могут пахнуть все эти соления. Человеку средней полосы и южных районов никогда не понять, что самый лучший северный посол огурцов, помидоров и капусты, в банках же не идёт ни в какое сравнение с теми же овощами, но бочкового посола. И ни в какой банке не получится хрустящего, ароматного огурчика или готового лопнуть от избытка сока и рассола помидорчика. Братан показывает, где затарено спиртное, мы набираем чуть ли не ведро солений, не забывая и про капусту, и несём домой. Мама, конечно, удивилась нашей жадности, но мы дали слово, что ни одному огурцу или помидору в мусорное ведро дороги не будет и что всё пойдёт в дело, так оно и случилось.
Посидели мы хорошо: от закусок, как и положено у русских, ножки стола подгибались, пиво мы пили из больших фужеров, а водку – как японское саке – из маминых напёрстков, при этом делая вид, что она доходит до горла; на самом деле эти граммы растекались по языку, и в желудок попадала только противная слюна. Но в спальне у брата стояла и водка, и нормальные гранёные стаканы и, исчезнувшая у мамы прямо с кухонного стола, большая миска с филе малосольной мойвы, закусь что надо.
Два брата с семьями скоро откланялись: им утром на работу, они вызвали такси и уехали. Мама была просто счастлива оттого, что все почти трезвые, а в бутылке на столе даже немного осталось: «Вот видите, дети, всем хватило, вот что значит, культурно пить. А мы с ней и не спорили и во всём соглашались, а потом пошли в спальню к Толе и вдвоём допили последнюю, пятую бутылку водки, а то, что находилось в подвальчике, пусть полежит до завтра или до лучших дней.
Часть 2. Всё о Динге
Когда мы наконец-то уселись за стол, Динга как член семьи тоже находилась рядом и, пуская слюну, вдыхала запахи праздничной еды, но если кто-то обращал на неё внимание, стыдливо отворачивалась, она как собака серьёзная, клянчить не привыкла. Наконец мама спрашивает: «Динга, а где твоя миска?». Та метнулась на кухню и вернулась со своей миской в зубах, она положила миску на колени маме и вопросительно уставилась на неё: «Ну и чем вы меня угостите?». Мама стала накладывать всего понемножку: «Динга, колбаску будешь?» – «Гав». – «А косточек с мясом?» – «Гав, гав. Гав». – «А пельмешек?» – «Уууу». – «Ладно, вот тебе ещё огурчик солёный, и хватит», – «Рррр». – «Динга, иди на своё место, там и ешь». Унести миску она теперь не сможет, но собачья смекалка срабатывает: Динга носом аккуратно толкает миску на кухню и уже там, в одиночестве пирует.
Отметили мой приезд, гости разъехались, мама убрала со стола и стала стелить мне на диване в зале, но тут, глядя на это вторжение на свою территорию, Динга возмутилась – это ведь её ночной диван, где она отдыхает после ночного обхода квартиры и обследования входных дверей и всех окон, но мама сказала ей: «Динга, место», и она безропотно ушла на свой коврик возле маминой кровати.
Я моментально уснул – сказалась дорога, перелёты, пересадки, волнительная встреча, ну и, конечно, выпитая водка. Ночью просыпаюсь от желания избавиться от излишней влаги в организме, хочу встать, но тут раздаётся предупредительное «рррррр». Я так и застыл, думаю, шевельнусь – бросится на меня, но мочевой пузырь о собаке ничего не знает и требует своего.
Нужно кого-то звать на выручку: «Маа. Маа». Наконец из спальни слышен мамин голос: «Тебе чего, сынок, может тебе плохо?» – «Мам, мне очень хорошо, но если ты не уберёшь Дингу, я как в детстве обмочусь, а она меня не пускает в туалет». – «Динга, место!». Голос у хозяйки раздражённый, и овчарка, проскальзывая лапами по скользкому полу, спешит к маме. Та ей что-то говорит и, как я понял, ругает. До утра никто меня не беспокоил, а утром пришла Динга, положила тяжёлую голову мне на колени и долго, не мигая, смотрела мне в глаза, словно пытаясь понять, что я за человек, и почему я здесь нахожусь. Потом, словно уже сделав какие-то выводы для себя, она с облегчением вздохнула и улеглась на пол, у моих ног, и тут до меня дошло, что я понят и принят за своего, а значит, за вожака, которому нужно подчиняться.
В следующую ночь я проснулся от чувства, что кто-то на меня пристально смотрит, не шевелясь, я приоткрываю глаза и в свете уличных фонарей, светящих сквозь тюлевую занавеску, вижу Дингу. Она, не спуская с меня глаз, поставила одну ногу на диван, потом немного подождав, другую, потом осмелев третью, а оставшись только одной лапой на полу, она легонько, как ей, наверное, казалось, перемахнула через меня к стенке и, облегчёно вздохнув, растянулась во весь рост рядом со мной. В таком положении она была едва ли не выше меня. Утром мама застала нас спящих в обнимку, правда, Динга давно проснулась, но лежала, боясь пошевелиться, чтоб не потревожить меня, но при голосе мамы она посчитала свои обязанности по охране меня оконченными, и она, опять перемахнув через меня, поспешила поздороваться с хозяйкой.
Утром, за завтраком мама рассказывает мне всё о Динге: её взяли в служебном питомнике, где некоторое время работал отчим, собачонку просто выбраковали, одну из всего помёта, как несоответствующую по каким-то критериям, существующим для элитных служебно-поисковых собак. Но все соответствующие документы: о породе, экстерьере, о породистых медалистах и всему прочему, папе с мамой всё же дали. щенка и друга, и ей прощалось всё, что бы она не вытворяла, а дворовая ребятня в ней души не чаяла. Она бегала с ними наперегонки, она изодрала им не одну пару штанов, а о футбольных мячах и всему, что круглое и катится, и говорить нечего. Мама замучилась покупать мальчишкам новые мячи, потому что Динга просто тащилась от удовольствия, когда очередной мяч шипя испускал дух. Потом её сделали вратарём, и не было ни в одном дворе лучшего голкипера, вот только мячик при таком вратаре, использовали уже прокушенный, и это тоже было ей в кайф, потому что его можно было терзать и кусать сколь угодно.
Но время шло, она быстро взрослела, мальчишки, друзья детства стали её побаиваться, а поскольку Динга хорошими манерами пока не страдала, то её, как и положено, породистой овчарке, для обучения хорошим, собачьим манерам и прочим собачьим премудростям отдали в собачью школу, где она и провела полгода. Брат почти постоянно пропадал тоже там, проходя курс молодого бойца вместе с ней. Эту школу я бы назвал собачьим кадетским корпусом: со всеми науками, муштрой и даже с собачьим служебным уставом и своим собачьим кодексом чести. Вернулась она из этого кадетского корпуса строгая, возмужавшая, если только можно так говорить о собаке. У неё даже появился свой военный билет, вернее, просто документ, из-за которого её могли призвать на службу как служебную собаку, прошедшую обучение, в любой момент.
Больше всех Динга любила, конечно, маму, она редко оставляла её одну, и они как подружки, подолгу беседовали. Мама ей что-то рассказывала, а та поворачивалась к ней то одним ухом, то другим, иногда, словно всё понимая, она кивала головой на согласие, то отрицала что-то, качая головой из стороны в сторону, а, бывало, слушая мамин рассказ про войну, она словно всё понимая, начинала рычать, а то и гавкать. Чтоб успокоить расстроенную маму, она клала голову ей на колени (как и мне) и, поскуливая смотрела ей в глаза, успокаивала и словно говорила: «Ну что ты, успокойся, я ведь рядом».
Иногда мама, приходя с улицы, где она сидела у подъезда, на лавочке, снимает уличные тапки и, забыв одеть комнатные, проходит босиком в комнаты. Уже усевшись у телевизора в кресло, она замечает, что прошла босиком, но я знаю, что это сделано нарочно, она по старой деревенской привычке любит походить без обуви и по травке, и, на худой конец, по деревянному полу. Чтоб продемонстрировать мне понятливость своей любимицы, она просит Дингу принести от порога её тапки, Динга приносит просимое, но только в одном экземпляре, а я хохочу, и та, словно поняв, опять хватает зубами тапок и тащит к порогу, и только потом виновато приносит оба тапка, ну плохо у неё с арифметикой, а в собачьей школе их счёту вообще не обучали.
Один раз с ней случился постыдный казус, но по нашей вине, а собака была совсем не виновата. Старший брат пригласил всех нас в гости, так сказать, с ответным визитом, а Дингу пришлось оставить дома, потому что нас и так много, да и не один таксист с этим волком, даже в наморднике, в такси не посадит. Мы оставили ей достаточно еды, забыв, что собака весом под восемьдесят килограммов – это не кошка, которая какает в лоточек, да и рассчитывали вернуться домой в этот же вечер, но ведь собаку нужно выгуливать не просто каждый день, а утром и вечером, и это как минимум. Вернулись мы только на следующий день, обычно Динга, встречая кого-то из семьи, уже маячит в окне, а потом, слыша знакомые шаги, она стрелой летит к дверям.
Заходим в квартиру – тишина, мама не разуваясь, вся в испуге, как молодая летит по комнатам и чуть не влетает в кучу собачьего дерьма прямо посредине её спальни. Бедная Динга забилась под мамину кровать и, пряча виноватые глаза, скулит, но вылезать отказывается. Мама и так, и эдак просит ее: «Динга, вылезай, ты не виновата». Но всё бесполезно.
Наконец маман, догадавшись, берёт щётку, лоток, тазик с водой и тряпкой, и, быстренько всё убрав, она опять пытается выманить собаку, та, недоверчиво поглядывая на то место, где она навалила кучу, опасливо вылезает из-под кровати, нюхает то место, где она была, и сразу становится веселей: раз её греха не видно, значит, и вины нет. Мама уже сотый раз извиняется перед ней, а потом, спохватившись, кричит Толику: «Сын, хватай поводок и марш с собакой на улицу, пусть пробегается да в туалет по-нормальному сходит, не то испортим собаку таким обращением.
Когда Динге хотелось побегать в скверике, а заодно справить собачью нужду, она, встав на задние лапы, сдёргивала с вешалки свой поводок с намордником и вручала маме или тому, кто окажется в квартире. В собачьей школе она уяснила раз и навсегда, что в городе без поводка и намордника таким овчаркам как она, находиться не положено, да и как-то даже стыдно, ведь она не шавка какая-то с позорным бантиком на шее. У неё у самой был и личный собачий жетон со всеми её данными и даже медаль за какие-то соревнования, которую она, из-за прирождённой скромности, не носила.
В магазин, который совсем рядом с домом, одну хозяйку она не отпускала, сначала вручала маме поводок, потом брала в зубы хозяйственную сумку, и дальше они шли рядышком, как две подруги. Мама говорила ей, что нужно будет купить, а та, словно понимая, внимательно слушала, обратно Динга гордо несла покупки, а на попытки мамы забрать у неё тяжёлую сумку, даже шутя рычала.
Однажды с нами произошёл забавный случай: мы с Дингой, как обычно, вышли погулять, и она, зная мой обычный маршрут, потянула меня к гастроному, где я обычно покупал сигареты, свежее пиво и иногда бутылочку хорошего сухого вина. У дверей магазина я велел ей сидеть, держа зубах поводок (с мамой и со мной она ходила без намордника), а сам зашёл во внутрь. Не успел я стать в небольшую очередь, как ко мне подошли двое из тех самых, приблатнённых, но каких-то несерьёзных парней, школу общения с которыми я прошёл ещё в юности, живя в зэковском городке, где собственно и вырос среди блататы и уркаганов, которые потом даже провожали меня на службу в ВМФ.
Я не услышал от них ни здрасте, ни извините за наглость, но … «мужик, дай двадцать копеек, на бутылку „плодово-выгодного“ не хватает». А плодово-ягодное стоило рупь двадцать, невелика цена, оттого и стала эта бормотуха «выгодной». Спрашиваю: «А сколь у вас есть?» – «А вот ты сейчас дашь двадцать коп, ровно столько у нас и будет, а там ещё подойдут такие же лохи, как и ты, вот, глядишь, и наскребём на опохмелку». – «Ну вы и наглецы, ну да ладно, винища я вам куплю, настроение у меня хорошее, а вы расскажите, как докатились до такой жизни».
Тут чувствую рядом грозное «рррр», и бичей сразу как ветром сдуло. Динга, почувствовав для меня опасность, нарушила приказ и пришла на выручку. Купив, что мне было нужно и бутылку вина, я взял её за поводок и, на всякий случай, одел намордник, болтавшийся на ошейнике. Выйдя из магазина, я увидел бичей, стоявших довольно далеко от входа, подозвал, отдал им вино и хотел уже уходить, как один из них спросил: «Твоя собака? Ну зверюга, мы с ней как-то уже были знакомы, едва ноги унесли». То, что они уже были знакомы, я понял по поведению Динги, которая рвалась с поводка, внушая страх даже в наморднике. Уже отходя, один из них, обернувшись, сказал: «А мы ведь хотели за углом отоварить и обчистить». Вот те на, вот и жалей их после этого, и я пообещал им вслед: «Мужики, если я ещё раз, хоть издалека увижу ваши морды, не обижайтесь, и я сделал вид, что отстёгиваю намордник и поводок, а Динге подал команду «голос», та так рявкнула, что бичей как ветром сдуло, теперь их долго никто здесь не увидит.
Вскоре я улетел опять на Север, и о дальнейшей судьбе Динги знаю только из писем мамы. Когда Динге пришла пора стать мамой, её отвезли в тот же питомник, откуда и взяли, и где её уже ждал «жених» с очень хорошей родословной. По истечении времени, положенного природой, она родила четверых щенят: двух мальчиков и двух девчонок. Сама мама была, конечно, рада, но за её щенками давно стояла очередь, а мы даже не имели права продать или отдать на сторону ни одного щенка – таковы правила в обществе собаководов. Тем более, что овчарки – это сторожевая, служебно розыскная порода.
И как только для щенят пришла пора отвыкать от маминой титьки, троих за хорошие деньги забрали очередники, и остался в семье только один «парнишка» по кличке Джек. Он быстро рос, мастью он пошёл в папу, почти чёрного здоровенного пса, и когда он перерос маму на голову, и стал есть за троих, было решено продать Дингу.
Мама с отчимом к той поре жили одни: младший брат служил, я жил и работал на северах, средний и старший брат работали тоже Севере, на ЛЭП-700, а на стариковскую пенсию прожить с двумя овчарками просто невозможно. Человек, который очень хотел иметь в хозяйстве именно воспитанную, дрессированную Дингу, стал часто бывать у нас, чтоб она привыкла к нему и его машине. Никому не хотелось травмировать психику собаки, поэтому вот так, потихоньку она и уехала с ним в деревню, где у того было большое хозяйство.
Джек всё больше рос, он требовал внимания и всё больше еды, дома он перегрыз всю обувь, все ножки стульев и столов, а когда он решил сожрать все подушки и диваны, все поняли, что и его тоже нужно отдавать в хорошие, крепкие руки. Да и справиться с ним уже никто не мог. Этот «телёнок» решил, что он главный не только дома, но и везде. Он не знал дисциплины, и с ним было просто опасно появляться на улице, народ сразу разбегался, а потом строчили на нас жалобы во все инстанции.
Отчим позвонил в общество собаководов, и сразу примчались не меньше десятка знатоков этой породы овчарок. Оценили Джека очень высоко, устроили на квартире что-то похожее на аукцион и чуть не учинили драку. По Джеку мама так не плакала, как по Динге, тем более, что деньги вырученные за обеих собак, оказались очень солидным подспорьем в жизни, но мама поклялась, что никогда больше не будет заводить собак, не нужна ей больше горечь расставаний. А ей и самой жить оставалось всего-то ничего. Вот о ком я вечно буду помнить и о ком горевать.
Каштанка
Отгремел марш «Прощание славянки», мы сошли с трапа корабля, который был три года нашим домом, и теперь я – штатский, а, вернее, старшина запаса ВМФ. Позади прощание с командой, с друзьями-«годками», длинная дорога домой в медленно ползущем поезде, встреча с родными – всё это уже в прошлом. Впереди у меня заочная учёба в мореходном арктическом училище и работа на китобойной флотилии «Юрий Долгорукий» – такие, во всяком случае, у меня были планы. Но… в ожидании вызова с флотилии и открытия визы загранплаванья прошло почти три месяца, и тишина.
Сидеть на материнской шее я больше не мог, поэтому временно устроился монтажником металлоконструкций на Нефтехимический завод. Как и положено, по закону подлости, в первый же день, вернувшись с работы домой, я получил заказное письмо с Калининграда, порта приписки флотилии, с предложением срочно прибыть для оформления визы и дальнейшей работы на китобойных судах в районах промысла, а это, насколько я знаю, районы Северной Атлантики и Антарктики и не только.
Я радостно кидаюсь к матери с возгласом: «Ура! Я наконец-то дождался своего часа, и теперь у меня в жизни появился смысл, сбывается моя давняя мечта об океанах, дальних морях, экзотических странах». И опять – но. Никто не понял моего щенячьего восторга и не разделил моей радости по поводу долгого болтания в морской стихии, в рейсах, длящихся по полгода, а мои доводы о дальних странах испугали мать до икоты. Короче, своих денег у меня не было, а родным было выгоднее, чтоб я сидел дома, тупо вкалывал (как все, как все, как все), и чтоб у меня всё в жизни было тоже как у всех, «как у людей».
«Как у людей», я «кое-как» отработал до весны и, никому ничего не объясняя, рассчитался и улетел вместе со своей мечтой в края, не мной придуманные, на СЕВЕР, сроком на двадцать лет.
Но всё это или уже было, или только состоится, ну а пока я после краха своих планов езжу на работу, лажу по конструкциям на верхотуре и строю новые планы в отношении дальнейшей своей жизни.
Доезжаю до объекта, выхожу из автобуса и гляжу в сторону остановки, откуда уже летит, катится шариком, извивается ящеркой, потом падает на брюшко и ползёт, умильно глядя на меня, что-то похожее на собаку. Её уши тащатся по земле, на её «лице» нарисовано величайшее счастье лицезреть меня, она стонет от избытка чувств и блаженства, она пытается залезть мне на туфель и изойти мочой от невыносимой нежности, которую она испытывает ко мне при встрече. Я едва успеваю отдёрнуть ногу, и благодарственная моча сучонки, девчонки зря проливается на асфальт.
Всё, ежедневный утренний ритуал окончен, я отхожу к нашему «столовому» пеньку и вываливаю на него принесенную для неё еду. Собачьи харчи почти мгновенно исчезают в собачьем желудке, живот ещё больше провисает, хоть колёсико какое привязывай, чтоб он не тащился так безобразно по земле. Она знает, что у меня ещё и косточки для неё припасены, но, убежав немного вперёд, она возвращается и с тревогой вглядывается мне в глаза: «Ты, правда, не забыл мои косточки?» Я утвердительно киваю головой и похлопываю рукой по сумке с моим и её обедом: «Здесь твои мослы, здесь». Она сразу успокаивается и улетает вперёд, на этот раз в раздевалку, к моему шкафчику, ведь здесь хранится вся вкуснота, какая только у нас с ней есть, теперь до моего прихода она будет охранять наш «сейф» от любых посягательств.
Когда я наконец-то захожу в раздевалку, моя сучонка с пеной на клыках отстаивает наше добро от целой стаи здоровенных, голодных мужиков, которые падают от смеха. Срочно выделяю её приличный мосол, и она всё ещё злобно рыча, утаскивает его в свой склад за моим ящиком.
Обрёл я этого друга, вернее, подружку, нечаянно, проходя по территории завода, возле одного из цехов, в куче старого железа я вдруг услышал щенячий плач, разобрав завал, я увидел собачонку, которую какая-то сволочь, нелюдь окунула полностью в «сурик». Щенок был обречён, краска была в ушах, в глазах, пастёнка и та была забита краской, её просто топили в ядовитой краске. Я сразу вспомнил корабельного пса «Боцмана», по которому всё ещё скучал, хоть письма ему пиши. Ему тоже как-то пришлось несладко, будучи по приказу адмирала списанным на сушу, да ещё и на остров в Балтийском море, но его-то мы из изгнания выручали всей командой, а тут, блин, такая история и не знаю, что делать.
Но пройти мимо, бросив эту «кисточку» в краске засыхать, я не мог. Нашёл растворитель, керосин и ещё чего-то едкого, но, как оказалось, самого эффективного. Я тёр псинку, отмывал, промывал, потом купал с мылом в тёплой воде. В тот момент передо мной был маленький, безвинный ребёнок, которого я был обязан спасти, и я его спас.
Потом долго лечил ей глаза и уши, обстриг ножницами почти до мяса всю шёрстку и заживлял ей все болячки, кормил и поил из соски, а потом и из ложечки, на ночь укрывал привезенным из дому старым одеялом. Спасение щенка стало для меня очень важным делом, и в этом участвовала вся моя бригада, за что я им был очень признателен. Мы её спасли и обрели искреннего, надёжного, верного друга, который никогда не предаст, хоть она и была девчонкой, «Каштанкой», потому что оказалась каштанового цвета. Вскоре я уволился и улетел на Север, и мне до сих пор жаль мою Каштанку, но надеюсь, что мир не без добрых людей, и она найдет нового хозяина и друга.
Часть 2. Речной флот
Флот – это романтика, это состояние души, познание мира, становление самого себя как человека, личности. Не бывает бывших флотских, они либо есть, либо их нет. Флот – это болезнь, от которой нет лекарств, и даже если уйдешь с флота по каким-то причинам, тебе ещё долго будут сниться корабли, а это значит, что даже время не лечит, и ты по-прежнему болен флотом.
Затон, начало пути
В семнадцать лет я совершенно случайно попадаю на берег Иртыша в затон. Эта случайность и определила мою дальнейшую жизнь, да и в какой-то мере и судьбу. Жизнь сразу приобрела более чёткие контуры и смысл, и хотя я в ту пору работал, учился, занимался спортом, мне всегда чего-то не хватало, а жизнь казалась пресной, как просвирка для причастия в церкви.
Когда я впервые увидел в затоне вмёрзшие в лёд теплоходы, колёсные пароходы, буксиры и крылатые «Ракеты», стоявшие на кильблоках на барже, у меня внутри что-то перевернулось. Я долго стоял на берегу, представляя себя на палубе одного из них, конечно же, самого красивого, большого и быстроходного. «Метеоры» и «Ракеты» на подводных крыльях были воплощением красоты и скорости и недосягаемы даже в мечтах моих пацанских. Ушёл я с берега уже затемно, изрядно задубевший, но с твёрдым решением пробиться на флот, любой ценой.
В январе, узнав из объявления о наборе на курсы рулевых-мотористов, я сразу зашёл в отдел кадров судоремонтного завода. Мне было только семнадцать лет и мне вначале отказали; я их уговаривал, убеждал, говорил, что без флота не вижу смысла в жизни, но главный аргументом у меня стал мой день рождения. Через три месяца, как раз к окончанию курсов, мне исполнялось восемнадцать лет. Взяли! Три месяца, изо дня в день мы постигали флотские науки: устройство судов, общую лоцию, спецлоцию, двигатели внутреннего сгорания (д. в. с.). Нас учили, как вязать узлы, как на жёстком швартовом конце заплести «гашу», связать из пеньки коврик и сделать швабру, ну и т. д.
Мне всё это было интересно, и эти три месяца обучения пролетели как один миг. Экзамены я сдал на «отлично» и с трепетом и надеждой ждал распределения по судам. В те годы по Иртышу ещё ходили пароходы колёсники, работающие на мазуте, это было, конечно, интересно, но мы учились на теплоходы, а шлёпающие плицами по воде пароходы казались нам мамонтами, доживающими свой век, что так на самом деле и было.