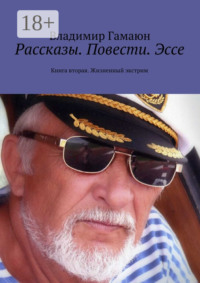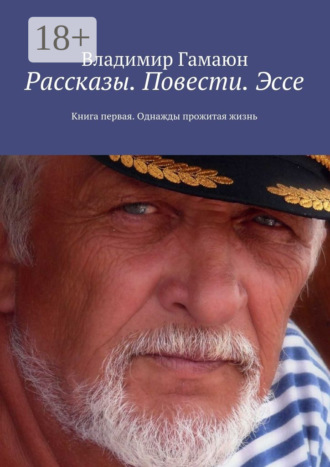
Полная версия
Рассказы. Повести. Эссе. Книга первая. Однажды прожитая жизнь
– Э, да тебя, дитё, в женскую баню брать нельзя, уж больно любопытен стал, мужичок.
Я пытаюсь объяснить ей, что те тётки – инвалиды, потому что у них нет того, что, по моим понятиям, должно быть у каждого человека. Тётка была смешлива больно, опять хохочет, обзывает меня дурачком и, несмотря на мои протесты, выбрасывает мои раскисшие сандалеты-корабли из ванны, сливает грязную воду, ставит меня под горячий душ, мылит, драит жёсткой, больной мочалкой. Не забыла она и про моё «хозяйство», и, правильно, ведь это «вещь» нужная, даже необходимая. Как хорошо, что у меня всё на месте, а не так, как у тех тёток. Бедные!
Кости солдатские
Болею, лежу в больнице с плевритом лёгких. Мне в этом году идти в школу, в первый класс, и я боюсь, что проболею долго, и в школу меня могут не взять из-за болезни. Правда, на улице пока зима, потом будет весна, лето, и до школы ещё, ох, как далеко. Болеть совсем не больно, только скучно очень и кашель мучает, да дышать трудно и уколов боюсь, вот они-то больные очень. А так ничего, жить можно, и все тебя жалеют (не то, что здоровенького), кормят хорошо, сладкое дают. Только мне хочется бабулиных щец, и мне иногда приносят их в маленьком бидончике. И это то, что надо, вкуснятина. За время болезни я много чего перепробовал вкусного, а уж конфеты, подушечки мне носили кульками, ешь – не хочу, а бабуля даже передала гостинец – кусок сахара с мой кулак, наверное, я его бросил в столовой в большой чайник, чтоб всем сладко было. Печенюшки и пряники я отдавал обратно братьям, потому что нам к чаю давали их каждый день. А однажды мои браты Мишка с Валеркой принесли мне громадные оранжевые апельсины, мама сказала им, что они из самой Америки. Так мы все и поверили, Америка-то, она вона, где и не видать отсюда, да и откуда они знают, что я болею?
Апельсины были очень красивые и пахли Новым годом, подарками. Я их разделил на троих, поровну, не всё же мне одному, хотя я и больной. Мама, когда узнала об этом расплакалась, и сказала, что мне нужны витамины и, если я не буду сам есть то, что мне приносят, то помру, а она этого не вынесет и тоже умрёт. Она ушла расстроенная, и мне было очень жалко и её, и себя неживого тоже, и я полночи проскулил, проревел в подушку. Заболел я потому, что босиком бегал по снегу, дразнил бабушку, чтоб она скалкой не стращала и не ругалась: «Супостаты, вы, супостаты, вот я вас скалкой-то и окрещу, греховодники».
Но мы знали, что она не злая, она добрая, это мы, «унуки», иногда обижали её, утаскивая из-под рук что-нибудь нужное, а она потом долго искала приговаривая:
– И куды же это я подевала, старая, не вижу ничо, в глазах застит.
Прабабушка прожила 104 года, и только, когда её не стало, мы поняли, кем она для всех нас была. Она была нашим другом детства, а мы росли, не замечая, как она стареет. Нам казалось, что она всегда была такой вот старенькой и такой будет вечно. Мы её любили и знали, что и она нас любит, а то, что ругала нас так, это было для нас, как птичий щебет, и слушались мы её не всегда, хотя и боялись огорчить ненароком. Бабуля не хотела быть кому-то в тягость, она старалась быть нужной семье, нам, «унукам», и это придавало ей сил. Человек обязательно должен быть кому-то нужным. Она была и домашним лекарем, лечила (что могла, конечно) травами, заговорами, святой водой. Какие только истории она нам не рассказывала по нашей просьбе, одна страшней другой. У нас от ужаса волосёнки вставали дыбом, ведь это были истории про упырей, вурдалаков, оборотней, про домовых и гномов, живущих под землёй, охраняющих клады. Рассказывала, как иногда по ошибке хоронили живых людей, а они потом кричали из могил, а пока их опять раскапывали, было уже поздно. Тёмные люди не знали в ту пору про летаргический сон, боялись порчи и крепко верили в Бога.
Уже почти перед выпиской мне пришлось наблюдать страшную картину, и не дай бог когда-нибудь в жизни ещё раз увидеть такое. Во дворе больницы экскаватор копал глубокую траншею под какие-то трубы к котельной и зачерпнул полный ковш человеческих останков рук, ног, рёбер, черепов. Это была братская могила. Кто были эти люди, сколь их там было, сотни, тысячи?
Одно было понятно, что это погибшие солдаты. Приехали военные, долго о чём-то говорили, смотрели какие-то карты. Потом офицеры дали команду солдатам и те начали грузить останки некогда живых людей, солдат, в кузова грузовиков. Молодые солдаты, не заставшие войны, не испытавшие всех её ужасов, смеялись, кидались этими костями, пинали черепа, и некому было их остановить. Эта «зондер команда» грузила то, что когда-то было людьми, как мусор, и это было страшно. Мне казалось, что всех этих людей закопали заживо, я слышал их стоны, а кости, швыряемые в кузова «полуторок», звенели как сухие дрова.
Когда потом я рассказал об увиденном маме, она со слезами на глазах стала рассказывать мне, ребёнку, о том, что в войну на том месте был концлагерь для наших военнопленных солдат и что, когда наши опять стали наступать, немцы всех расстреляли. И хотя Сталина уже как два года не стало, страна всё ещё жила по-сталински, а люди по-прежнему чего-то боялись, и отношение к солдатам, попавшим в плен, было как к предателям, даже к мёртвым.
В то время Хрущёв ещё не успел понастроить «хрущоб» и посадить народ на кукурузу, но он уже кинул клич: «Догнать и перегнать Америку!». И собрался поднимать целинные земли. Много событий стало происходить в стране, но на первом месте, конечно, стояла атомная бомба и освоение космоса. Потом, уже в июне 1961 года, во время посевной кампании, мне повезло увидеть взлёт Юрия Гагарина (Байконур рядом), но о том, что это наш парень Юра, мы все узнали только утром. Сказать, что была радость и праздничное ликование, это ничего не сказать, мы все вдруг стали героями.
А вот лозунг «Никто не забыт, и ничто не забыто!» появится гораздо позже, но уже без Никиты. Вечная память всем павшим в Великую Отечественную войну, вечная память нашему Юре Гагарину. Живые, пойте о них песни, слагайте легенды! Да будет так во веки веков! Аминь.
Эхо войны
Так говорят о взрывах, долго ещё гремевших после войны. В те пятидесятые, несмотря на то, что сапёры нашли и обезвредили большинство мин, неразорвавшихся снарядов, авиабомб в лесах, оврагах, старых окопах, землянках, мы по-прежнему находили боеприпасы. Винтовочные патроны, наши и немецкие выкапывали ящиками, находили и мины, снаряды, гранаты. Мы разжигали большой костёр, кидали в огонь всё, что может взорваться, бабахнуть, жахнуть. Бывало, жахало так, что у нас от ужаса и восторга уши закладывало, а волосёнки вставали дыбом. Автоматные и винтовочные патроны мы насыпали горкой в немецкую каску и ставили в огонь, чуть погодя раздавался треск разрывающихся патронов, и они просто выскакивали из каски, но иногда, правда, и пули свистели, но редко.
А иногда патроны укладывали рядком на рельсы перед проходящим составом, а сами ныряли вниз под откос. Мы знали, что взрыва не будет, а раскатанные в блинчики гильзы у нас были в цене – это были наши игрушки.
Однажды пацаны постарше откопали где-то здоровенный снаряд, кое-как затащили его на железнодорожную насыпь и принялись его ковырять, пытаясь открутить взрыватель, а нас, мелких, они прогнали с насыпи вниз. Тем мальчишкам было лет по тринадцать-четырнадцать, они так и остались совсем юными шалопаями тех послевоенных лет. Прогремел взрыв – пацаны погибли. Нас, маленьких, осколками даже не задело, мы были в самом низу насыпи. В городке слышали взрыв, и толпа народа ринулась к железке, матери бежали, заранее голося, будто каждая уже видит своего погибшего ребёнка. Наша мама была на работе и к нам бежала, летела тётка Люда, она была для нас и как тётка, и как вторая мама, и старшая сестра, ведь ей было в ту пору всего лишь или уже двадцать лет. Увидев нас живых и здоровых, она молча опустилась на колени, перекрестилась, хотя как комсомолка в Бога не верила. Потом, придя в себя, отшлёпала нас наспех, схватила младшего Валерку на руки и погнала к дому, подальше от этого страшного места. До самого дома она гнала нас, как гусят, подстёгивая какой-то хворостиной по голым икрам, всхлипывая и всё ещё не веря, что мы живы.
Тех ребятишек хоронили всех вместе, и, казалось, все матери города собрались на этих скорбных, горестных похоронах. Горе было страшное, плакали все женщины, рыдали и причитали, будто хоронили собственных детей, так оно и было, потому что в ту пору чужих детей не было, были просто дети, которых все любили и берегли как могли. Но вот этих не смогли уберечь, и у каждого взрослого появилось горькое чувство вины, а мужики, прошедшие страшную войну, сами, погибавшие в шахтах и на фронтах, не могли поднять, казалось, от насквозь окровавленной земли сухих ненавидящих глаз. В тот момент они были опять на фронте, и они опять были готовы идти в атаку за каждого погибшего ребёнка, за каждую капельку застывшей на веки крови, за каждую упавшую материнскую слезинку.
После этого трагического случая опять работали сапёры, спрашивали нас, где мы берём боеприпасы, где их искать, но мы молчали, как партизаны, а потом опять находили, выкапывали, взрывали, гибли сами, но молчали.
Мы, наша улица, друзья
Мы не были ни жадными, ни жестокими, дрались, но зла не помнили, мирились быстро, дрались до первой крови. Если тебе расквасили носопырку, пустили кровяную юшку, значит, ты побеждён, добивать, бить ногами не моги, это запрещено и не важно, с кем ты дрался – с другом или с чужаком. Зачастую тот, кто расквасил тебе нос, не отходил от тебя, переживал, советовал, как лучше остановить кровь, а то и предлагал:
– Ну хочешь, стукни меня тоже в нос, мне ни капельки больно не будет.
В «войнушку» мы тоже частенько играли, но быть врагом, фашистом никто не хотел, потому все мы были советскими, а войну признавали просто учениями, и никому не было обидно. Сражались улица на улицу, у всех пазухи были набиты твёрдыми, зелёными яблоками, это были гранаты. Если таким фруктом хорошо попасть, то и зубы молочные вылетят, и губы станут толстые, как у негра, а если попасть в глаз противнику, то и фингал будет размером с яблоко. Иногда такое случалось, тогда две армии объявляли перемирие, собирались возле раненого бойца, чтобы жалеть его, лечить советами да примочками.
Ранение нужно было как-то скрыть, иначе наши мамки устроят такую войну меж собой, что и чертям тошно станет, и нам всем достанется: и победителям, и побежденным.
Мой вечный «хвостик», младший братишка Валерка
Так уж принято, что старший брат, хоть и сам ещё с вершок, водится с младшим. Это было для меня наказанием, ведь я не мог участвовать во всех пацанских играх и проказах наравне со всеми. Выход из положения был один, подкинуть братана хоть на время девчонкам, они всё равно сидят на месте, играют в свои девчачьи игры, куклы, дочки-матери. Братишка был очень спокойный красавчик, с чёрными кудряшками, девчонки любили с ним возиться, и я знал, что они ни за что его не бросят, поиграют с ним, накормят, если он попросит, а если уснёт, будут сидеть и мух отгонять. За это время я смогу набегаться с пацанами, поиграть во что-нибудь, залезть в чужой сад, а, может быть, успеть и подраться с кем-нибудь. Лафа!
Братана подбрасываю девчонкам, они сразу определяются, спорят, кто будет ему мамой, кто сестричками. Но я этого уже не слышу, я улепётываю так, что пятки до попы достают, мне срочно нужно найти свою ребячью банду – один пацан на улице не пацан! Бывало, что я, заигравшись, бегал до темноты, тогда девчонки несли уже спящего братишку к нам домой, сдавали маме, тётке или бабушке, а я, придя с повинной головой, всё равно получал «бубней», и самое обидное – я понимал, что не прав, что виноват, и от этого осознания своей вины мне было ещё горше, какой же я всё-таки гад. За ночь чувство вины притуплялось, а утром меня опять ждал мой рюкзачок, мой младший брат Валерка. Я клялся сам себе, божился, что сегодня братана с рук не спущу, но глаза уже искали девчонок, и всё повторялось снова.
В детстве младшему не везло, и хотя мы, казалось бы, не спускали с него глаз, он вечно попадал в какие-то передряги. Однажды на кухне наш малой, подставив табурет, залез на верхнюю полку шкафчика и опрокинул на себя бутылочку с уксусом, залив себе глаза. Как это получилось, остаётся только гадать, ведь бутылочка была закрыта, значит, он смог как-то открыть её. Так или эдак, никому от этого не легче, а бедолага братан от боли кричит, заходится. Пока «скорой» нет, бабуля промывает ему глаза святой водой и что-то нашёптывает. Приехала «скорая», что само по себе уже было удивительно, промыли глазёнки каким-то раствором, успокоили боль, что-то там ещё делали, но, слава Богу, всё обошлось.
В другой раз бабуля почистила печку, выгребла раскалённые угли на стальной лист около поддувала и пошла за ведром, чтоб сгрести угли в него и вынести на улицу. На улице в тот день было слякотно, и мы, трое братишек, носились по дому в догонялки. Не помню, кто из нас старших толкнул нечаянно младшего, но он оказался сидящим голой попкой на раскалённых угольях, и тот крик братишки до сих пор стоит у меня в ушах. Опять «скорая» прибыла быстро, сделали всё, что нужно в таких случаях, и опять у братишки была боль физическая, у нас всех – душевная и чувство большой вины, что опять не уберегли. Пока брат болел, мы не отходили от него ни на минуту, забыв про улицу, друзей – про всё, что было в нашей обычной жизни.
Я мало упоминаю о старшем брате Мишке, он хоть и старше меня всего на один год, но у нас почему-то были разные интересы, разные компании. Он считал себя обязанным воспитывать меня, а я старался всячески избегать этого. Михеич, в отличие от меня, был рассудительным, спокойным парнишкой и всегда удерживал меня от опасных, опрометчивых поступков. Даже когда мы ещё не умели плавать, я лез в глубину, захлёбывался, барахтался, а мой старший брат бегал по берегу и грозился, что если я утону, то он всё расскажет маме. Но в один из дней я сам не заметил, как поплыл не «по-собачьи», не руками по дну, а по-настоящему. Я уплывал всё дальше от берега, немного труся, но гордясь собой и пугая брата, в ужасе бегающего по берегу. Потом и он поплыл за мной, ему больше ничего не оставалось делать, как плыть за мной.
По жизни нельзя плыть, по ней нужно идти, и, повзрослев, мы пошли каждый своей дорогой, но брат Михеич так остался моим старшим братом, и где бы я не был, в какую бы беду не попал, я знал, что он всегда придёт на помощь.
Один эпизод из того далёкого детства у меня до сих пор стоит перед глазами. Гроза, гром, молнии, дождь хлещет, как из ведра, я бегу по глубоким лужам с Валеркой на руках. Он прижался ко мне, крепко обняв за шею, глазёнки испуганные, он не понимает, что происходит, почему всё сверкает и грохочет. Нам холодно и страшно, мы мокрые до нитки, и тут я падаю в какую-то яму с водой прямо на братишку, он захлёбывается грязной водой, а я скольжу и не могу встать на ноги. При вспышке молнии я вижу его полные ужаса глаза, и какая-то сила выбрасывает меня из того омута. И вот я уже на ногах, и несусь как пуля в сторону дома. У брата разбита голова, течёт кровь и тут же смывается ливнем, я крепко держу его, а он настолько испуган, что даже не плачет, только всё крепче держит ручонками мою шею. Мне страшно только за него, а меня самого как будто и нет, я ничего не чувствую, у меня только одна мысль, одна цель, спасти брата.
Но вот и дом, и мы вваливаемся в домашнее тепло, но Валерка по-прежнему не отпускает меня. Потом увидев испуганную маму, вдруг заплакал и потянулся к ней. Всё кончилось хорошо, нас обмыли тёплой водой, растёрли, обогрели, напоили чаем с малиной и уложили спать. На следующий день состоялся «разбор полётов», мне попало веником, а я радовался, что это не кочерга, как иногда бывало.
Времена года
Осень, весна, лето, зима – всё хорошо. Зимой лепим снеговиков, играем в снежки, зимой – коньки, санки, лыжи, зимой – простуда и полон нос, но что может быть лучше зимы?
Весна, долгожданное, тепло, солнышко, тают наши снеговики, ручьи бегут, торопятся в моря и реки, первая робкая травка, сады цветут, всё в цвету, белым-бело. Природа улыбается людям, а люди, будто очнувшись от зимнего забытья, радуются весне, солнцу жизни. Как хорошо, мудро устроен мир, всему в нём находится место, а весенние надежды всегда сбываются.
Лето – лучшая ребячья пора. Ураа! Каникулы! Не нужно больше таскаться в школу с портфелем и чернильницей в мешочке за три версты, не нужно больше перелазить под железнодорожными вагонами на сортировке, когда их толкает маневровый паровозик. Спи до упаду, бегай, купайся, лазь по деревьям, ищи по старым окопам и блиндажам то, что не обнаружили сапёры. И вообще, сколько нужных и полезных дел можно сделать за день. Вот только нужно вовремя дёрнуть из дому, иной раз, даже не позавтракав, но и это не беда, всё равно краюху хлеба кто-нибудь из друзей под рубашкой принесёт. Не убеги вовремя, будешь полоть, дёргать травку в огороде, а на шее или на спине будет сидеть малой братан и рулить твоими ушами.
Сады-огороды были у всех, но самые вкусные фрукты и овощи росли почему-то в чужих садах и на чужих грядках. Приходилось делать набеги, рискуя накрученными хозяином ушами, а то и настёганной прутом задницей, но даже это нас не останавливало. Ели мы всё подряд: сливы, вишню, груши, белую шелковицу любили и даже белую акацию, в которой были какие-то червячки. Варёная кукуруза у нас шла на ура, от неспелых овощей и фруктов мы поносили, но и это не считали бедой. В ту пору у нас не было компьютеров, но у нас было детство и, как сейчас я понимаю, счастливое!
Осень. Всё поспело, дома идёт заготовка компотов, всевозможных варений, солений, вялений. В доме стоит запах трав, укропа, пахнет чесноком, немного мятой. Нас, ребятню, усаживают во дворе на брезент лущить кукурузу из початков, а немного в стороне наша тётка Люда выбивает из подсолнухов семечки. Она колотит по шляпкам короткой, толстой палкой, и семечки дождём сыплются на брезент. Это, по моему мнению, гораздо интереснее кукурузы, и я присоединяюсь к ней.
Эти семки потом увезут на маслобойку, а оттуда привезут жёлтое, пахучее подсолнечное масло и круги «макухи», а, может быть, и немного халвы. «Макуха» – это выжимки, то, что осталось от наших семок. Её очень любят свиньи, и это лучшая привада для рыбы. Ели её и мы, она пахла жареными семечками и шла у нас за первый сорт. Конец лета, начало осени, осень – самое интересное, вкусное время года. Потом опять весёлая снежная зима, и этот круговорот жизни не остановить никому и никогда.
Первый телевизор, «зрители»
Через три года после смерти папы, в году 1955-м, наша мама вышла замуж за майора в отставке, она ведь была ещё не старая, да и нас, малых нужно было растить, подымать. Она надеялась, что он сможет заменить нам отца, но этого не случилось, помня о папе, не приняли мы его, ради мамы терпели, но, чувствуя в нём чужого, боялись. Может быть, мы и назвали его папой, но в один из дней он пришёл домой пьяный, при нас, детях, затеял ссору и замахнулся на маму. Мы были потрясены, были в ужасе, как он смеет орать, да ещё замахиваться на нашу маму, и мы как волчата бросились на него. Мама плача сгребла нас в охапку, как курица птенцов укрывает от опасности крыльями, закрыла нас руками, потом увела в другую комнату. Я видел глаза вмиг протрезвевшего отчима, он не ожидал увидеть в нас, маленьких такую ярость. И даже потом, когда они прожили много, много лет, никто и никогда из детей не видел, чтобы он обижал маму.
Отчим работал на шахте инженером-энергетиком, неплохо разбирался в электричестве, радио, и благодаря ему у нас первых на улице появился телевизор, КВН, кажется. Он был размером с книжку, впереди перед экраном стояла линза наполненная глицерином, изображение постоянно плыло, рябило, строчки бежали вверх и вниз. Соседские мужики по команде отчима крутили, вертели антенну в разные стороны, ловя убегающее изображение. В ту пору это было чудо, кино на дому. Несколько дней в неделю наш дом превращался в клуб: народ с улицы, а то и с соседней, плотно набивался в избу, неся собой малых детишек (большие давно уже были здесь), полные карманы жареных семечек и чужие запахи. Мужики приходили на «кино» изрядно причастившись, от них несло перегаром самогона и табака. Взрослые, как и положено в клубе, лузгали жареные семки и плевали на пол, дети громко, никого не стесняясь, пукали кто громче, и это было весело. Большенькие, уже немного стесняясь, пускали вонючих «шептунов» и при этом усердно делали вид, что они здесь не причём.
Запашок и так в доме стоял, как в туалете, а тут ещё и мужикам невмоготу стало высидеть пару часов без табака – закурили дружно. Тут уж мама встала на дыбы: «Мало того, что от вас, паразитов, перегаром разит, так вы ещё и своих детей табачищем травить вздумали, изверги! Марш на улицу!»
В общем, не рады мы стали этому изобретению прогресса, нам уже хотелось покоя, и иногда мама объявляла, что телик сломался. Толпа не веря, всё равно толкалась у калитки в надежде на «кино». Были уже и такие, если его не попросишь вон, он всё равно будет сидеть, таращиться на тёмный экран, уповая, не зная на что. Какими-то правдами, иль неправдами, отчим достал дефицитнейший в ту пору кабель, и мы стали выносить телик во двор, ставить на стол, пусть смотрят, не жалко.
Пусть там пердят взрослые, пукают дети, пусть плюют шелухой, воняют табаком и самогоном – мы купили этот «ящик» для всей улицы. Теперь к нам шли со своими лавками, табуретками, летний «кинотеатр» да и только. Всему своё время, толпа зрителей постепенно стала редеть и скоро совсем иссякла, это оттого, что телевизоров становилось всё больше, и они становились всё лучше, да и народ уже мог позволить себе то, что раньше считалось диковинкой и роскошью. Хоть мы и вздохнули свободно, но мне было немного жаль, что такие знатные посиделки закончились.
Как давно всё это было, это был прошлый век и даже другая эпоха!
Дед Игнат
В 1952 году, после смерти папы наш дедушка Игнат, оставив вдову, с которой жил, перебрался к нам. Дому, семье нужен был мужик, добытчик, а нам, трём короедам, пацанам, твёрдая рука.
Дед всю жизнь проработал в шахте, и Бог миловал его, дав прожить до пенсии, и пусть не глубокой, но старости. Спустился он первый раз в забой, как и многие шахтёрские дети того времени, в семилетнем возрасте. Но какую работу можно было поручить ребёнку под землёй? Мальчишки работали коногонами, они водили лошадей, которые в вагонетках вывозили из забоя уголь. Чтоб лошадь хорошо тянула, её саму нужно было тянуть и подстёгивать, для этого и набирали детей в коногоны. Мужику эту работу не поручишь – слишком ценны были шахтёрские руки, так что это был удел детей и инвалидов. На «гора» лошадь, проработавшую под землёй всю свою лошадиную жизнь, поднимали лишь, когда она уже не могла таскать свою тяжкую ношу, при дневном свете лошадь слепла, и жестокие, неблагодарные люди отправляли её на живодёрню, твёрдо веря, что совершают акт милосердия.
Дед, проведший под землёй добрую половину жизни, и сам со временем стал похож на старого, убитого каторжным трудом, одра. Мало кто из старых шахтёров не побывал в шахтных авариях, не был покалечен, ведь в забоях, штреках на почти километровой глубине случались и взрывы метана, выбросы пластов, да и клети для подъёма людей, бывало, обрывались, всё было. Мало какую из шахтёрских семей не посетило горе, и когда по набатному шахтному гудку люди узнавали, что под землёй случилась беда, бабы, жёны шахтёров, побросав работу, оставив малых детей на большеньких или стариков, с воем летели по улицам к подъёмной машине шахты. Каждая из этих женщин молила Бога, чтоб её муж, брат или кто-то из близких уцелел и в этот раз, чтоб беда миновала её семью. Это был простительный женский эгоизм, и хрупкая надежда, что минует ее сия горькая чаша, и беда обойдёт стороной.
Но иногда Бог оставался глух к этим мольбам, и когда женщина видела на чёрной шахтной траве тело мужа, лежавшее в ряду с другими погибшими шахтёрами, поняв, что у неё нет больше её опоры в жизни, а у её детей – отца-кормильца, что она уже вдова, а её дети – сироты, сами собой подымались к небу кулаки в гневе и ярости, проклиная того, в кого она так верила и кому всю жизнь молилась. Кажется, небо должно было рухнуть и ударить молнии от такого святотатства, богохульства, но небо не упало, и земля не разверзлось, и молний не было, и Бог по-прежнему оставался глух к женским стенаниям.
Раньше она божилась, что никогда не отдаст сыновей шахте, но ещё не знала, что после похорон старший сын выйдет в отцовскую смену и в тот же забой, а она даже заплакать не сможет сухими от горя глазами, лишь поставит в церкви две свечи, отцу и сыну. Одну свечу – за потерянные надежды и упокой души, другую – за вновь обретённые, во здравие и многие лета.