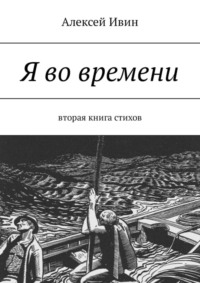Полная версия
Студенческие рассказы

Студенческие рассказы
Алексей Ивин
© Алексей Ивин, 2018
ISBN 978-5-4474-2512-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Естественный отбор
Хотя наш рассказ и носит столь научное название, речь о Чарльзе Дарвине, его теории и его преемниках не пойдет. Речь пойдет о студенте первого курса биологического факультета Логатовского педагогического института Семене Подольском, о том позоре, которым он покрыл себя навеки, и о житейском экзамене, на котором с треском провалился.
Итак, вышеозначенный первокурсник Семен Подольский сидел в общежитии у распахнутого окна у себя в комнате и взирал на улицу. Был вечер, не блиставший красками; спускались сумерки.
Подольский кисло подумал, не сесть ли за стол и не зарисовать ли с натуры широкими, щедрыми мазками открывавшуюся панораму с высокой, слабо дымившейся заводской трубой, которую можно было, творчески переосмыслив, изобразить вечнозеленым деревом, а прямоугольные дома – дикорастущими кустами; и назвать картину, например, так: «Закатное светило бросает свой последний луч». Но от природы ленивый, как сто мулов, вместе взятых, Подольский даже не шелохнулся, меланхолично поплевывая вниз шелухой. Увы! Именно так и угасают в нас, не родившись, творческие порывы.
За окнами не происходило ничего замечательного, внутри комнаты – и того меньше, поэтому, с легкой одурью в голове от непрерывного лузганья семечек, душевно вялый, Подольский прошелся из угла в угол, позевывая от скуки, и решил навестить соседок – комнату №17, где жили девушки с физико-математического факультета. К ним он наведывался часто и запросто, чтобы поболтать, а хохотунья и насмешница Таня Боровская ему даже определенно нравилась – первое робкое чувство восемнадцатилетнего юноши. Таня, которая была на четыре года старше его и, пожалуй, умнее, всерьез его не воспринимала, потешалась над его неопытным чувством, и тем насмешливее, чем настойчивее он к ней «лип»; зато Ира Перепелкина, чудаковатая особа в очках, жеманница и кокетка, к которой он был совершенно равнодушен, в свою очередь проявляла почти собачью привязанность к нему, уводила его в коридорные тупики и закутки, где было потемнее, лепетала всякий вздор и ждала, когда же он осмелится ее поцеловать (губы у нее были полные, а глаза, даже и за стеклами очков, красивые – миндалевидные, с густыми длинными ресницами). И то и другое (и то, что он к а к б у д т о любит, и то, что к нему самому неравнодушны) было внове для Подольского, и, следовательно, в семнадцатую комнату его тянуло неспроста. Даже если ни Тани, ни Иры там не окажется, можно очень мило позубоскалить о том о сем с Наташей Волковой, щуплой и невзрачной, но добросердечной девушкой, которая исполняла роль арбитра в запутанных отношениях Подольского с семнадцатой комнатой…
Постучавшись и войдя, он, к удивлению, увидел, что все в сборе, что накрыт и уставлен закусками стол, а за столом сидят какие-то незнакомые парни – очевидно, городские.
Он смекнул, что отмечается чей-то день рождения, на который его почему-то не пригласили (вероятно, потому что и парней тоже было трое, из чего следовало, что он был бы лишним). Надо сказать, что наш юный герой был человеком очень наивным; он лишь удивился непостоянству девушек, которые обычно столь ласково его привечали, но что следует извиниться и ретироваться – об этом он даже не подумал; напротив, сдержанное вежливое приглашение к столу принял всерьез и немедленно им воспользовался. Девушки представили его парням, которые были уже сильно навеселе, но обменяться с ними рукопожатиями он тоже не счел нужным: от застенчивости.
Сперва все шло благопристойно. От предложенной водки Подольский отказался (опять-таки неблагоразумно, как впоследствии оказалось, потому что тем самым восстановил парней против себя); но иначе он не мог: водка его не веселила, а угнетала. Сидя скромненько за краешком стола, он поглощал вафли, печенье, пил лимонад и думал, что вскоре все, не исключая и девушек, будут напоминать козаков, напавших на винный погреб жида. Пьяная расторможенная беседа, прерванная его приходом, продолжилась.
Поскольку пир как таковой описан всеми от Гомера до Куприна и нынешних сочинителей, то вряд ли нужно подробно растолковывать, какие произносились тосты, что было на пиршественном столе, в чем щеголяли пирующие, как разгорались страсти, блуждали глаза, пылали щеки и заплетались языки. Скажу лишь, что как раз в тот момент, когда Подольский насытился и поднялся из-за стола, вместе с ним поднялся и Мишка Шальнов, известный всему Логатову, кроме Подольского, как «шпана» и «мордоворот». После всего, за тем происшедшего, Мишка Шальнов воспринимался чувствительным Подольским чуть ли не как воплощение мирового зла; и если бы ему самому пришлось описывать Мишкину внешность, он прибег бы к шаржированной гиперболической экспрессии, которая, разумеется, исказила бы объективную действительность, но зато уж была бы эмоциональна и оценочна. Он написал бы, что лицо Мишки было обширно, как крестьянское блюдо; его кожа напоминала чешую копченой трески; его глаза зауживались щелевидными амбразурами; его скулы были словно у буйвола; его нос распух, точно у многократно битого боксера; его рот источал болотные миазмы; его прическа повторяла шевелюру питекантропа; его шее недоставало хомута; его руки равнялись с дубинами; в его глазах стыло тупое, угрюмое и бессмысленное выражение собаки, которую ради хохмы допьяна напоили.
Итак, этот монстр, а в сущности – объективный Мишка Шальнов, нетвердо ступая, подошел к Подольскому, на которого тотчас повеяло многодневным перегаром, и хрипло попросил сигарету.
– Выйдем покурим в коридор, – сказал он вполне миролюбиво, и простодушный Подольский, решив, что с ним хотят познакомиться поближе, охотно согласился.
Они вышли – впереди Мишка, за ним Подольский. Однако не успел Подольский притворить за собою дверь, как Мишка с размаху ударил его по лицу. Подольский ощутил тупую боль и влетел обратно в комнату задом, растянувшись посреди нее. В первое мгновение он не мог даже понять, что с ним случилось; потом дико обозлился, так что казалось, будто его нельзя ничем обуздать, рванулся на обидчика, но сзади, словно рой докучливых мух, налетели девушки, удерживая и уговаривая его. Кровь сочилась из разбитого носа, и с каждой его каплей вытекала из Подольского решимость драться. Ему был нанесен тот самый упреждающий удар, за которым неизбежно следует моральная капитуляция. Во-первых, интеллигентный хлюпик, он опешил от неожиданности; во-вторых, подумал вдруг, что, если ввяжется в драку, ему одному придется иметь дело с троими; в-третьих, будет небезопасно появляться в городе, потому что в каком-нибудь тихом переулке его поймают и… Картина ясная: могут забить до смерти. А надо сказать, что наш герой до поступления в институт в городе ни разу не был и теперь чувствовал себя в нем и неуверенно, и неуютно. Его взгляд кипел злобой, а в голове, точно в шкатулке с безделушками, искалась одна-единственная пуговица от лифчика: как бы проучить врага, не прибегая к ответным действиям? Мишка гнилостно и самодовольно ухмылялся, а Подольский с ужасом понимал, что не сумеет дать достойный отпор: срабатывали некие защитные механизмы самоспасения. Ибо он рос тихоней и никогда еще не бил никого; ни одного расквашенного носа или фонаря под глазом не было на его счету; да он и не подозревал, что такое с ним случится. Чтобы хоть перед девушками-то не осрамиться, напоказ он рвался в бой, но не слишком в этом усердствовал, благоразумно позволяя себя удерживать.
Вечер был испорчен. Начался переполох. Эти трое, незваные гости, бродили, почесывали кулаки. На шум сбежались парни из соседних комнат. Возникли словопрения. Явственно запахло порохом.
Подольского увели в туалет, где он омыл обагренные собственной кровью руки и остановил кровотеченье из носа. Тяжело было у него на душе. Он не верил в свои силы, чувствовал, что ошеломлен и побежден и что досталось ему поделом: зачем залез в чужую компанию… Он считал себя теперь навек опозоренным трусом; в воображении он разжигал ненависть к сопернику; в воображении он хотел бы дать ему такую затрещину, после которой тот отправился бы прямиком в потусторонний мир…. Как отрадно было представлять врага, разбитого и растерзанного, в луже собственной крови! Однако, против своих воображенных желаний, он не пошел искать Мишку, а в пакостнейшем настроении вернулся в комнату и улегся на кровать, прикрыв разрушенный орган обоняния носовым платком. В комнату впорхнула Ира Перепелкина и звонким участливым щебетаньем выразила свое глубокое соболезнование. Присутствие ее, живой свидетельницы его несмываемого позора, тяготило Подольского, но он безропотно принимал ее услуги и компрессы, притворяясь больным, страждущим и недееспособным в большей степени, чем следовало. Он хотел теперь лишь одного – чтобы его оставили в покое, но оказалось, что это невозможно: к нему ввалились негодующие товарищи, сокурсники и приятели, и потребовали, чтобы он расквитался с обидчиком: что ни говори, городские парни обнаглели – затронули честь института.
– Ты не трусь! В случае чего мы тебе поможем…
Ох, как не хотелось снова ввязываться в драку, из которой он уже вышел побежденным. Проклятые законы чести! Они обязывают даже слабака и паникера постоять за себя, хотя ему легче было бы стерпеть, проглотить обиду, как горькое лекарство. С неохотой, в душевном смятении Подольский поднялся с кровати и поплелся за приятелями – на очную ставку.
В дальнем темном конце коридора Подольский увидел и Мишку, и его приятелей, глазомерно, но без страха оценил его сжатые увесистые рабочие кулаки. Все трое недружелюбно молчали и, казалось, внутренне готовились к заварухе, спровоцированной ими же.
Толпа, во главе которой понуро шествовал наш герой (или антигерой?), приблизилась. Определенно, действующие лица напоминали персонажей мелодрамы в ее кульминационной сцене. Недоставало только бесов, которые, злорадствуя и хихикая, кружились бы над головами собравшихся, бесов, которые, как известно, любят всякого рода конфликты и недоразумения.
Все дело заключалось в том, что Подольскому не хотелось драться: драка, по его интеллигентному мнению мечтательного сельского мальчика, была слишком грубым средством выяснять отношения между людьми, но его подталкивали к ней, и уклониться было невозможно. Мишка и он – они были людьми прямо противоположной закваски: грубая физическая сила – и еще мальчишеский, меланхоличный, чуждый всякого насилия ум. Так что друзья напрасно подталкивали его и ждали от него действий не мальчика, но мужа.
И вот, прислонясь к стенке, они принялись выяснять отношения, а прочие враждебно молчали и заинтересованно, как на бесплатном спектакле, ждали, чем все это кончится. Подольский вдруг охладел и говорил громко и отчетливо, но равнодушно; ни страха, ни каких-либо опасений у него не было, но не было и необходимого ожесточения – лишь равнодушие ко всему случившемуся. Ибо он простил всех, кто оскорблял его прежде и теперь, всех, кто оскорбит в дальнейшем: всего зла все равно не искоренить. И дело было даже не в этом; просто грубая сила вправе доказывать свое превосходство кулаками, Подольский же, несмотря на юные года, избрал для самоутверждения другое оружие – ум, познавательные способности.
– Извиняться передо мной ты, конечно, не станешь? – спросил он.
– Это видел? – Мишка поднес рабочий кулак к носу Подольского.
– Дурак ты, – холодно сказал Подольский, спокойно отводя кулак. – Закомплексованный дурак.
– Ты у меня еще заработаешь, понял? – возразил Мишка. – Я таких салаг в гробу видел и в белых тапочках.
– Тебе лучше здесь больше не появляться: в больнице для буйных твое место.
– Где хочу, там и появляюсь – не твое свинячье дело, – заключил Мишка.
На том и порешили. Надменно усмехаясь, Мишка удалился, а за ним и вся его разочарованная свита. Приверженцы Подольского тоже покинули его, не довольные его малодушием.
Минуло два дня. Они снова появились в общежитии и намеренно стали слоняться по коридору. Их было только двое: Мишка и его ближайший друг Гошка Евланов, отчаянный скуластый пятнадцатилетний мальчик. Подольский, едва заслышал о них, малодушно заперся в комнате и с сердечным замиранием прислушался, что они делают в коридоре. По грубым голосам и неровной шаркающей походке он догадался, что они снова пьяны и что, конечно же, пришли не с благими намерениями. Он слышал, как они подошли к его двери и, не постучав, рванули ее; но дверь была заперта и они, постояв, удалились.
Прошел час, два. Подольский осмелился выйти: можно опасаться новой встречи с грубой силой и нового поражения, но существует и такая вещь как самоуважение. В одной из комнат он сыграл партию в шахматы, выпил чашку чая и отправился было на ночлег, но в фойе увидел картину, заставившую его остановиться.
Мишка стоял один-одинешенек, окруженный толпой агрессивно настроенных и любопытствующих общежитских парней. В кругу, кроме него, стоял известный по общежитию весельчак и бабник Кирюха Савельев с разбитым и окровавленным ликом. Подольский смекнул, что Мишка опять развязал кулачный бой и что на сей раз ему придется туго, ибо Кирюха был не из тех мягкотелых хлюпиков, которые прощают обиды; потасовка непременно должна была увенчаться выносом обезображенного тела на улицу на растерзание милиции. Покуда единоборцы только эмоционально переругивались, но по накалу страстей можно было судить о неизбежной схватке. И действительно: Мишка вдруг неуправляемо, как носорог, ринулся на Кирюху, но тот увернулся; Мишка рассвирепел и, пока разворачивался, как шкаф на крутой лестнице, получил ощутительный удар в скулу и прилип к стене. Отклеился, превозмогая удары толстым лицом и обильно обливаясь кровью. Соперники походили на кулачных бойцов времен Ивана 1У; их носы кровоточили, губы распухли, скулы покрылись ссадинами, сглаза сливели, а белоснежные клавиши зубов разредились черными; их одежды обагрились кровью, их разумы помутились, их десницы и шуйцы увлеченно дробили зубы и выворачивали скулы, их власы были повыдраны. Все напряженно следили за поединком, как римские патриции за гладиаторской схваткой. И когда, наконец, Мишка, поверженный, восприяв последний удар по обонятельному органу, уже ничего не мог предпринять, а только осовело, как осенняя застекольная муха, прикладывал руку к распухшему носу и размазывал кровь, – его взяли под мышки, выбросили за дверь, заперли ее и разошлись, потолковав о происшедшем и одобрительно похлопав победителя по плечу.
Омраченный духом, Подольский долго не мог уснуть. Его снедал стыд, что не он расправился с Мишкой, а ему показали, как это делается. Действительно, надо быть жалким человечком, чтобы, следуя евангельскому учению, подставить вторую щеку, когда тебя ударили по одной; а он, презренный, так и поступил. Он не оправдывал себя, но был подавлен, раздосадован: чувствовал, что его презирают за слабохарактерность. Он предугадывал, что Мишка не простит сегодняшнего избиения и на днях нагрянет сюда с шайкой отъявленных негодяев. Общежитие было старое, деревянное, вахтерами не охранялось, а комендант, пьющая баба, своими обязанностями не занималась. Рассудив не выходить в город по вечерам, Подольский заснул затомленно, как в приснопамятные варварские времена хорошенькая девственница, которую завтра по совету старейшин принесут в жертву деревянному идолу. попечителю племени.
Новый день начался с безрадостных размышлений, с прежних тревог, опасений и страхов. В конце концов, полураздетый, на кровати, Подольский умозаключил, что в городе, в этом скопище пороков, никак нельзя жить человеку хрупкому и мечтательному, что такому человеку, чтобы сохранить душевную чистоту, спокойствие да и саму жизнь, необходимо удалиться в деревню, лучше всего – обратно в Бусыгино, на лоно природы, на зеленые луга, где пасутся козы, коровы и овцы; иначе – ах! – душа такого человека, прекрасная этрусская ваза, расколется на тысячу частей. Да, истинно, в городе кругом дым, смрад, зловоние, в нем нет ни голубого неба, ни почвы, ни прозрачных ручейков, ни тенистых рощ. Но чересчур много выпивох, которые ужасно дерутся, всегда находя к тому повод.
Так размышлял наш герой, хотя к обеду он выполз-таки из своей отшельнической конуры и бестрепетно направил стопы к ближайшей столовой; ибо народная мудрость гласит, что голод не тетка. Мало того: осмелев, Подольский обошел городские магазины и накупил еды, чтобы спокойно поужинать у себя в комнате, без риска нарваться на пьяную компанию.
Однако вечером Кирюха (они дружили, несмотря на разность характеров), то ли без умысла, то ли намеренно, чтобы испытать слабонервного друга, предложил сходить в кафе и вместе отужинать. Подольский сильно затруднялся с ответом и все же, чтобы окончательно не пасть в глазах общества и в своих собственных, согласился: авось обойдется. Друзья вышли.
Всю дорогу Подольский был неразговорчив, угрюм и думал об естественном отборе. «В жизни, как и в природе, – думал он, – выживает сильнейший. Гибнут слабые деревца, лишенные света и крепких корней, и такой же отбор, такое же отсеиванье происходит и в обществе. А раз так, уж лучше мне умереть за ненадобностью». В горести он напоминал смиренную старушку, возвращающуюся с богомолья. Между тем Кирюха весело скалил свои лошадиные зубы, рассказывая, как вчера Мишка без стука ввалился в комнату Нади Окатовой, плюхнулся на кровать, а когда его попросили выйти, зарычал угрожающе; как он, Кирюха, схватил непочтительного гостя за шиворот и выкинул за дверь; и как, наконец, они подрались. Кирюха шутил, балагурил и в избыточной веселости поведал, какую чудесную ночь провел он с Надей, – ну, разумеется, ничего такого между ними не было, никакой пошлости: просто она залечивала его героические раны, и они целовались до утра.
– Я очутился в роли д`Артаньяна, – шумно восторгался Кирюха. – Ему ведь тоже здорово везло на красивейших женщин, особенно после того, как он заколол двух кардинальских солдафонов; да, женщины к нему валом валили, и он рылся в них, как свинья в желудях. Что ни говори, а вчера у меня была ангельская ночь! Ох, уж эти девушки! Стоит украситься парой синяков, как они льнут к тебе, словно мухи к меду.
Кирюха заметил, что Подольский хмур и что рассказ не произвел ни малейшего впечатления. На вопрос, что с ним, Подольский ответил, что нездоров.
Кафе пустовало. Быстро отужинав, друзья молча двинулись обратно.
Чего Подольский опасался, то и произошло: они увидели нестройно поющую толпу пьяных парней. Парни шли, обнявшись и перегородив улицу, и горланили блатной романс. Это шествие пагубно повлияло на психику Подольского: он задрожал осиновым листом на ветру – не любил, ненавидел эту приблатненную пьянь. Сейчас кто-нибудь из них попросит закурить – и драки не миновать. Кирюха же казался спокоен; он только заметил, что мальчики недурно веселятся. Но хуже всего, что и Мишка Шальнов, и Евланов были среди этих парней.
– Робя, по-моему, это наши знакомые пе-да-го-ги! – насмешливо прохрипел Мишка, и шеренга остановилась.
По лицу Кирюхи пробежала тень беспокойства. Он метнул взгляд на Подольского и быстро проговорил.
– Попали мы в переплет… Ты не трусь: сшибай вон того, щупленького, – и тягу… Я за тобой…
Подольский смотрел потерянными глазами.
Парни приближались медленно, развязно; их было восьмеро; впереди гориллой шел Мишка. Он молчал, но намеревался сначала произнести назидательную речь. Он был уже совсем близко, шел и пакостно ухмылялся, как вдруг грянулся об асфальт, сраженный мощным ударом Кирюхи. Кирюха бил первым и не раздумывая. Дальнейшее произошло в одну минуту. Подольский, подстрекаемый страхом, будто на крыльях, врезался во вражеский стан, сбил с ног белобрысого скуластого Евланова, который замешкался, доставая нож, и пустился наутек. Но, видя, что его никто не преследует, остановился. Кирюхе не удалось прорваться: окруженный, он раздавал удары направо и налево, но, не продержавшись и минуты в кругу, рухнул, как подкошенный. Подольский заметался, бросился было к нему, потом к телефонной будке. Распахнув дверцу, он увидел там какого-то старика; тот отчаянно замахал руками, и по его жестикуляции, брани и божбе Подольский понял, что в милицию уже сообщено. А когда подгулявшая ватага гурьбой помчалась по тротуару и рассеялась в аллее, он подбежал к Кирюхе. Тот уже стоял на четвереньках, пытаясь подняться.
– Оставь – сам встану… – раздраженно сказал он. – Этот стервец был с ножом… Вот здесь жжет, посмотри…
Подольский расстегнул пальто и рубашку: на правом плече кровоточила небольшая рана, рубашка намокала в крови.
– Ерунда! – сказал он изменившимся голосом. – Пальто тебя спасло. Потерпи. Может, скорую помощь вызвать?..
Старик из телефонной будки торопился к ним.
– Кто тебя так? – спросил Подольский.
– Какая же сволочь из него вырастет, если он уже сейчас с ножом ходит.
– Про кого ты?
Словно по мановению волшебной палочки, на пустынной улице собирался народ.
Студенческие проводы
На третьем курсе закончилась летняя сессия. Все разъехались – кто в стройотряд, кто на каникулы домой; общежитие пустело. Наконец и Викентьев купил билет и утром должен был выехать в Кесну; и родители, и друзья, с которыми так хотелось встретиться, ждали его еще неделю назад, а он до сих пор торчал в Логатове. И не без причины: ему хотелось перед отъездом повидаться с Еленой, но он не осмеливался ей позвонить. Наконец, когда билет был уже куплен, отступать было некуда; и он решился.
Вечерело. Дрожащей рукой он набрал номер телефона. Откашлялся и с напускной деловитостью осведомился:
– Алло! Лена дома?
Трубку, не поинтересовавшись, кто спрашивает, положили на стол, и хрипловатый насмешливый голос сказал: «Ленка, тебя». Викентьев догадался, что к телефону подходил Володя, ее брат. «Иду-у!» – донеслось откуда-то – должно быть, из кухни: знакомые победоносные интонации.
– Да, я слушаю.
– Леночка, это я…
– Ну!..
– Дело вот в чем. Сегодня ночью уезжает Федосов – ты ведь его помнишь: живет в одной комнате со мной… Так вот: он хотел бы тебя повидать напоследок; да и я…
– Постой: Федосов – это тот самый, белобрысый?..
– Да, да, тот самый. Будь добра, приезжай.
– Хорошо. Когда?
– К девяти часам. Ну, до свиданья, – сказал Викентьев и не удержался, чтобы не съюродствовать: – Припадаю к твоим стопам…
– Хорошо, – повторила Елена и положила трубку.
Когда он вернулся в комнату, Федосов укладывал портфель: как у всякого студента, пожитков у него было немного.
– Ну что, она согласилась? – спросил он с наигранным равнодушием, заталкивая в портфель электробритву.
– Да, – ответил Викентьев.– И подозрительно быстро.
– Я не сомневался. – Федосов самодовольно улыбнулся заячьими губами. – Сказывается сила моего обаяния.
– Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, – предостерег Викентьев. – И потом: если бы все девушки были от тебя без ума, зачем бы тебе ехать через всю страну в Молдавию, в какой-то винодельческий совхоз, к одной-разъединственной зазнобе?
– У всякого действия свой резон. Я еду к родственникам, и зазноба тут не причем.
Прошел час. Из окна было видно, как во дворе мальчишки гоняют в футбол и четверо мужиков, рассевшись на зеленых скамейках, забивают козла в домино. Вот на балкон вышла женщина в переднике и стала развешивать белье. В дальнем углу кормились голуби, взлетая, когда к ним припрыгивал мяч или из открытого окна домовой кухни чья-то щедрая рука подбрасывала им хлебных крошек. Закатное солнце освещало двор, медно-красным пламенем вспыхивая в оконных стеклах. Вот въехало такси и из него, пятясь, вылез туз (иначе не назовешь) – из тех, кто к пятидесяти годам еще полон здоровья, ведя размеренный образ жизни. Таксист развернул машину и, включив зеленую лампочку, выехал на магистраль. Та же женщина, но уже без передника, снова вышла на балкон и прокричала: «Гриша, иди ужинать: второй раз собирать не буду…» Гриша, вратарь, услышал призыв и. посоветовавшись с остальными игроками, пошел ужинать. Игра прекратилась.
Викентьев лег на кровать и вспомнил (откуда-то всплыло) ту неожиданную встречу. Она произошла в мае. Тогда он сильно скучал. Приближалась сессия. Он корпел над учебниками, дописывал курсовую работу, вставал рано и ложился поздно. Его мысли вращались вокруг прочитанного, и он радовался, когда осиливал все, что запланировал на день. Но иногда он срывался, и тогда казалось, что все, что он делает, никак не соотносится ни с его судьбой, ни вообще с жизнью, которая – вот она! – наполнена городским шумом, напоена запахом цветущей акации, овеяна буйным весенним ветром. Ему становилось душно в городе, книги валились из рук, и весна манила в поля. Он обувал кеды и шел за город. Минуя висячий мост через грязно-зеленую Логатовку, входил в загородный парк и брел по заглохшей тропинке к разбитой скамье. Обычно в такие минуты он избегал людей, потому что не отличался благодушием. Но с этой девушкой, которая показалась в конце пустынной аллеи, решил заговорить: он подумал, что его жизнь оттого и безвкусна, что он не завязывает новых знакомств. «Попытка – не пытка», – сказал он себе и, когда девушка поравнялась с ним, не нашел ничего лучшего, как спросить: