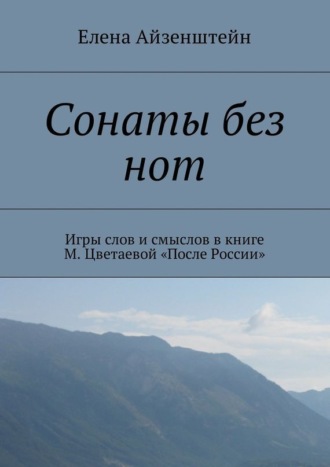
Полная версия
Сонаты без нот. Игры слов и смыслов в книге М. Цветаевой «После России»
Продолжением темы звучит стихотворение, написанное 8 сентября, «Когда обидой – опилась…». Мир природы оказывается спасательным кругом для разгневанной души, уставшей сражаться «с земными низостями дней», утомившейся от рыночного рева жизни – и от стихов:
Вариант первого четверостишия содержал строки о , уставшем сражаться с демонами – так определила Цветаева в тот момент свое творческое поражение перед явлением пастернаковского поэтического гения: Пегасе
Древесный мир – более вольный мир, в котором можно , вглядываясь в рои зеленых отсветов, во множество различных оттенков цвета, погружаясь в трепещущий световой поток, «В живоплещущую ртуть / Листвы – пусть рушащейся!» В душе в этот момент сплетаются две нити, два мотива: Цветаева работала над поэмой «Молодец», а строки будущего цикла «Деревья» пишутся как раз перед превращением Маруси в цветок (деревце). Древесная жизнь – без границ жизни, «без прически», искажающей лицо. деревьев – подлинная духовная свобода, какой нет у поэта. Древесный лейтмотив звучит и 9 сентября 1922 года. «Купальщицами», «стаей нимф-охранительниц», всадницами, танцовщицами живописует Цветаева березки, стоящие в кругу: не быть Простоволосость
Как не совпадает творческое полотно с бытовым! После этого стихотворения помета в тетради: « (Несколько дней в Праге, поиски комнаты, переезд в другую деревню.)» [9: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 85об.] Может быть, именно поэтому так необходимы деревья, чей хоровод – живительный, чистый источник древней мудрости (нимфы, в переводе с греческого, – «девы»), тайн жизни и смерти, исцеляющий и пророчащий, охраняющий вход в Царство Небесное. «Тело! Вот где я его люблю – в деревьях. Березы! Эвридики!» [10: ЗК, т. 2, с. 286.] читаем в записной книжке Цветаевой. Под действием дуновения вдохновения дверь в небеса иногда растворяется: деревья взметают «гривы» ввысь, закидывают лбы навстречу небу; раскручивают в стихах свиток души, а затем стесняются душевной обнаженности: свиток скручивается, пляска кончается «взмахом защиты». Как деревья в плаще листвы, поэты в стихах прячут души, а потом стоят, «вытянув выю», и ждут нового ветра вдохновения, зова небес. «Березовое серебро, / Ручьи живые!» – образ деревьев и несказанной бессмертной души поэта, недаром в стихотворении 17 сентября 1922 года Цветаева называет деревья «братственным сонмом»:
Деревья – друзья небесного братства, Града Друзей, излечивающие душу от земных разочарований и страстей, Элизиума, блаженной страны. Людская жизнь поэта – «в громком таборе дружб», в непрестанной жажде чужой души, сменится когда-нибудь трезвостью ума, «тишайшим братством» того света: «В громком таборе дружб / Собутыльница душ / Кончу, трезвость избрав, / День – в тишайшем из братств». Цветаева мечтает «с топочущих стогн», с громогласных площадей жизни с земными страстями перенестись «в легкий жертвенный огнь / Рощ! В великий покой / Мхов!..», в совершенное бытие, которое ждет «над сбродом кривизн», в Вечности – мотив, напоминающий «Деревья» Н. С. Гумилева. Земная жизнь поэта – рабство, искалеченность, согнутость. Во весь рост душа может проявиться в мире правды, «там, где все во весь рост, / Там, где правда видней: / По ту сторону дней…». В черновой тетради – вариант последнего двустишия, от которого Цветаева отказалась, вероятно, потому что никогда не заботилась о том, чтобы быть видней:
В смертных изверясь,Зачароваться не тщусь.В старческий вереск,В среброскользящую сушь,– Пусть моей тениСлаву трубят трубачи! —В вереск-потери,В вереск-сухие ручьи.Сняв и отринувКлочья последней парчи —В вереск-руины,В вереск-сухие ручьи.Когда обидой – опиласьДуша разгневанная,Когда семижды зарекласьСражаться с демонами —Когда обидой – опиласьДуша разгневанная,Когда не выдержал / вскинется ПегасСражаться с демонами[8: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 5, л. 47 об.]Купальщицами, в легкий кругСбитыми, стаейНимф-охранительниц – и вдругГривы взметаяВ закинутости лбов и рук,– Свиток развитый! —В пляске кончающейся вдругВзмахом защиты —Длинную руку на бедро…Вытянув выю…Березовое серебро,Ручьи живые!Други! Братственный сонм!Вы, чьим взмахом сметенСлед обиды земной.Лес! – Элизиум мой!Там, где видней: БогуПо ту сторону дней.[11: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7. л. 25.]Глава десятая. «Голос маленьких швеек»
От мыслей о деревьях, сбрасывающих листья, в не вошедшем в «После России» стихотворении «Золото моих волос…» Цветаева уходит к думе о себе. В БТ его дата, день рождения дочери: Але исполнилось 10 лет: «18 го нов. сент <ября> 1922 г.» [12: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 86. В Ц7 стихотворение датировано неточно, между 17 и 23 сентября 1922 г.], и потому по-особенному звучит тема раннего старения. «Венец славы – седина, которая находится на пути правды» – гласит одна из Притч Соломоновых (16; 32). Цветаева размышляет на эту тему, и золото волос, тронутых ранней сединой, становится символом перемены поэтического голоса:
Подобно тому как среди золотых прядей волос появляются седые, в золотом звоне голоса лирической героини слышатся серебряные звуки, связанные не с жизнью сердца (золота), а с областью того света. «Не жалейте!» – говорит читателю Цветаева. Ей словно не жаль этой перемены, потому что «все сбылось», осуществилось в сердце и гармонизовалось в слове. Как стройно сливаются небеса и «окрайна» в стонущей фабричной трубе, чья верхушка упирается в небо, чье основание закреплено в земле, так в цветаевских волосах спеваются золотые и серебристые пряди, а в ее голосе звучат золотой и серебряный, земной и небесный лейтмотивы.
Образ трубы станет ключевым в написанных следом двух стихотворениях под заголовком «Заводские» (23, 26 сентября 1922), где можно заметить явную перекличку с «Фабрикой» Блока, с «Необычайным приключением…» В. Маяковского. Цветаевские стихи, в которых запечатлены фабричные окраины Праги, говорят о тяжелом ремесле поэта, чья участь так же ужасна, как жизнь заводских:
Поэт уходит в искусство, метафорически – в «чайную», чтобы напиться из стакана души, утолить жажду и позабыть хотя бы на время о закопченных корпусах своего поэтического «завода». Чернорабочий души, поэт вечно жалуется на кривизны существования, его голос похож на вопль заводской трубы, в котором «на-смерть осужденность» и «заживо-зарытость». [13: Начальные стихи, из которых возникли «Заводские»: «И выброшенность на мороз», «Какая заживо-зарытость / И выведенность на убой». РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7, л. 27.] Поэты – бедные и сирые в мире богатых, в мире «бархатной сытости» тел, потому что душа в жизни бесправна, как заводской рабочий. Поэт не видит защиты и от Бога, «закуренного», задымленного земными низостями, чей искаженный образ можно увидеть лишь «над койками больниц и тюрем», над постелями смертников, на иконке, то есть в . Поэт – такой же «посредник» между небом и землей, между Богом и жизнью, как трагический взлет черной заводской трубы. Цветаева просит читателя вслушаться в свой отчаянный голос, предостерегая людей от дня, когда «над городом последним взревет последняя труба» – труба Страшного Суда, возмездия человечеству за бездушие, голос поэта… искусстве последнего
Продолжая тему 26 сентября, Цветаева пишет о том, что поэт листает на людских устах книгу вечности, то есть ищет в земной любви бессмертной души. На последней заставе между жизнью и тем светом, где «начало трав и начало правды», где начало подлинного бытия – мира истинного, обращен поэт «птичьим стаям вслед», навстречу Небу, потому что на земле поэту трудно дышать, он зарыт в землю, раб и судья людских пороков поднят над человечеством, «как позорный шест», распят, как Христос. Голос поэта – голос «шахт и подвалов»: сокровища души и лирики добываются тяжелым трудом. Голос поэта – голос «лбов на чахлом стебле» – живых духом и едва живых телом. Голос поэта – голос «сирых и малых», одиноких и бедных в мире богатых, «правых» в своем негодовании, в ожесточенном отношении к жизни. Голос поэта – голос «всех прокопченных»: Цветаева перефразирует строки из «Скрипки Паганини» Б. Пастернака («Поверх барьеров») :
Позднее, в 1926 году, Цветаева напишет о Пастернаке П. П. Сувчинскому:» – Его там (в России – Е. А.) – за бессмертие души – едят, а здесь в нем это первенство души оспаривают. Делают из него слов, когда он – ШАХТЕР – души» (VI, 319). Далее цитируются два стиха из «Скрипки Паганини». Заводская труба в ее «Заводских» – голос поэта, состоящего на службе у демона ради хлеба поэтической речи («Черт за корку купил!»), того, кто с помощью «рычагов и стропил» поэзии возносится в Небо. Поэт, вечно находящийся под ударом времени, это голос вещей, имеющих голоса: «Голос всех безголосых / Под бичом твоим, – Тот! / Погребов твоих щебет, / Где растут без луча. / Кому нету отребьев: / Сам – с чужого плеча!» В погребах поэтического творчества, в недрах души, рождается щебет птенцов-стихов, жаждущих выбить пробки, сдерживающие вино лирики. Всякая чужая душа присваивается поэтом; его стихи – одежды «с чужого плеча», навалившиеся горой, так что поэт закаменел от ноши: мастера не
Образ швейки, многократно повторяемый Цветаевой, возник, вероятно, как отголосок стихотворения «Полярная швея» («Поверх барьеров») [14: См. «Весна наводит сон…», «Рельсы», «Крик станций», «Над колыбелью твоею – где ты?..», «Дней сползающие слизни…».] :
У Пастернака швея – «закройщица тех одиночеств» – природа, объясняющаяся знаками с влюбленным поэтом. У Цветаевой она сама – швейка, исполняющая небесный заказ. Отец величайшего поэта Германии, И. В. Гёте, , и для Цветаевой, любящей Гёте, это, безусловно, символично. Поэтическое ремесло – искусство кройки и шитья. Цветаева использует образ швейки, когда хочет подчеркнуть рабскую зависимость от судьбы, от воли Закройщика человеческих жизней. был сыном дамского портного
Поэт не поет, а выкашливает болезни своих легких; творчество – стирка загрязнившихся в жизни одежд души («Черных прачешен кашель»), избавление от зуда «вшивой ревности», низких чувств – намеренная (?) перекличка со стихотворением Ахматовой «Мне ни к чему одические рати…» и воспоминание о главном герое романа Джека Лондона «Мартин Иден», работавшем в прачечной. Голос поэта, неимущего в мире имущих, души «без рубахи – челобитная Богу и ода красоте созданного им мира:
Лирика – ложь в Царстве земном, является правдой Царства Небесного, где поэта по-настоящему поймут. «Бедному на том свете дадут шубу, богатому – душу», [15: СВТ, с. 109.] – с усмешкой размышляет Цветаева в тетради. А 27 сентября возвращается к теме своей ранней седины в стихотворении «Это пеплы сокровищ». Серебристые струны волос – «пеплы сокровищ», прах перегоревших в душе страстей, утрат, сокровища лирики. Поэт – «голубь голый и светлый», сиротливый крылатый дух, чье одиночество воплощено в его лирике, в цвете его волоса и в звоне его голоса. Лирика – «Соломоновы пеплы», мудрость поэта, свидетельство того, что все чувства проходят, перекипев в котле души, застыв в слове: Соломоново»… все суета и томление духа» (Екклез. 1; 14). Пожар страстей в душе сменяется мелом духовного прозрения. Смерть чувств – знак встречи с Богом, господство духа пламенного, победа Вечности над Временем: «Эта седость – победа / Бессмертных сил». В первоначальном наброске стихотворение «Это пеплы сокровищ…» начиналось мотивом бессмертия:
Но не слишком уверенно Цветаева рисовала тот свет в своем воображении. В стихотворении «Спаси Господи, дым!..» (30 сентября 1922) человеческий страх перед неизвестностью Вечности соотносится со страхом квартиросъемщика, меняющего жилище. Вариантом начала было:
В окончательном тексте:
Этот свет задымлен печами быта и страстями, сыр от слез, тускл, освещен слабым творческим огнем. свет так же страшен, как этот?» – спрашивает себя поэт. И мечтает: «Хоть бы деревце хоть / Для детей!» «Дети» Цветаевой – десятилетняя дочь Аля и дети-стихи. «Деревце» – лик природы, предмет любования, образ ненаписанных, жаждущих осуществления стихов, как Маруся-деревце в «Молодце». Лирическая героиня вообще сродни божьему царству: «У меня румяна / Туманы». [18: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7, л. 86.] О чем она станет петь , на месте? Так же ли строг «Тот» непреклонный Квартиросдатчик, как земные хозяева жизни? И какими стихами сможет расплатиться Орфей века двадцатого за вход в Царство Небесное? Этот мотив звучит в стихотворениях «Чтоб дойти до уст и ложа…», «Рассвет на рельсах», «Жалоба» («Федра»). В стихотворении «Спаси Господи, дым!..» после 12 стиха зачеркнутые строки в тетради: «Тот там новом
Мысль о «соседе», который окажется рядом в Царстве Небесном: «И каков-то сосед? / Хорошо б холостой, да потише!» – мечта о поэте. В этой связи упомянем мемуарное свидетельство Л. Озерова об Ахматовой, сказавшей о Пастернаке: « – Самый вероятный сосед на Страшном Суде…» [20: Л. Озеров. Разрозненные записи: В91, с. 599.]. Цветаева могла тоже подумать именно о Пастернаке. Наслаждения, счастья нет в старом, земном доме, но затхлость земного бытия привычна, воздух дома надышан легкими поэтов, «захватан» страстями: надышан / Дом, пропитан насквозь! / затхлости запах!» Жизнь в искусстве – «как с ватой в ухе», искажение звучания голоса, но это привычное искажение: «спелость, сжилось». Земной дом хотя стар, «все мил». В восприятии Цветаевой, на том свете у души не будет своего дома, там – номера гостиницы («А уж тут: номера ведь!»), недаром в «Попытке комнаты» в 1926 году Цветаева вообразит Гостиницу Свиданье Душ. Тот свет страшит Цветаеву неизвестностью, непредсказуемостью не меньше, чем шекспировского Гамлета. «нами Нашей
«Хвала богатым», датированная тем же днем, 30 сентября, законченная, как помечено в беловой тетради, в день Алиных именин, [21: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 90.] выросла из мысли предшествующего стихотворения о судороге карманов, особенно обидной из-за того, что дочери неимущая Цветаева хотела бы подарить весь мир. По мнению поэта, богатые на том свете окажутся бедными, потому что будут судить по величию и богатству души: когда богатства мирские потеряют цену. И потому Цветаева жалеет богатых «за какую-то – вдруг – побитость, / За какой-то их взгляд собачий / Сомневающийся…». «… Удобнее верблюду пройти в игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (От Матф. 19; 24). Великие мира сего не могут войти в узкую дверь Царства Небесного. Считавшие бриллианты «по каратам», богатые – нищие в Царстве души: там
Последнее авторское признание «люблю богатых» двойственно. Любя обладателей материальных ценностей, Цветаева слово «люблю» дает курсивом. Оно символизирует убеждение в том, что ложь в земном мире является правдой в Царстве Небесном. На своего «люблю» она в данном случае идет сознательно, подчеркивая лживость словесного выражения мыслей и чувств, ведь жить для нее – «это и неустанно кривить и неустанно гнуться и уступать». [23: СВТ, с. 103.] не кривизну кроить
Золото моих волосТихо переходит в седость.– Не жалейте! Все сбылось,Все в груди слилось и спелось.Спелость – как вся даль слиласьВ стонущей трубе окрайны.Господи! Душа сбылась:Умысел твой самый тайный.(II, 149—150)Стоят в чернорабочей хмуриЗакопченные корпуса.Над копотью взметают кудриРастроганные небеса.В надышанную сирость чайнойКартуз засаленный бредет.Последняя труба окрайныО праведности вопиет.Я люблю тебя черной от сажиСожиганья пассажей, в золеОтпылавших андант и адажий,С белым пеплом баллад на челе,С загрубевшей от музыки коркойНа поденной душе, вдалекеНеумелой толпы, как шахтерку,Проводящую день в руднике.Шевельнуться не смеет:Родился – и лежи!Голос маленьких швеекВ проливные дожди.Черных прачешен кашель,Вшивой ревности зуд.Крик, что кровью окрашен:Там, где любят и бьют…Смотри: с тобой объясняется знакамиПолярная швея.Отводит глаза лазурью лакомой,Облыжное льет стекло,Смотри, с тобой объясняются знаками…Так далеко зашло.Еженощная одаКрасоте твоей, твердь!Всех – кто с черного ходаВ жизнь, и шепотом в смерть…Оттого что так рано мой волос седОбещаю и знаю, что смерти нет.[16: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7, л. 38.]А уходят из этого мираС тем же страхом, с какимПеременяют квартиру[17: Ц84, с. 615.]Спаси Господи, дым!– Дым-то, Бог с ним! А главное – сырость!С тем же страхом, с какимПереезжают с квартиры:С той же лампою-вплоть, —Лампой нищенств, студенчеств, окраин.Хоть бы деревце хотьДля детей! – И каков-то хозяин?И не слишком ли строгТот, в монистах, в монетах, в туманах,Непреклонный как рокПеред судорогою карманов.Круто выпятив грудь,(Свод отличий такого-то года…)Хорошо б прошмыгнутьПотихоньку по черному ходу![19: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 89.]Есть такая дурная басня:Как верблюды в иглу пролезли,…За их взгляд, изумленный на-смерть,Извиняющийся в болезни,Как в банкротстве… «Ссудил бы… Радбы —Да»…За тихое, с уст зажатых:«По каратам считал, я – брат был»…Присягаю: богатых! люблю[22: Вариант в БТ: «о верблюдах, что в рай пролезли…». РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 89.]Глава одиннадцатая. «Шагом Семирамиды»
1 октября Цветаева продолжает жить думами о Царстве Небесном, пытается облечь в слова свои видения в стихотворении «Лицо без обличия…». Первые строки первого стихотворения будущего цикла «Бог» – вариант 7—8 стихов: «Все криком кричавшие / В тебе смолкли». [24: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7, л. 44. В окончательном тексте – вместо смолкли – «стихли».] Потом возникло известное всем начало: Бог у Цветаевой – «лицо без обличия», одушевленная «Строгость», пленительное олицетворение Согласия, Гармонии не спевавшихся в жизни голосов души. «Все ризы делившие / В тебе спелись» – вариация библейского: «Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий» (от Матф. 27; 35). Царство Бога – область, в которой успокоятся «все криком кричавшие», все страдавшие поэты и художники, все мученики, чьи голоса споются в едином общем хоре. Тот свет – «победа над ржавчиной – / Кровью – сталью», над миром плоти, страсти и раны. На том свете во весь рост поднимутся распятые бытом: «Все навзничь лежавшие / В тебе встали». Жажду достигнуть совершенного Божьего царства Цветаева ощущает и в сбрасывающих листья деревьях. Она видела сходство вечно бегущего Бога и его творения – Земли: «Ибо Беглец Бог, / И мир за ним гонится…» [25: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7, л. 56.] – ищет она в тетради. В стихотворении «Беглецы? – Вестовые?..», написанном 3 октября 1922 года, лес воплощается наездником, пытающимся умчаться вслед Богу, на бегу роняющим одежды листвы, чтобы легче было нестись в небеса.
Первоначальный вариант 3—4 стихов подчеркивал уподобление творчества сновидению: «Или сны верховые, / В чащах Бога узрев?», [26: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7, л. 55.] – из любимой сказки Андерсена «Снежная Королева», где сны – движущиеся персонажи сказки:
Вариант в тетради 7—го и 8—го стихов: «Сколько рушится зданий / В убеганьи дерев». [27: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7, л. 52.] Другой отвергнутый вариант: «Сколько рушится зданий / Молодых королев. / (Чтоб не слишком страдали!)» [28: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 7, л. 53.] Королевой из сказки Андерсена или Марией Стюарт видит себя Марина Ивановна? Ее царство в самом деле очень подвижно, буквально разбивается на лету. Листопад в окончательном тексте стихотворения назван сухолистым потопом и соотносится со всемирным. Цветаева использует образ наездника, всадника, чтобы дать движение леса. Сквозь падающие листья живописует Цветаева «опрометь копий» и «рокот кровей», образы библейских царей Саула и Давида. Древесная тема сплетается с сердечными переживаниями, с мыслями о Пастернаке:
В другой редакции после восьмого стиха следовало:
Применение образа «хламиды» возможно, связано с тем, что на том свете одежды земли будут не в цене, как , отбрасываемый душой. «Тайны не выдам» – не выдам тайны. Подобно Давиду, спасавшемуся бегством от Саула (Перв. Кн. Ц. 19—23), Цветаева бежит от своего нового кумира и не может освободиться из лирического плена. Вариантом той же мысли было двустишие: «Или тот лавролобый / В чащах Дафну узрев?..» [30: СВТ, с. 110.] Эпитет «лавролобый» о боге Аполлоне впервые употреблен во время работы над стихотворением «Ах, с откровенного отвеса…». одежды – в беге дерев, его голос – в распеве поэтов и птиц: 4 и 5 октября Цветаева опять возвращается в живописанию Царства Бога („Бог“). Отдав людям книги и храмы, Творец мчит ввысь. Леса скрывают Бога одеждами листьев, служат „тайной охраной“:» – Скроем! – Не выдадим!» Поэты («нищие») в своей лирике поют о непознаваемости Бога, скрытого от людей темной древесной стражей: хлам сердечной Боговы
Цветаева убеждена, что Бога нет и в храме; «Бог из церквей воскрес», сбросил последнюю тяжесть, удерживавший его на земле церковный крест, – и взвился ввысь, «как стройнейший гимнаст». Для Цветаевой динамичный Бог похож на циркового артиста, способного улететь из жизни «в малейшую скважинку», на разводные мосты, перелетные стаи и телеграфные сваи; бог – кочевник и «седой ледоход» в «чувств оседлой распутице», замораживающий земные чувства. Хотя и поэтам, и летчикам хотелось бы услышать зов Великого Зодчего, но их надежды напрасны, «ибо бег он – и движется», а все мироздание, вся «звездная книжица» – «след плаща его лишь», след прекрасных одежд, оставленных человечеству.
Подобно Богу, поэт заживо раздает людям в творчестве одежды души, чтобы нагим подняться в небо. Об этом Цветаева размышляет во время работы над стихотворением «Так, заживо раздав…» (7 октября 1922), написанном, как пометила Цветаева в тетради, 25—го русского сентября 1922 г., в день именин С. Я. Эфрона, в полковой праздник бойцов «Марковского» офицерского полка Добровольческой армии, в котором три года гражданской войны воевал муж, и в канун своего тридцатилетия, когда еще так рано подводить итоги. Стихотворение возникло из четверостишия, записанного во время работы в сентябре над стихами, вошедшими потом в цикл «Деревья»:
Существует несколько его редакций, что свидетельствует о важности темы, о попытке наиболее точно выразить чувства. В черновом варианте «Так, заживо раздав…» встречаем сравнение с царицей Савской:
Переписывая это стихотворение в беловую тетрадь, Цветаева изъяла строку в скобках, касавшуюся Пастернака « (Шагом – без провожатых!)»; мечтала видеть Цветаева спутником, провожатым в Царство Небесное; она ввела в текст новый вариант шестой строки: «Лестницей трав несмятых», а также немного усложнила пунктуацию, но, переписывая, остановилась на тринадцатом стихе. [33: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 4, л. 92.] По преданию, у царицы Савской были козлиные ноги. Чтобы проверить, правда ли это, Соломон велел выложить пол в одной из комнат хрусталем. Царица приподняла край одежды, приняв пол за озеро, и царь смог узнать, истинно ли предание. Цветаева представляет, как, раздарив свои стихи, она отправится в реку смерти; на вечном берегу ее будут ждать «ризы – прекрасней снятых». Частое упоминание одежд того света, возможно, связано с «Откровением» Иоанна Богослова: «Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со Мною в белых ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его перед Отцем моим и Ангелами его» (3; 4—5). Вместе с тем, строки Цветаевой отсылают к «Урокам английского» («Сестра моя – жизнь») : его одеждах
У Пастернака страсть как будничная одежда оставляется на берегу перед встречей со Вселенной. Легенда о Соломоне и царице Савской вспомнилась Цветаевой из-за обиды на Пастернака: « (А может от щедрот / Устав и от хваленой / Мудрости Соломона…)» – с нескрываемой досадой говорит она, заключая в скобках самые тайные переживания. Щедроты мудрого Соломона – сокровища лирики Бориса Леонидовича. От него с июня нет вестей, письмо придет только в ноябре.
В окончательной редакции «Так заживо раздав» всего девять стихов:
В этом варианте, опубликованном в «После России», свой шаг из жизни в реку смерти Цветаева живописует через воспоминание о Семирамиде – дочери сирийской богини, сироте, оставленной в горах, которую вскормили голуби, а воспитали пастухи. В образе Семирамиды Цветаеву привлекало ее сиротство. Тема сиротства лейтмотивно звучит в «После России». «Сиротство» – хотелось назвать Цветаевой одну из книг, возможно, «Земные приметы»: эти два заглавия рядом в тетради. Важны божественное происхождение Семирамиды, и горная тема в мифе о ней, и превращение после смерти, и значение имени: Семирамида, в переводе с греческого, – «горная голубка». В контексте мифа о Семирамиде, крылья и перья голубки – «ризы – прекрасней снятых», которые получит лирическая героиня после смерти, «по выходе из вод». В черновой тетради 1924—1925 гг. появится еще один вариант соотнесение с восточной красавицей Шахрезадой, тысяча и одну ночь рассказывавшей сказки царю Шахрияру: «Шагом Шахрезады… А может от длиннот / Устав – до птиц, и позже / Сказки своей, все той же…». [34: РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 12, л. 74.] Той же сказкой назовет Цветаева перепевание одних и тех же тем в лирике, отлично сознавая, что лирическое высказывание «кругло», возвратно, о чем напишет в статье «Поэты с историей и поэты без истории».







