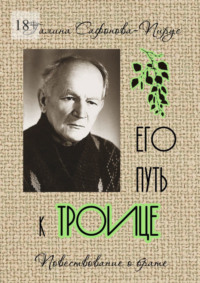Полная версия
Игры с минувшим. Автобиографическая повесть
Спела я маме сегодня свою любимую песню:
Что стоишь, качаясь,Тонкая рябина,Головой склоняясьДо самого тына?– Как бы мне, рябине,К дубу перебраться?Знать мне, сиротине,Век одной качаться…Когда кончила петь, мама сказала:
– Как же трудно оставаться вдовой и воспитывать детей! – Это она – о себе. – То, бывало, устанешь, а муж подойдет, скажет ласковое слово, и опять силы появятся.
Мама-мама! Ведь я тоже не слышу ласковых слов, и даже не знаю: а какие они? Вот только иногда брат скажет, шутя: «Милая ты моя Галка!», а у меня и забьется радостно сердце.

Я и мама
Не до ласковых слов было маме. Жили мы тогда – мама, брат Виктор и я – в наспех построенной после войны хате, – та, что была до войны, сожгли немцы при отступлении. Отец наш, хотя и возвратился с фронта, но через год умер от контузий, старший брат Николай, тоже фронтовик, учился в институте в Ленинграде, а другой брат, Виктор, работал преподавателем физкультуры в деревне под Карачевом. Помню, когда приезжал домой, привозил мне гостинец, – несколько пряников… нет, тогда их называли жамками, и почему-то они всегда были такими чёрствыми! Но когда я залезала на печку и подолгу их грызла, то казались удивительным лакомством!.. А мама зарабатывала на жизнь нашу тем, что летом торговала овощами с огорода, а зимой шила и продавала одеялки, за что её часто забирали в милицию10, – считалось, что занимается спекуляцией. Часов с двенадцати я начинала её ждать, – становилась у окна и смотрела на дорогу: не идет ли? И если не возвращалась до самых сумерек, то это значило: опять забрали. Поэтому-то и до сих пор плохо переношу зимние солнечные послеобеденные часы, – настигает депрессия.
С крыши закапали капели и с южной стороны завалинки подтаял снежок. Собака Ласка греется возле нее до вечера на солнышке, а кот еще не желает. Брат Виктор снова выгреб пчелиный подмор из ульев, а мама высыпала его в решето и подогрела. Некоторые пчелки ожили. Раньше пчел, которые выползали из улья, мы почти всех убивали, а теперь каждую стараемся посадить в улей.
Сегодня с утра была почти весенняя погода, а после обеда подул холодный ветер, нагнал облаков и солнце спряталось. Но к ночи оттаяли окна. И всё же весна! Второй день дует южный ветер, все радуется теплу, и мама вывела нашу Зорьку из закутки, чтобы погрелась на солнышке.
Всё сильнее пригревает солнце, вздулась наша Снежка, и за плотиной стала, как небольшое озеро.
Иногда память… или сердце?.. подбрасывает из детства вот такое: Наша карачевская речушка Снежка, тогда еще бойкая, с прозрачной водой, с песком на дне, с извивающимися косами водорослей, и я с корзинкой в руках. Опускаю ее навстречу течению, завожу под косу, болтаю ногой, вспугивая рыбёшек, а потом рывком поднимаю. Быстро-быстро, с шумом исчезает вода, а там, на дне трепыхается, бьется о прутья рыбка, плотвичка серебристая. О, радость! О, запахи воды, тины, сырой корзины!.. И хотя тут же отпущу мою серебристую рыбку, но ведь видела ее, видела!.. и она была!.. в моих руках!
Владимир Владимирович Набоков11:
«Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие тематических узоров, и есть задача мемуариста». А, может, тематический узор моей жизни – в вечном стремлении ловить и отпускать «рыбок серебристых»?
Наша Зорька вот уже третий день лежит возле дома на огороде, потому что у неё нет сил подняться. На ночь мы укрываем ее, и мама не знает: что делать? Как же мне жалко нашу Зорьку! Наверное, она умрет.
Вчера приходил ветеринар и сказал, что лечить нашу корову нечем, а сегодня, когда я пришла из школы, то нашей Зорьки уже не было. Весь вечер иногда начинаю плакать.
Снега уже нет, последняя, грязная вода стекла в овраг, везде зазеленела молоденькая, острая травка. И как же грустно, что наша Зорька не дожила до неё!
И все же, несмотря на бедность и недоедание, нет у меня тяжелых воспоминаний о детстве, – память сохранила лишь радостные моменты. И не было для меня слишком трудным даже то, что каждый день надо было вставать в шесть утра и идти к магазину, чтобы пораньше занять очередь за положенной по карточкам буханкой хлеба, а потом дождаться той синей будки, в которой его наконец-то привозили на санях или повозке. И до сих пор живо ощущение радости, когда иду домой с той самой буханкой и жую уголок-довесок к ней, – почему-то всегда его давали, и он полагался мне по праву. Да и потом, когда мама разрезала эту буханку на равные кусочки и раздавала нам, то я, в очередной раз прибегая в дом и понемногу отщипывая от своего, каждый раз заново радовалась: еще не всё, ещё осталось!.. Да и те школьные кусочки чёрного хлеба – горбушка!.. ах, хотя бы досталась горбушка! – с горочкой сахарного желтоватого песка, которые нам иногда давали в школе. Я и сейчас ощущаю во рту кисло-сладкий вкус нечаянного лакомства!.. Да и этот «Дорожный батон», который муж только что принес, люблю, наверное, потому, что напоминает ту самую булку, которую однажды выменяла на гопик – лепёшку из мерзлой картошки, перекрученной на мясорубке и приправленной луком. Кстати, и еще один радостный момент из памяти: черный, влажный развал оттаявшей земли и в нём – промерзший светло-коричневый клубень картошки! Наверное, дети умеют быть счастливыми потому, что довольствуются малым и воспринимают жизнь настоящим мгновением. И как же плохо, – не мудро! – когда взрослея, мы теряем эту способность.
Когда на каникулы приезжает из Ленинграда наша соседка, то как жадно слушаю то, что рассказывает! И как становится радостно, что через три года и я смогу поступить в институт, жить веселой жизнью.
Интересно, почему меня больше тянет к подруге Лоре, а не к двоюродной сестре Вале? Наверное, потому что у Лоры нет той жестокости, которая есть у моей сестры. Да, любит она уколоть человека каким-нибудь едким словом и это у неё от матери, от тети Дины.
Лёд на Снежке трогается, около большого моста льдины уже взрывают, а на полях еще лежит снег. Лариска, мой дорогой Чижик, сказала сегодня, что они, наверное, уедут из Карачева. Я не могу себе представить: и как я буду жить без неё? Если там, куда они уедут, не будет школы, то она не сможет окончить десять классов. Как жалко! Ведь она так мечтала стать пианисткой!
Как только пригревает солнышко, в небе начинают петь жаворонки, а на деревья усаживаются черные скворцы и, важно посматривая вниз, посвистывают. Все чаще по вечерам в северную сторону пролетают стаи птиц, наполняя воздух тихим свистом. А в городском парке по вечерам уже начал играть духовой оркестр и на площадке – танцы. Но мы туда не ходим, мы «еще маленькие», как говорит о нас с Лариской мой брат, поэтому вечерами прогуливаемся по центральной Советской улице. Да нет, еще не гуляем, как некоторые девчата из нашего класса, я еще не любила и не собираюсь любить, а вот дружить всегда буду, если со мною захотят.
Опять ходили с Лариской в библиотеку, в читальный зал. Я взяла «Консуэллу» французской писательницы Жорж Санд12, а она – «Дон Кихота» Сервантеса13. Прочли по несколько глав и ушли. Прошлись по Советской, снова пришли к клубу и столкнулись там с Сережкой Лашиным. Поговорили с ним, а потом прошлись еще и по Первомайской, по Карла Маркса, по Свердловой и узнали, что Серёжка учится в школе заочно, а днем работает в клубе, хотя ему тоже четырнадцать.
– Идут ребята в школу, а мне так завидно на них глядеть! Кажется, бросил бы всё и пошел с ними, – сказал так грустно.
И мне стало его жалко.

Подружки. Лариска – рядом.
Приехал отец Лариски, моего дорогого Чижика, чтобы всю семью увезти в какой-то Сыктывкар, так что нам придётся расстаться и, может быть, навсегда. Как мне тяжело от этого! Хожу в угнетенном состоянии, – ведь она самая лучшая моя подруга! Без нее мне останется только играть с собаками, кошками да читать книги.
Вчера, когда вышли с Лариской из библиотеки, услышали из репродуктора, что передают оперетту. Стали под столб, на котором он висел, и начали слушать. Через какое-то время подошел Сережка Лашин:
– Что вы здесь стоите? – спросил. – Ведь сейчас в школе вечер.
Пошли в школу, а там никакого вечера и нет. Немного побили Сережку за то, что обманул, и отправились с ним же в клуб. Но там шёл просмотр художественной самодеятельности, и мы пошли домой. Около колонки остановились, поговорили о карликах, о постановках, которые слушали по радио, о книгах, о фильме «Тарзан»14. Этот фильм мне очень нравится и завтра снова идет в клубе.
Мой дорогой Чижик! Всё же она уехала со своей семьей в Сыктывкар. Как тяжело расстаться с человеком, который тебе дорог, которого любишь! Неужели нам уже никогда не встретиться? Весь вечер к горлу подкатывает комок, так и хочется разрыдаться. А тут еще какая-то непостоянная погода: то солнце светит и бегут ручьи, а то вдруг подует ветер и опять начнет лепить мокрый снег.
От Лоры нет и нет писем. Наверное, нашла себе там друзей, подруг и забыла обо мне.
Вечером, когда подходила к школе на дополнительные занятия по истории, увидела, что она – в каком-то тумане. А тут еще со стороны деревни Затинной вдруг потянуло свежестью, и прямо на меня стала наползать сплошная туча тумана и закрыла школу, дома вдоль улицы. Я взглянула на солнце, а оно стало похоже на размытый желтый шар, потом и он начал меркнуть, исчез, а на улице потемнело, как в пасмурный вечер. Такое видела впервые.
Нет у меня подруги или друга, которому можно было бы доверить свою радость, свое горе. Была Лариска, мой дорогой Чижик, но теперь ее нет. Помню, как зимой забирались с ней на печку и вспоминали детство, мечтали о будущем. Как же плохо без нее! Никак не отвыкну от неё и всё кажется, что уехала куда-то только на несколько дней и вот-вот вернётся.
Наконец-то от моего дорогого Чижика получила сразу два письма! Как же рада им! Стараюсь уйти в уединенное место, усесться поудобнее и читать их, читать.
Сегодня сидела возле дома и вдруг около сарая увидела ласку: ушки торчком, глазки черненькие и блестящие, как стеклянные, сама беленькая, а головка светло-коричневая. И бежала от погреба, несла в зубах мышь, а когда собака погналась за ней, то бросила её и скрылась за столбом. Как ни искала, найти не смогла.
На уроке истории учительница рассказала, как французами был завоеван греческий город и четыреста пленных расстреляли на берегу моря. «Вот если бы написать роман об этом и героем сделать кого-то из этих воинов!» – сказал я Данилкиной Зине. «И ты сама до этого додумалась?» – удивилась она.
«Суть преображения не во внешнем, заметном глазу. Суть во внутренней перемене, во внезапном загорании внутреннего света, во внезапном открытии целой лестницы вверх, по которой идти и идти. И это – исчезновение стен, открытость бесконечному. Это – способность взглянуть на мир глазами Бога, способность ответить на свои же вопросы – человеческие, слишком человеческие – на вопли страдающего сердца и разума так, словно Бог дал человеку СВОЙ глаз».
По-видимому, пробуждение во мне желания вести дневниковые записи и было началом того самого преображения, о котором пишет Григорий Померанц15.
Глава 3. Поиск иного неба
1952-й. (Мне – пятнадцать).
Очень долго не открывала дневник, писать не о чем, все дни похожи на тихую поверхность озера без единого всплеска. Скука. И только природа уносит мои печали. Вот и сегодня днем небо светилось голубизной, не было ни облачка, а к вечеру появились, и когда садилось солнце, то окрасились в бледно-розовый цвет с беловатой каймой по краям. На фоне голубого неба это смотрелось очень красиво! Наверное, никакой художник не сможет перенести такого на полотно.
Приходил к нам мой учитель математики Иван Григорьевич и почти кричал маме: «Вы избаловали свою дочку! Вы не заставляете ее трудиться!» Мама вначале молчала, а потом тихо сказала: «А вы хоть раз спросили мою избалованную дочку: сыта ли она? А вы знаете, что сегодня разбудила её в пять утра, чтобы помогла наносить воды из колодца и полить огород?» А он ничего не ответил и ушел.
Училась я плохо, и особенно весной, когда надо было помогать маме на парниках. А начинали их готовить для помидорной рассады уже в начале апреле, чтобы через месяц можно было её пикировать. Что такое «пикировать»? О, это очень просто: разложишь чуть окрепшие ростки в рядок и присыпаешь земелькой, разложишь и присыпаешь, разложишь… и так – сотни и сотни раз. Неделя-две «пикировки» давалась нам с мамой такого, что в сумерки почти вползали в хату и на другое утро трудно было встать, чтобы приготовить что-то поесть. Ну, а потом надо было рассаду вовремя поливать и понемногу, чтобы не заболела «черной ножкой», снимать рамы на день, накрывать ввечеру, а тут подходила пора и на огороде что-то посадить, посеять, – до уроков ли было?
Какие бывают ночи! Дневной ветер к вечеру улетает и становится тихо, только иногда слышатся шаги прохожего или зальется лаем встревоженная собака. Запахнет дымком, а прямо над головой начнут мерцать золотистые звезды Большой медведицы, и если пролетит самолет, то его шум, переплетённый с музыкой радио, вдруг образует грустный, щемящий звук.
Очень хочется написать сказку или маленький рассказ и послать в какую-нибудь редакцию.
(Моё стихотворение)
И вновь весна настала!Ручьями засверкала,Наполнила собоюПрироду и сердца.Понять она не может,Что сердце так тревожитИ запах вербы тонкий,И даже свист скворца.У меня нет хороших подруг. Школа для меня – неприятная обязанность, потому что нет учителей, с которыми было бы интересно. Кажется, что и им скучно с нами. От этого – тяжелое душевное состояние, и развеять его не могу, а если смеюсь, то сквозь слезы.
Из учителей в памяти остались только четверо… нет, не «остались», а словно не выцвели, не стерлись карандашными набросками.
Седые, почти белые волосы, рыхлое, словно мятое лицо. И это – Паня Григорьевна, учительница литературы. Она держит в руке тетрадь с моим сочинением и, с ноткой осуждения, читает отрывок из него, где я сравниваю Катерину из «Грозы» Островского с цветком, который пересадили не в ту почву. Дочитала. И ученики хихикают вместе с ней.
Желтоватые, завитые, пышные и до самых плеч волосы, белёсое от пудры лицо и ярко-красные большие губы, а когда улыбается, обнажаются большие зубы. Вот и всё, что сохранилось от Любови… (отчества не помню), учительницы немецкого языка.
Остроносое, мелкое лицо с туго натянутой желтоватой кожей, жесткие, прямые волосы, серые глаза, которые со злостью смотрят на меня, – Иван Григорьевич, учитель математики. И вот он резко выкрикивает что-то, – я зажала в губах прядь волос, а ему это противно.
И уж совсем тенью – учитель химии: сутулый, мешковатый, в очках с темной оправой, через которые смотрят большие умоляющие глаза, – ну, пожалуйста, успокойтесь, не шумите! – на нас, учеников, которые его урок воспринимают как продолжение перемены.
И больше никого не помню. А ощущения от школы… Меня должны вызвать, а я ни-ичего не знаю! Да нет, тупой не была, а вот уроки почти не делала, – осенью и весной надо было помогать маме на огороде, а зимой… Зимой рано смеркалось, электричества у нас еще не было, а под керосиновой лампой долго не просидишь. Но как-то старший брат Николай, который учился в институте в Ленинграде, соорудил во дворе ветряк, который заряжал аккумулятор, и проводка от него тянулась к ма-аленькой лампочке на кухне, где я и делала уроки. И вот однажды этот аккумулятор при сильном ветре вдруг оглушительно взорвался, забрызгав всё вокруг кислотой и накрыв нас с мамой вонючим облаком, а мы, спрятавшись за печку, сидели там и не знали, что делать. Но только год и прослужил нам ветряк, а на следующий, когда ударили сильные морозы и по стенам поползла белая изморозь, брат Виктор спилил его и мы, хотя и остались с керосиновой лампой, но зато несколько вечеров отогревались на печке.
1953-й (Мне – шестнадцать)
Вчера на танцах был Герман, брат моей подруги Веры, – он приехал к ним в гости из Москвы, – а у меня было угнетенное состояние и все думалось: как же, наверное, мы серы, дурашливы, мелки в его глазах! Но сегодня Вера передала его слова: «Если бы эту девочку одеть во что-то модное, то была бы настоящей москвичкой». Как я рада, что он заметил меня! Значит, отличаюсь чем-то от остальных? Теперь Герман останется самым светлым и радостным воспоминанием.
В те годы, как только становилось тепло, в парке, что в квартале от нашего дома, начинал каждый вечер играть духовой оркестр, зазывая на танцы:
В городском саду играетДуховой оркестр.На скамейке, где сидишь ты,Нет свободных мест…Но еще не укрыты парники, не всё сделано на огороде, не вымыты руки, ноги… А подруги ждут, торопят, да и оркестр играет тот самый вальс, под который вчера танцевала с НИМ!
Но вот идём, торопимся к танцплощадке мимо клумбы, мимо чаши неработающего фонтана с мордочками львов. Ласкающая прохлада вечера, аромат цветущих лип, звуки вальса… Ах, увижу ль ЕГО и пригласит ли снова?.. Нет, такое – только там, в далёкой юности, когда душа живёт в ожидании чуда… Но всё равно, слышать духовой оркестр для меня и теперь – праздник! И жаль, что не играют в парках.
После дождичка небеса просторны,
голубей вода, зеленее медь.
В городском саду флейты да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.
Ах, как помнятся прежние оркестры,
не военные, а из мирных лет.
Расплескалася в улочках окрестных
та мелодия – а поющих нет…
Булат Окуджава16.
Когда схожусь с «верхушкой» класса, то настроение вроде бы улучшается, но потом становится грустно и чувство: не то говорила, не то делала. Надо меньше быть с ними. Вот не пошла сегодня на танцы, но зато прочитала несколько страниц Белинского17.
Толстый том Виссариона Белинского, литературного критика 19 века, брат привез из Ленинграда, отдав за него последние деньги. Статьями его зачитывался, да и я, хотя и не всё понимая, находила в них нечто завораживающее. О них, – Белинском, Чернышевском18, Добролюбове19, – говорили нам и в школе, но больше не как о литературных полемистах, а как о «буревестниках революции». И в какой-то мере учителя были правы, ибо литературному критику Белинскому принадлежат слова: «Лучшее, что есть в жизни, так это – пир во время чумы. И террор».
Что за морока копаться и копаться в себе? И хорошо ли это? Не знаю. Вот и сегодня весь день томлюсь. И такое бывает часто: вдруг без причины станет весело, потом грустно, и когда грустно, то хочется крикнуть: «Скучно жить на этом свете, господа»! И опустить глаза. И никого не видеть.
Из записной книжки:
«Из отрубленного, высохшего куска дерева можно выточить какую угодно фигуру. Но уже не вырасти на том суке свежему листу, не раскрыться на нем пахучему цветку, как не согревай его весеннее солнце». Тургенев. «Несколько слов о Тютчеве»20.
(Крупно, во весь листок): Сталин умер?.. Сталин умер. Умер Сталин!
При моей плохой памяти, все же сохранилось такое: нас, учеников, собрали в спортивном зале, и директор школы объявляет: «Перестало биться сердце нашего дорогого и любимого вождя…». Но вдруг закрывает лицо носовым платком, рыдает. Вокруг тоже раздаются всхлипы, а я стою и, опустив голову, пытаюсь под ладонями спрятать лицо, – может выдать! – ведь Сталин для нашей семьи был не «родным и любимым». А сегодня смотрела последнюю серию документального фильма «Лилиана Лунгина21. Послесловие», и рассказывала она эпизод, как они с мужем из любопытства пошли на похороны «вождя народов» и увидели, что над огромным скоплением людей висит непонятное облако – «словно испарение от колыхающихся в каком-то страшном ритме людей: шаг вперед, шаг назад…» Мистика всеобщего психоза. И в день захоронения вождя было затоптано и раздавлено около четырёхсот человек. Так что, Сталин не только уничтожил миллионы и миллионы людей в годы терроров, но и потащил их за собой в могилу.
Из записной книжки:
«Терпение и победа шагают рядом. Где терпение – там и победа». Хафиз22.
Вчера пьяноватый мужик шел по улице и пел:
Пойду, плясану,
Трехунями трехану.
Пущщай люди поглядять,
Куда хуни полятять.
«Мечтать, дерзать и заблуждаться»! Шиллер23.
С подъёмами и спусками,
Где зеркало – вода
Бежит тропинка узкая.
Зовет она туда,
Где шелест листьев слышится,
Где свет и тишина.
Где солнца луч приветливей
Ласкает лепесток,
Где рано, зорькой утренней,
Стряхнет росу цветок.
Стряхнет вдруг серебристую,
И у моей ноги
Головку свою светлую
Поднимет из травы.
Это своё стихотворение посылала в Москву, в газету «Пионерская правда», а мне ответили: «Лучше читайте настоящих поэтов». Но брат отнес его в районную газету и там напечатали. Рада ли я была? Да, конечно, но смущало: о моих чувствах узнали чужие люди?
Были с Аллой в Доме культуры на вечере проводов «добровольцев» на целину. После доклада выступали и они, читали свои речи по заготовленным листкам и путались. Значит, во всем этом – лож?
«Как хороши, как свежи были розы
В моем саду. Как взор пленяли мой!
Как я просил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой…»24.
Записывая цитаты, ведя дневник и пытаясь что-то писать, не задумывалась тогда: зачем это делаю? А в девяносто первом, когда впервые издадут Николая Александровича Бердяева, прочту ёмко и точно сформулированную подсказку: «Дух дает смысл действительности. Дух есть как бы дуновение Божье, проникающее в существо человека и сообщающее ему высшее достоинство, высшее качество существования, внутреннюю независимость и единство… А творчество – обращенность к преображению мира, к иному небу и иной земле… оно есть менее всего поглощенность собой, оно всегда – выход из себя. Поглощенность собой подавляет, выход из себя освобождает».
Как хочется поговорить с кем-то, поделиться думами, чтобы поняли, помогли разобраться в чувствах! Но у меня лишь единственный друг и слушатель – дневник.
Моё стихотворение:
Быть бы птицей мне крылатой!
Я вспорхнула б в небеса,
И увидела оттуда
Горы, реки и леса.
Поднялась бы я высоко
Над просторами полей,
Улетела бы далеко,
Дальше, дальше от людей!
Не хочу я больше видеть
Их бестактности тупой.
Не хочу я больше слышать
Голос, вечно хлопотной.
Всё иное им постыло,
И у них мечты одни:
Лишь бы все спокойно было!
Сыты были б лишь они.
Да, ждала от тех, кого встречала, ярких поступков, примеров для подражания или хотя бы ответов на возникающие вопросы, но, увы! Не могу вспомнить того, кто дал хотя бы небольшой эмоциональный толчок, направил к чему-то, кроме брата Виктора. А позже с надеждой «всматривалась» в тех, в кого влюблялась. И первым был Вася. Работал он корреспондентом местной газеты и был даже красив, – чистое матовое лицо, светлые волосы, большой рот с чувственными губами, серые глаза. Впервые увидела его на танцевальной площадке и, – о, радость мгновения! – пригласил на вальс.
Вчера на танцах не было Васи. Он нравится мне, но в последнее время почему-то часто бывает грустным, а я никак не могу понять: почему? До того, как я согласилась с ним дружить, все было хорошо, он шутил, смеялся, но что же случилось?
В последнее время сблизилась с отличниками, нашей «верхушкой», и оказалось: какие же они пустые! Наверное, выучить что-то очень хорошо совсем не значит быть умным.
Вчера Вася всё спрашивал: почему я «такая»? А когда подошли к дому, и я сразу же хотела уйти, то он с такой тревогой посмотрел на меня! Даже вздрогнула от его взгляда.
Нет у меня близких подруг, нет и того, кого могла бы полюбить, но часто думаю: а каким Он должен быть? Пока не знаю. Но словно букет собираю из качеств, в котором и полевые цветы, и садовые.
Думаю, что Вася мог бы стать мне другом, но чего-то в нём не хватает. Может, откровенности? А еще замечаю, что появилось у него новое чувство ко мне, которое тревожит и которого боюсь.
Первое мое увлечение, первое разочарование… Сколько их будет потом! А тогда Вася довольно скоро стал мне скучен, – не оказалось в нём чего-то нового, яркого, да и зажат был, осторожен, а поэтому казался неживым. Сейчас-то понимаю, что в то время работать журналистом и быть искренним было даже опасно, а тогда… Вот небольшие отрывки «печатного слова» из случайно сохранившейся у меня газеты «Правда»25: «…Редакциям центральных и местных газет, Государственному комитету СССР по телевидению и радиовещанию и Государственному комитету ССР по кинематографии поручено обеспечить освещение в печати и средствами кино, радио и телевидения достижений в мелиоративном строительстве и эффективности мелиорации в реализации Продовольственной программы СССР»