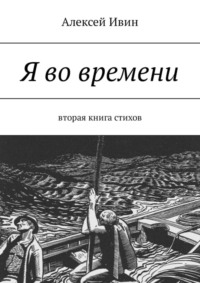Полная версия
Рассказы по алфавиту
Но этого не случилось. Не произошло вообще ничего, потому что в Корепине, подавляемый им, сработал тот самый запрет, то табу, которое присутствовало в нем с первой минуты знакомства с Любочкой. Корепин уткнулся в подушку, и вот тогда, возмущенная и уязвленная, с холодным грубым отвращением Любочка и спросила:
– Ну, и это всё, что ли?..
Эксперимент провалился. Любочка была женщина, покорная мужской силе и власти, пассивная; но, взамен и в качестве компенсации за покорность, она требовала денег и развлечений. К сильным мужчинам она привязывалась, в них мучительно влюблялась. С их триумфальным шествием по жизни связывала сокровенные надежды, «виды» – веселящей роскоши, автомобилей, красавца любовника, а лучше – супруга, на зависть подружкам, да чтобы автомобиль был заграничной марки, а мужчина – вылитый Джеймс Бонд, чтобы были пляжи, фешенебельные рестораны, лакеи. Таковы были мелкобуржуазные мечты. А что же было на деле? Грязные забегаловки, бесцеремонные официантки, которые мечут тарелки с подноса на стол, как дискоболы, конкурентки – пьяные фифочки, которые того и гляди начнут приставать к твоему кавалеру… Нет уж, хватит! Ей надоела эта блядская жизнь. Она страшно завидует и Наташке, и Верке – у одной муж инженер, на «москвиче» ездит, у другой художник, за границей уже два раза была. Чем она хуже их? И она искала сильного уверенного пробивного мужчину, ставила на него; но все они, пробивные, ни в грош не ставили ее и, овладев, бросали – кто раньше, кто позже. Мечтательница, она терпела неудачу за неудачей, стала почти что проституткой, и подавленное чувство собственного достоинства прорывалось грубостью, злобой; ей не везло, ее почему-то постоянно объегоривали, ею пользовались; и дошло до того, что она почувствовала инстинктивный страх в душе и усомнилась, не сильные ли и пробивные мужчины тому причиной? А этот… этот внушал смешанные чувства (сострадания и уважения); на первый взгляд, вялый какой-то, щебечет черт знает о чем и боится ее, мямля, прилипчивый, такой же, как она, закупоренный – и все же… Слюнтяй? Хитрюга?! Его ли эта дача? Что он за человек? Кто эта женщина на фотографии? Неуверенный, переменчивый и, одновременно, целеустремленный, он с о в п а л с нею такой гранью, что она почти не сомневалась: этот не бросит ее, попользовавшись и бесповоротно, он ее во всяком случае запомнит, он ей пригодится. Но – и это сбивало с толку – вел он себя с такой обреченностью, так, жалкий, в нее вцепился, что, откажи она ему, он мог решиться на что угодно – на самоубийство, на жестокость; чувствовалось, что этому парню буквально приспичило, уткнулся в тупик и ищет, кто бы его вывел. Нет, она не против, ради бога, но когда он торопливо и, в общем, умело стал обдирать ее, безучастно подумала, что все-таки в нем ошиблась и он подлец; когда же он столько всего в один присест наговорил, так переволновался и так опозорился, – тут-то она и поняла, что драпировки спали, что он мальчишка, сопляк, ничтожество (разглядела за туманом); и не то обидно, не то бесит, что ничтожество, а то, что, наобещав и затуманив, вдруг мгновенно лопнул как мыльный пузырь.
– Пусти, я оденусь, – неприязненно сказала Любочка.
Корепин не упрашивал повременить: бесполезно, ни к чему; он мрачно, ожесточенно раскаивался, казнил себя, что все п р и д у м а л, поторопился, решил, что выйдет и по придумке, без чувства, массированной атакой. «Идиот! – распекал он себя. – Куда ты гонишь, куда спешишь? Что, завтра жизнь кончается? Мордуют тебя все кому не лень, а ты до сих пор ничему не научился». Ему захотелось, чтобы Любочка ушла, и поскорей. Мало того, что осрамился сам – еще и над именем Светланы надругался, той самой, с которой у него все ладится и везде – в быту, в отношениях. Чего он ищет? Зачем раздваивается? Почему так боится свадьбы и бесповоротности, с нею связанной? Почему надо иметь непременно двух женщин, продублировать оба варианта, подстраховаться? Вот точное выражение – подстраховаться: от слова «страх». Надо быть мужчиной, мужиком, нести свой крест и не лезть в дерьмо. Он не презирал себя, но ему хотелось остаться одному, чтобы заняться самобичеванием, проанализировать причины проигрыша. Но странное дело: внутренне остервенился он – и поостыла Любочка. Уже одно то, что он ее не уговаривал, не удерживал (не малодушничал), а, еще недавно пристыженный и, казалось, уничтоженный, замуровался, – уже одно это заставило Любочку переменить первоначальное окончательное решение – уйти, хлопнув дверью. Хлопнуть дверью нетрудно, но будет ли от этого удовлетворение? Он ведь не остановит, вот что обидно. Она меланхолично, но с достоинством поруганной одевалась и уже оправдывала его: Ну, перенапрягся, с кем не бывает, нынче все психи… Лучше всего покурить, пока он очухается.
Она подошла к темному окну и закурила.
Корепин решил, что надо попробовать ее прогнать (сохранить собственное достоинство), хотя где-то в глубинах сознания уже блуждала надежда, что если она останется, все еще можно поправить. Конечно, она груба, но есть что-то необходимое и спасительное в сближении двух людей с подавленными инстинктами. Близости нет и не будет, но необходимее, чем горькие издевки над собой, нужна победа, выбор на развилке дорог – обеих: по одной идти, а другою, параллельной, дорожить и утешаться. Первый раунд игры закончился, начался второй; исход заведомо известен – ничья, но с обоюдным моральным удовлетворением. Оба чувствовали, что, несмотря на их схожесть, их взаимно притягивает неведомая сила, которой лучше подчиниться. И все же Корепин был зол, как черт. Завернувшись в простыню, он встал, закурил и с вызовом и сарказмом (дескать, убирайся, если хочешь) спросил:
– Ну?..
– Слушай, ты можешь достать бразильский кофе, баночку или две? – спросила Любочка совершенно, но наигранно спокойно, не отходя от окна и не реагируя на враждебный тон.
– Нет, – так же спокойно ответил Корепин, наливая вина себе и Любочке.
– Жаль, – сказала она довольно равнодушно: жаль, что ты не способен достать кофе, жаль, что ты такой жалкий человек.
На языке Корепина вертелся саркастический вопрос: ну что, попробуем еще раз? – но он почувствовал, что если задаст его, то окончательно уронит себя в ее глазах. Самое главное сейчас заключалось в том, чтобы попытаться еще раз преодолеть взаимную чуждость, терпеливо и доброжелательно, не травмируя ни себя, ни ее. Он подошел к Любочке, дружелюбно протянул бокал и хотел было дружески улыбнуться, но она взглянула на него холодно и надменно, возводя новый барьер. И все же, опять без желания, взламывая этот барьер, настырный, настойчивый, жалкий, Корепин снова обнял Любочку, призывая (усилием воли и ума) столь необходимое в эту минуту эротическое воображение – яркую картину победы над слабой женской волей. Увы! Тщетно! Внешне податливая и готовая, Любочка – с ее абсолютно отрешенным, холодным, бесчувственным, как маска, лицом – внутренне н е в е р и л а, не поощряла его, хотя и отдавала себя в полное его распоряжение. Это было какое-то мучительство, неописуемая взаимная страдальческая мука – достучаться, пробиться сквозь затворы, опробовать запасной вариант, тот, в котором оба катастрофически нуждались…
И они не расстались, пока не достигли этого.
Вялый, веселый и пустой, не излучающий ни единого флюида, Корепин равнодушно проводил Любочку, признательную, впавшую в какую-то детскую дурашливую веселость, посадил на электричку и с чувством удовлетворения вернулся на дачу. На следующий день ему снова захотелось, чтобы она приехала, и когда, телепатически улавливая его желание, она в ту же минуту позвонила и спросила, не хочет ли он ее повидать, он, уже внутренне допускавший, что она о нем забыла, ответил утвердительно, с достоинством помешкав. Когда он положил телефонную трубку, Ле Корбюзье ему стал неинтересен.
«Я скотина», – подумал он о себе.
Свадьба Корепина и Светланы состоялась в срок.
©, Алексей ИВИН, автор, 1979, 2007 г.Алексей ИВИНЗеленый островок
И вдруг Вьюнов понял, а точнее – чувствуя, что они чего-то ждут от меня, угадал, чего именно.
– А не поехать ли мне с вами? – спросил он.
Они переглянулись и как будто присмирели. Он пережил странное, сложное чувство (амбивалентное, как выразились бы психологи. Отчего, впрочем, не быть чувству с двумя валентностями, если два объекта восприятия?) – власти и боязни, а еще – разведывательное волнение морехода, направившего корабль к зеленому неведомому острову, и угрызения. совести. «Но ведь я и вернуться могу. И вообще – подождет… Подумал он о жене. – Мне нужны свежие впечатления». Он взглянул на своих спутниц: обе сидели смирно, опустив глаза в пол. Хмель дружеской вечеринки, где они познакомились, улетучивался, становилось ясно, что и он, и они деликатнее, тоньше, благороднее, чем казалось при развязном застольном разговоре. И все-таки – он чувствовал это, – они связывали с ним какие-то надежды, и эти надежды нужно было длить, нужно было испытать себя в странствиях и утешить этих одиноких воительниц, чтобы они не грустили. Ему остро захотелось здесь, в полуночном вагоне, где размягченно, точно сонные петухи, дремали поздние гуляки, сострадательно, как обиженных детей, обласкать сестер – сперва подстриженную под мальчика, нервную, бесхитростную Таню, затем умную, замкнутую, коварную Веру, которой он слегка побаивался. Ожило в его душе и томление по свободе, и ожидание, что его застарелая жизнь перейдет в новое качество. И как только он предложил, а они молча согласились, стало понятно, что лучше об этом не заговаривать.
Они поднялись из пустынного мраморного подземелья на уютную улицу, где вился снежок, поймали легкое такси и покатили по Дмитровскому шоссе. Все деньги он спустил там, на вечеринке, и теперь надеялся, что это зыбкое, приятное скольжение, эти птичьи ныряния под автодорожными мостами не обойдутся дороже полутора рублей, но счетчик беспечно тикал под каждым красным светофором в объединенном полумраке такси, покуда оно не подрулило к бесконечно длинному дому. С переднего сиденья он поднял левую руку с зажатой рублевкой, точно голосовал против унизительной бедности, и сестры тотчас догадались (милая черта, женское бескорыстие) – воткнули десятку между его пальцев и, пока он ждал сдачу, гуськом потянулись к заснеженному стеклянному подъезду. Снег пошел гуще, точно вытряхивали порванную пуховую подушку. Пока сестры, обе среднего роста, в меховых опушках, бренчали возле двери брелоком, целясь ключом в замочную скважину, он, нависая над ними, на миг ощутил себя циклопом, загоняющим овец в пещеру. Такое возникло несообразное мифологическое чувство. Он вступил туда с любопытством, в эту крохотную прихожую с узким трюмо, и его не удивила, а только по-домашнему умилила добрая услужливость Тани, которая, согнув узкую спину, вытаскивала из-под гардероба стоптанные шлепанцы для него. Он прошел на чистую кухню, выложенную вишневым кафелем, он ходил среди них изнеженным бездельником, пока они зажигали газ и включали бордовый торшер с вязаным абажуром, он нахваливал опрятность и художественный вкус этой алой кухоньки, потом пошел осматривать единственную комнату – непокрытый раздвижной диван, шкаф, две сиротские застекленные полки с обывательскими книгами и уголок флоры – пересыпанные гравием длинные ящички с кактусами. Он потрогал самый большой кактус, укололся и подумал раздраженно: «Что я с ними с двумя делать-то буду? Вот авантюрист! Давай теперь развлекай их».
Он вернулся на кухню, сел за стол и спросил с вызовом (Таня тоже сидела, подперев щеку кулаком, как любительница абсента на известной картине, а Вера возилась у плиты):
– Ну, что делать будем?
– Сейчас будем чай пить, – ответила Вера, доставая чайные чашки из белого подвесного шкафчика.
– Жаль, что вино там оставили: сейчас бы опохмелились, – сказал он Вере, чувствуя, что Таня тоже хочет, чтобы он с ней заговорил. Он не был подвижным веселым оборотнем, под их перекрестным вниманием подзабыл роль. Усталый, осунувшийся, отрешенный, без пиджака, он упер тощие локти в столешницу и спросил у Тани будничным измаянным тоном: – Значит, так и живете?
– Так и живем, – с готовностью подтвердила она.
– Ну-ну, – сказал он. – Хреново живете. Можно мне закурить?
– Кури. Хоть мужиком запахнет.
Она подвинула ему пепельницу в виде лаптя.
– Вот именно – «запахнет», – иронически поддакнул он и хотел добавить, что если в нем что и осталось от мужика, так это запах, но воздержался. Вместо этого спросил: – Дом-то кооперативный?
– Кооперативный.
– Две сестрицы под окном пряли поздно вечерком. Говорит одна сестрица…
– Мы с ней единоутробные, – сказала Таня. Вера, отстраненная от разговора, поставила на стол три дымящихся чашки и, величественно покачивая полным станом, прошествовала в ванну умываться перед сном. – Кажется, так, когда от разных отцов?.. Мой умер двадцати восьми лет. На целину ездил. Они ведь там в палатках жили, простудился. Завтра годовщина, собираемся съездить на кладбище.
– Рано вставать? – Ему захотелось погладить по мальчишеским вихрам эту любительницу абсента, преданно таращившую на него карие похмельные глаза.
– В семь часов.
– Мы тебе на кухне постелем, не возражаешь? – язвительно и задорно сказала Вера, выходя из ванны, умытая, краснощекая и молодая; под ее злорадным взглядом пожилая Таня покаянно опустила ресницы. – Здесь, правда, здорово поддувает из окна…
– Я могу и на коврике у порога, – сказал он.
– Ты чем-то недоволен? – Вера подсела к ним. Теперь он сидел во главе стола, они по бокам, друг против друга (в оппозиции). Слегка опустив голову, он пощипывал волоски на запястье. Он и не глядя чувствовал, что они смотрят на него: до чего простой, худой и умный парень, все-то он понимает, будто сто лет знакомы. Он задумчиво, как актер перед ответственной репликой, повертел красивую английскую сигаретницу Веры (Таня не курила) и сказал:
– Я всем доволен. Пользуюсь вниманием двух очаровательных женщин, чего же еще?
– Ты кактусы поливала? – спросила Вера, торопливо разрушая наступившую паузу.
– Нет, – ответила Таня.
– Пойду полью, – сказала Вера, царственно отодвигая недопитую чашку.
Еще не удалилась ее жертвенная спина, а он, торопясь восстановить нарушенную доверительную близость, предложил раскрытую ладонь и Таня мягко и признательно опустила сверху свою, легкую, теплую, бедную, и заговорила, а он, закрыв глаза, явственно увидел в католическом полумраке исповедальни под стрельчатым окном себя в плаще и капюшоне и робкую из-под молитвенных складок одежды, узкую ладонь прихожанки и ее земные глаза, верующие во искупление:
– Я ведь замужем была. Он ничего не любил. Он любил только есть и спать. Придет с работы, поужинает и спать, а утром его не добудишься. Единственный сынок у маменьки. Держали меня вместо кухарки, прачки и домработницы. Один раз, на Новый год: ну, думаю, сегодня мой день. А у меня платье было, с вологодскими кружевами, бальное, и нас друзья приглашали в этот вечер, и надо было ехать… А он пришел откуда-то уже поддатый, а его, если выпьет, в сон клонило. Байбак такой, увалень. Ладно, думаю, проспится, еще успеем… а он залег и проснулся уже во втором часу. «Таня, – говорит, – давай ляжем спать: надоело все на свете…» Небритый, рожа опухшая, глазки заплыли, смотрит тюленем и так жалобно, умильно. Ох и озлилась я! Господи, что ж это за мужик! Только бы дрыхнуть, ничего не делать и ничем не интересоваться. Только бы куда-нибудь спрятаться и все забыть. Восемь лет такой жизни! Восемь лет утирать эти противные слюни, слушать это брюзжанье: и завтрак невкусный, и тапочки я куда-то засунула. Полгода телевизор стоял сломанный, так и не сумел в мастерскую свезти. Я ему говорю: «Костя, ты можешь хоть что-нибудь сделать?» – «И не могу, и не хочу, – говорит. – И вообще, оставьте меня все в покое…» Я бы, может, ему все простила, но – детей он не любил. Брезговал. «И так жизнь тяжелая, плюс еще дети…» Можешь себе представить, жизнь ему тяжелая была…
– А тебе все равно надо было родить. Привык бы.
– Ты так считаешь?
– Конечно. Я думаю, вы друг друга не поняли. Просто, понимаешь, нормальна та семья, где жена не навязывает мужу женских представлений о счастье, и наоборот. Конечно, если бы он не был слабаком и меньше нуждался в твоей опеке, он и с ребенком бы быстро поладил. А он, вероятно, только тобой и жил, спасался. Значит, говоришь, матушка подрезала ему крылья? Он чем занимался-то?
– Художник. Да нет, не т а к о й художник, он всякие плакатики рисовал.
– Тем более. Значит, у него целый комплекс развился. Не говорил он тебе, например, что-нибудь вроде того, что деятельны только подлецы и мерзавцы, а добро всегда без кулаков?
– Точно. А как ты угадал?
– Интуиция. Я, может, сам такой был. Во всяком случае, я этот тип людей встречал. Спать – их любимое состояние. И чтоб их не тревожили. Помнишь, как Обломов принимал визитеров? «Не подходи, ты с холода», – говорил…
Вьюнов взял Танину руку, прижал ее к губам, сознавая, что немножко играет, но что этот поцелуй необходим именно сейчас, чтобы ее, разгневанную, против всех мужчин ожесточенную, вернуть к первоначальному задушевному интиму, к легкой обоюдной влюбленности, к надежде, что если не он, то другой… если не в тридцать, то в сорок… только надо верить, искать, ждать…
– Воркуете, голуби? – Вера вошла с порожней кружкой. – А времени два часа, между прочим.
Он тотчас забыл о Тане, встал и ему захотелось виться вокруг Веры, чтобы доказать ей, что она вовсе не на вторых ролях, а вполне равноправна со старшей сестрой, что он и ее понимает и ценит; он даже весьма неловко приобнял ее (а Таня, увидев это, пошла снимать для него матрас с антресолей), но Вера капризно двинула его локтем в бок. И тут он вдруг вспомнил из Гейне: «Стою, как Буриданов друг…» – расхохотался, хохотнул коротко и нервно, и весь интим разрушился, а Таня уже устилала матрас между алой стенкой и газовой плитой, безыскусно извиняясь, что бледно-розовая, в мелких морщинках простыня не первой свежести. Он понимал, что это отставка, что гордая, своенравная Вера, которой он не зря побаивался и не сумел нейтрализовать, бесцеремонно разрушила его исповеднические чары, и внутренне посмеивался от души над собой, но в этом подтрунивании росло и поднималось желание исследовать этот зеленый остров, впиться, впиявиться здесь, перепутать сестринские узы и причаститься незнакомой, странной жизни двух воинственных женщин.
– Мне здесь холодно будет, – громко, чуть юродствуя, пожаловался он. – Что это за отопительная батарея – курам на смех.
– Ничего, – отрезала Вера. – Холодно, зато не оводно.
– Как это?
– Ну, то есть мухи не кусают.
– Кусают! – Он капризно топнул ногой. – Две большие жирные мухи!
– Ты сдачу получил? – Вера спрашивала холодно и зло. – У таксиста, – уточнила она, видя, что он недоумевает.
– В передней на трюмо, – буркнул он. «Нужна мне ваша сдача…»
– По-моему, если он возьмет еще двушник, мы не обеднеем, как ты считаешь?
– Да ну тебя, Верка! Ты уж скажешь тоже… – Таня все еще поправляла матрас, тщательнее, чем необходимо, разглаживала.
– Если идти через Останкино, в четыре я буду уже дома, – сказал он деловито и подумал: «Все равно ты жирная, жирная!»
– Спокойной ночи!
Даже в том, с каким сдержанным бешенством Вера прикрыла за собой кухонную дверь, чувствовалось, что она разъярена до предела.
– Ну? – спросил он надменно, давая понять, что готов одеваться и уходить.
– Дуги гну! Зачем ты ее обидел? Она только чуть-чуть меня потолще. – Таня смотрела добродушно и укоризненно.
– А черт вас разберет! Муж у тебя был ласковое теля, а ты все равно от него сбежала.
– Это я, а это – она. Думать надо…
– И вообще, я бы сейчас чего-нибудь кисленького выпил – клюквенного морсу, например…
– Подожди, сейчас приду…
Таня скрылась за дверью. Он прильнул лбом к холодному оконному стеклу. «Придурок, ведешь себя как капризный султан в гареме. Ждет, небось, Пенелопа-то твоя, беспокоится, а ты здесь пристал, – подумал он. – Ничего, пусть. Что, уж мне и попутешествовать нельзя, что ли? Каждый день одно и то же: служба, семья, служба, семья… Тридцать лет! Где бы уже достигнуть намеченного и остепениться, а тут еще только начинаешь и конца не видно».
Таня вернулась пасмурная, изнеможенно села на стул, помолчала.
– Ну что, утешила? – спросил он.
– Да ну ее, вечно мне настроение испортит. Теперь уж я оказалась виновата, что ты сюда приехал. Измучилась я с ней, ей-богу.
– Великомученица ты моя. – Он насмешливо и ласково погладил ее по голове. Эта насмешка и ласка объяснялись тем, что Таня была попроще, побитее жизнью, если можно так выразиться, без претензий, и Вьюнову с ней тоже было легко. Не глумился – жалел и чуть-чуть оборонялся от ее бракосочетательных намерений. – Ты славная женщина и именно великомученица, но… Вот слушай, я расскажу тебе об одном происшествии. Дело было в Древней Греции. Там островов много, и вот на одном острове проживала нимфа, которая любила превращать людей в животных. Однажды пришвартовался к этому острову один мореплаватель, и пока он лазил туда-сюда по скалам, эта нимфа, волшебница эта всю его команду превратила в свиней. Может, я ошибаюсь, но что-то в тебе от нее есть. Что ты сделала с Костей? Ведь ты натуральным образом превратила его в борова, запрезирала и оставила. А на подходе другой, с первого взгляда такой же мягкий, податливый – ему только у корытца стоять да хрюкать…
– Ты какой-то странный, я это сразу заметила. Ты случайно не того… нет?
– Я нормальный мужик. Мне тридцать лет. И только сегодня я кое-что дотумкал. Это я насчет того, как жить дальше. Я еще, может, птицу Рух не видел, тебе понятно? А вообще-то ты права: людей, которые «не того», на этом свете нет.
Таня следила за его высокомерным апломбом удивленно, не без любопытства: тоже побитый, драпируется.
– Ты, наверно, здорово начитан? – спросила она наконец с легкой завистью и покорностью в голосе. – Слушай, у нас клюквы нет, зато есть брусника. Это еще лучше, с песочком, хочешь?
– Хочу.
Ему вдруг захотелось вернуться домой. Он развлекся, хлебнул свежих впечатлений, чего же еще? Все женщины одинаковы. Его Пенелопа, если сейчас, через семь лет супружеской жизни развестись с ней, так же, как Таня, будет рада любому случайному охламону, встреченному на вечеринке, – лишь бы посидеть с ним на кухне обнявшись. Какая уж там любовь, если не только в семье, но и во всем этом странном мире все между собой передрались и перессорились. Наверно, любовь – это чаемое, желанное, потому о ней так много и говорят; так вот: в том самом раю, где некуда стремиться и нечего достигать, мы и полюбим, а пока что слишком много неотложных дел…
Подумал и усмехнулся: деловой! Все угрожающие позы принимаешь? Ах, как страшны совиные глаза на крыльях бабочки…
– У тебя чувства вины перед ним нет? – спросил он.
– Перед кем?
– Перед Костей.
– Он мне всю жизнь отравил. Какая может быть вина? Я ведь его чуть ли не с ложечки кормила.
– Из корытца, ты хочешь сказать?
– Да ну тебя, только бы хохмить.
– А замуж снова не хочется?
– Мне и так хорошо.
– А ребеночек? – Вьюнов задирался, комплексовал перед мудрой доброжелательностью и спокойствием Тани. – Лелеять его, оберегать, сопельки вытирать, чтобы он потом до тридцати лет с тебя деньги взимал, а? По-моему, это блаженство, как ты считаешь? Следить, чтобы он штанишки в печке не испачкал, а? А вот идеальный вариант: он в садик пошел, а ты в тот же садик воспитателем, – ну, чтобы он, например, палец дверью не прищемил. Дети, они ведь такие, за ними нужен глаз да глаз. Дальше: он, значит, в школу пошел, а ты к нему классным руководителем, а? Он в институт, а ты в тот же институт проректором по учебной части. Он, допустим, лаборантом в НИИ, а ты туда же директором. Понимаешь, воспитание – процесс непрерывный. Он может запросто оступиться, ошибиться, а ты ему поможешь, у тебя жизненный опыт, знания… А что в коленках дрожь, так это пустяки. Я считаю, в природе очень многое неразумно устроено. Медведица, например, медвежат как купает? Она их за шиворот – и в воду. А ведь так нельзя, они могут простудиться…
– Не понимаю твоей иронии. Что же плохого в том, что мать заботится о ребенке? У тебя у самого-то дети есть?
– У меня все есть.
– Ничего, если я не стану процеживать?
– Ничего. Как ты думаешь, она спит?
– Она теперь шиш заснет, знаю я ее. Она ведь думала, что раз ты с ней танцевал… ну, ты меня понимаешь? Да ты не беспокойся, переживет. Ты знаешь, такое чувство… Какое-то уютное чувство, что ты здесь… Между прочим, квартира моя. Она только ее разукрасила, расписала, а так все остальное мое. Она с матерью и отчимом жила до последнего времени, там и прописана. – Таня разлила напиток по чашкам, села и грустно уставилась на Вьюнова. – Два часа, а спать нисколечко не хочется. Ты думаешь, женщине нужно загнать мужчину под каблук? А, по-моему, ей ласка нужна, внимание, только и всего. Почему-то мужчины думают, что мы прибираем их к рукам. А мне, например, это не нужно, мне приятно слушаться, готовить для него. Он бы, например, ушел на работу, а я его жду… А так… сижу иногда и думаю: зачем? Зачем мне все это, стены эти аляповатые? Во Владимирской области в деревне у меня родственники живут, дом, большой, с наличниками… И там есть старый овин с воробьями… С кем-нибудь бы туда поехать и жить там…