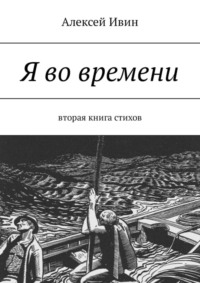Полная версия
Рассказы по алфавиту
«После такого скандала ехать к ней нельзя, – подумал Осолихин. – Но не слишком ли я загрузился запретами? Курить нельзя, ехать нельзя! Так и неврастеником недолго стать, черт меня побери совсем!» Он вздохнул: кажется, он и в самом деле слюнтяй.
Трамвай остановился, входили и выходили люди, а Осолихин, путаясь в обрывках мыслей, тщетно придумывал, куда бы податься, раз уж решил не ездить к Марьяне. В парк? В кино? Нет, все не то. Наконец решил, что все равно: погуляет, посмотрит, куда это он заехал. Он направился мимо веселых многоэтажных домов; на одном из балконов по натянутым бечевкам карабкался цветущий хмель. Осолихина раздражало, что бредет он без всякой цели: любил придавать всякому своему поступку целесообразность. И вот тут-то он опять увидел табачный киоск, перестал мучиться неопределенностью своего пути и прямиком направился к нему, целеустремленно, беспечно. Навстречу шли две молодые женщины с колясками, и показать, что он беспечен, деловит (одно с другим совмещалось), что курил, курит и будет курить и ничуть от этого не страдает, – показать, что это так, он мог лишь им. Он купил пачку «Столичных». Женщины это видели и, следовательно, убедились в справедливости всего, что он им показывал. Однако, проявив слабость, он ощутил пустоту, покорную вялость и тоску. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, – попытался он утешиться веселой присказкой. – Ничего! Одну сигарету выкурю, больше не буду, только попробую, может, даже и не стану курить, во рту подержу, да и все». Он распечатал пачку, вынул сигарету, соблазнительно изящную, и раздраженно подумал: «Ах, боже мой, что за глупые принципы, как все это гадко! Возьму да и выкурю всю пачку, а завтра еще куплю, и вообще: буду курить всю жизнь – и плевать на все с высокой колокольни!» И закурил. Но тотчас же бросил. И сигарету, и всю пачку. «Дрянь! Вонь! Вонючее дерьмо! Какое, к черту, я находил в этом наслаждение?» Сотню метров он прошел, чрезвычайно собою довольный, гордый. Но потом ему вдруг захотелось поднять пачку, так что он уже даже повернулся, чтобы осуществить задуманное, но увидел неподалеку школьниц, щебечущую стайку длинноногих акселераток, и остановился: «Из-за чего мучаюсь?! Из-за чего! Что мне в этом? Что вообще и мне и всем в том, курю я или нет? Да почему же обязательно надо, чтоб не курил? Усовершенствоваться хочу? Зачем? От подавленных инстинктов знаешь что бывает? Рак и инфаркт! И психоз. Понять надо самого себя, успокоиться, а не взнуздывать, тогда и станешь совершенен, как сам Господь Бог». Он подождал, пока школьницы пройдут, но сигареты не поднял: как знать, не наблюдает ли кто за ним из окон. Другое дело, что сорить на улицах неприлично, надо бы поднять все-таки пачку-то. Так-то оно так, да не так. И денег тоже жаль. Он медленно направился вслед за школьницами. «Что это такое с тобой творится, братец мой? – вопрошал он себя. – В чем причина внутренней расхлябанности твоей и неразберихи? В лени? В неспособности увлечься чем-либо? То есть как это в неспособности? А позавчера-то? Сел перевести отрывок из „Юманите“, да так увлекся, что просидел три часа и даже ни разу не закурил: забыл. Надо еще одну статью оттуда перевести, это следовало сделать еще вчера – поленился. Нет, надо взять себя в руки, в ежовые рукавицы. Распустился совсем! Уважать себя стану, если переведу. Решено: займусь делом; праздность – мать всех пороков; переведу статью, брошу курить и не поеду к Марьяне. Выход в том, чтобы не оставалось ни одной минуты свободного времени на всякие такие глупости».
Он повеселел, нашел остановку трамвая, на котором ехал сюда, и, пока возвращался, хоть и передумал о многом, старался не разубеждать себя в правильности только что принятого решения. Был уверен, что как только засядет за перевод, который предстояло на днях показать преподавателю, так сразу обо всем и забудет: такое с ним случалось уже не раз, и он даже гордился этой своей усидчивостью, ибо выходило, что он не только не лентяй, а напротив – труженик. Выйдя возле дома, он хладнокровно взглянул на табачный киоск, словно хотел его уничтожить своим моральным триумфом, как покоренного врага, но киоск оказался закрытым; киоску было глубоко наплевать на то, что Осолихин его победил, он объективно закрылся на обед. А с каким торжеством Осолихин прошел бы мимо, если бы он торговал! Встречные прохожие курили папироски и тоже ничего не ведали о его победе; равнодушие было полнейшее. Домой Осолихин вернулся увядший, брюзгливый; раздраженно бросил на стол толстый словарь и газету, но приниматься за перевод не стал: налил холодного кофе, посмотрел в окно, потрогал вчерашние окурки в пепельнице – потом решительно выбрал самый длинный. «Мучаюсь с утра, как грешник, волю испытываю, сукин сын. А ведь ясно, как день, что слабак, только признаться не хочешь», – издевательски подумал он. Стало легче; он пошел на кухню за спичками. Но там их не оказалось. Их не было нигде: ни в карманах, ни в пепельнице, ни на полу возле газовой плиты; все спички, которые он находил, были горелые. Им овладело холодное бешенство; с окурком во рту он метался по комнате, выворачивая карманы, заглядывая в мусорницу, под кровать, в надежде найти хоть какой-нибудь обломок, хоть полспички. Нет, нигде ничего… Он остановился посреди комнаты, спутанной мыслью вопрошая себя, где же их можно раздобыть. И тут его осенило: вышел на лестничную площадку и позвонил соседям, посасывая окурок в сластолюбивом нетерпении. Не открывали целую вечность, он постучал, потом толкнул дверь: она была заперта. Он бросился к другой двери, но и та оказалась заперта. Он выругался. Все это становилось похоже на преднамеренное издевательство. Пришлось спуститься этажом ниже. Миловидная молодая женщина, которая, он знал, работала инженером на молочном заводе, дала целую коробку. Он отказывался, но она сказала: «Нет, нет, возьмите!» Он поблагодарил и, перепрыгивая через две ступеньки, поднялся к себе. Там закурил и бросился в кресло. Это была счастливая минута: он наслаждался, смаковал, упивался волшебным дымом, ничуть не осуждая себя, купаясь в грехопадении и радуясь ему. «Ерунда! – подумал он. – Это только бытовая наркомания, это еще не самый страшный грех. А что пишут ученые мужи, так им за это деньги платят; предлагать идею-то мы все мастаки». Накурившись, удовлетворенный, он выбросил все окурки из пепельницы в урну. Пустяки! Он вовсе не изменил своему первоначальному решению, потому что ведь не купил же сигарет и, стало быть, теперь наверняка продержится до вечера, а завтра организм привыкнет обходиться без никотина. Казалось, чтобы сесть за перевод, необходимо было только покурить; но, и покурив, он не садился – медлил. Все равно чего-то как будто не хватало, чтобы он мог спокойно работать. Чего же еще хочется, чего? Он садился, вставал, неприкаянно слонялся по комнате и наконец поймал себя на желании вытащить из урны только что брошенные туда окурки. «Черт знает что! – выбранился он. – Какое-то наваждение. Пойти прогуляться, авось дурь-то выйдет». Он запер дверь и вышел на улицу. «Куда это ты навострил лыжи-то, братец? – с издевкой спросил он себя. – К ней, к ней! К кому же еще! Недаром ведь вчера клялся-божился, что ноги твоей там не будет. Слово-то у тебя с делом не расходится. Железное самообладание. Сталь, алмаз, корунд! Иди, иди, братец, иди. Обрадуется! Спесью-то надуется, учить начнет, выговаривать… Да сигарет-то не забудь купить!»
Сигареты он купил возле станции метро; без наслаждения тут же выкурил одну, выпил газировки. Теперь он чувствовал себя зауряднейшим из людей. Воскресенье считай что прошло, завтра в институт, а он ничего душеполезного так и не сделал. Видно, одного горячего желания мало, нужна еще воля, а вот ее-то у него и нет. Конечно, не следовало бы ездить к Марьяне: уж слишком много обидного она наговорила, и все не в бровь, а в глаз. Размазней назвала, бабой. Все справедливо, баба и есть, тюфяк. Ну, а с другой стороны, куда же податься, как не к ней. Жениться – нет, жениться глупо; надо хоть институт закончить, какую-никакую материальную базу создать: дети ведь пойдут, а чего нищету-то плодить? А ей, похоже, уж замуж невтерпеж. Зачем же за размазню замуж выходить, где логика?
С такими примерно мыслями Осолихин остановился в подъезде дома, где жила Марьяна. Он не мог действовать не рассуждая, ему нужна была заминка, психологическая подготовка, прежде чем войти к Марьяне. Он поднялся на лифте на седьмой этаж, постоял перед закрытой дверью ее квартиры и спустился снова в подъезд: такая на него напала робость. «Хороший из меня выйдет супруг, верный жене до гробовой доски, – подумал он. – Другой бы в моем положении сидел сейчас в парке и кадрил хорошенькую незнакомку, а я как привязался к одной, так и отстать не могу. Ведь выгнала же – нет, все равно приплелся. Как мальчишка себя веду. Пойдет в магазин или еще куда, увидит меня здесь, что я ей скажу? Впрочем, может, ее и дома-то нет. Надо, однако, что-то делать – либо сматываться отсюда, либо…»
Из подъезда выпорхнула нарядная девушка с белокурыми волосами, рассыпанными по плечам; она не шла, а танцевала, постукивая длинными каблуками; ноги у нее были красивыми, стройные, загорелые. Сердце Осолихина встрепенулось и забилось от внезапного желания.
– Девушка, меня зовут Ипат, а вас?
Осолихин дрожал от собственной наглости, но пошлая шутка казалась необыкновенно удачной.
– А меня Февронья.
Девушка остановилась, замешкалась на минуту – вероятно, от неожиданности и чтобы взглянуть на Осолихина. Тот не спеша, с развязной непринужденностью, которой прежде за собой не замечал, подошел к ней, склонил голову и представился:
– Борис.
– Наташа.
Она была чудо как хороша и смотрела открыто, любознательно, приязненно. И тут Осолихин, слегка ошеломленный ее красотой, допустил оплошность.
– Может, мы сходим куда-нибудь, Наташа? – сказал он, утрачивая развязность, почти просительно.
– Вы меня извините, как-нибудь в другой раз. Я здесь живу. До свиданья.
– Счастливо, – буркнул Осолихин.
Вся кровь всколыхнулась в нем от этой встречи. Он закурил, постоял еще немного, собираясь с мыслями, потом по лестнице быстро стал подниматься на седьмой этаж. «Есть еще порох в пороховницах», – самодовольно подумал он опять из Гоголя, улыбнулся и замурлыкал – единственную строчку из оперетты, какую знал:
Красотки, красотки, красотки кабаре!..Переведя дух от долгого восхождения, позвонил. Марьяна открыла. Лицо ее было задумчиво, устало. Осолихин дерзко, насмешливо, по-новому взглянул на нее. Она опустила глаза и сказала:
– Я думала, ты не придешь сегодня, не ждала. Ну, проходи.
Он оказался в знакомой прихожей, разделся.
– Ты обиделся на меня за вчерашнее? – трогательно, ласково поинтересовалась Марьяна.
– Нет, – сказал Осолихин. – Приготовь, пожалуйста, кофе.
Он вдруг рассердился на себя, и ему еще раз захотелось попытаться бросить курить и не встречаться больше с Марьяной. Тем не менее, он послушно снял ботинки и надел тапочки, которые подала ему Марьяна. В тапочках он становился домашним, ручным.
Алексей ИВИН, автор, 1978, 2010 г.Рассказ опубликован в журнале «Наша улица»Алексей ИВИНДевушка с васильковыми глазами
Гостиница в Кесне почти всегда пустовала, но сегодня Мария не успевала записывать приезжающих. Группу геологов пришлось разместить в самом большом номере. Важный респектабельный господин с черной папкой и независимыми манерами начальника, который привык возводить на Голгофу своих подчиненных, приказал, чтобы ему отвели лучший номер в этой клоаке. Мария, двадцатилетняя девушка с васильковыми глазами и нежным овалом лица, извинилась и сказала, что не может предложить ничего лучшего, кроме одноместного номера без ванны.
– У нас ведь здесь все по-простому, – добавила она, выписывая квитанцию.
– Вижу, что не шик, – сказал респектабельный господин. – Надеюсь, в номере имеется телевизор?
– К сожалению, нет
– Нет? Это ужасно! Проводите меня, по крайней мере, и покажите, где это паршивое логово.
– По коридору направо, – ответила Мария, стараясь не замечать брюзжания. – Извините, что не могу вас проводить: мне некогда.
– Ей некогда! – злобно пробормотал господин, поигрывая номерными ключами. – Идиотка! – процедил он и ушел, расплескивая спесивость.
После старушки, которая никогда не бывала в гостиницах и поэтому чрезвычайно надоела расспросами, страхами и опасениями, появился мужчина лет тридцати, заметно навеселе, черноволосый, с большим сластолюбивым ртом забубенного пьяницы и с детским заводным самосвалом в волосатой пятерне.
– Ого! – сказал он и плюхнулся в кресло. – Это ты и есть администраторша? Разыщи-ка мне дырку подешевше, а то в низу, в столовой, пиво продают, а денег, сама понимаешь, с гулькин хер. Вот, игрушку купил своему сыну…
Он завел и пустил самосвал по столу.
– Восьмой номер. Возьмите ключи.
– Мерси. Ведь сегодня ты дежуришь? Как же тебя зовут?
– Мария. Возьмите ключи и идите по коридору, потом направо.
– А меня Юра. Вот мы и познакомились, – развязно сказал он. – Вообще, ты симпатяга, как я погляжу. Ну, ну, не буду… До скорого свидания. Вечером я загляну.
Он ушел, его сменили двое командированных – сотрудник научно-исследовательского института и инженер строительного треста. Они были неразговорчивы, потому что, пока Мария записывала их фамилии, один думал, как бы успеть до закрытия магазина купить баночку вишневого варенья местного производства, а второй, глядя в васильковые глаза Марии, вспоминал свою супругу. Вслед за ними пришел последний в этот вечер клиент – некий Секушин, волосатый парень в очках, в клетчатом пиджаке, назвался корреспондентом и сказал, что располагается на неопределенный срок. Он стоял, потупив очки долу, экзальтированный красотой гостиничной распорядительницы.
Заложив учетную книгу сложенной вчетверо квитанцией в том месте, где кончались записи, Мария прошла в дежурную комнату. Больших беспокойств сегодняшнее дежурство, по-видимому, не сулило.
Поздним вечером пришел и Сергей. Мария ждала его, прильнув к окну. Увидев его, она отстранилась с сильно забившимся сердцем и придала лицу выражение серьезности и занятости: она боялась, что Сергей поймет, как нетерпеливо она его ждала.
Он вошел, высокий и белокурый, элегантно одетый, и кротко улыбнулся.
– Ты одна? – спросил он; было видно, что ему приятно быть с нею наедине, как шулеру – играть с новичком. – Можно у тебя закурить?
– Закуривай! Ты же знаешь, меня дым нисколечко не беспокоит.
Он утвердительно мотнул головой, давая понять, что знает, но как джентльмен не мог не спросить позволения.
– Хотел сегодня пойти в кино, – сказал он, садясь поближе к Марии, потому что любил смотреть на нее, – но почему-то удержался… – Он многозначительно замолчал. – Ты не возражаешь, что я пришел?
Мария посмотрела нежно и доверчиво и ответила, что не возражает. Нет, она совсем не против того, чтобы он приходил к ней иногда: ведь бывает так скучно.
– Я уйду, как только ты меня прогонишь, – заверил он и взял ее за руку. Рука была маленькая, белая, с младенческими припухлостями; она совсем исчезла в его руке. Было что-то спокойное и уверенное в слабом пожатии, идущее от взаимной любви, и он начал сладко лепетать, как ребенок под ласками матери. Ему то ли хотелось заснуть, то ли выговориться, доложив возможно обстоятельнее, как он счастлив.
– Я люблю бывать с тобой… не знаю почему… Не знаю почему, – повторил он, дразнясь возможностью расшифровать – почему, но предоставляя это право Марии. – Скучно одному. Весь день ходил как в воду опущенный… Не знаю, что со мной случилось. Позавчера я ушел от тебя, думал заснуть, и ничего не вышло: лезли в голову какие-то странные мысли; а утром, когда мать разбудила меня, она сказала, что я улыбался во сне… Какие у тебя красивые руки! За одни твои руки я готов…
И он быстро поцеловал ее руки. Мария зарделась и смутилась, ликуя от счастья; она хотела заговорить, чтобы скрыть замешательство. Сергей поднялся и прошел по комнате, усмиряя волнение в крови. Он чуть смущался, что решился на такую дерзость, как целование ручек; но надо же когда-нибудь начинать. Он думал.
– Я, пожалуй, пойду, – сказал он вдруг, пристально заглянув в васильковые глаза. Недоумение, испуг и обида мгновенно отразились на чистом лице Марии. – Да, надо идти, уже поздно. Тебе скоро ложиться спать, я не хочу тебя беспокоить.
Мария хотела возражать, что он ей нисколько не мешает, но подумала, что, может быть, он уходит не потому, что она обидела его, а потому что ему надо идти: ведь он волен уходить, зачем она будет его задерживать?..
– Ну, о ревуар, – сказал он с галантностью человека, уверенного в своей неотразимости. – Я приду, если ты не возражаешь, завтра днем.
Он вышел. На улице он остановился и посмотрел на окно Марии. Не получалась его любовь. Грустные мысли закрадывались в голову; он корил себя за то, что рано ушел, сознательно ушел, чтобы причинить Марии боль и крепче привязать ее к себе; он влюбленно и живо представил, как Мария одиноко сидит на диване и думает о нем, а он здесь, за стеной, думает о ней, и никак им не слиться, двум сердцам, разделенным одной стеной.
Вдруг в окне Марии показался мужской силуэт. Ангельски чистые мысли Сергея сменились страшными подозрениями, которых нельзя вынести, если они не подтверждены. С любопытством и коварной мстительностью любовника, который хочет изобличить изменницу, он торопливо взбежал по лестнице и прокрался к дверям, схоронившись за выступ стены.
– Что вам от меня нужно? – спросила Мария нетерпеливо, но без подозрительности и испуга.
– Что-что… – пожурил ее мужской бас. – Крошка, я же сказал тебе, что приду наведаться вечером. Вот и пришел.
– Зачем?
– Ха-ха-ха! Не догадываешься? А ведь наверно слыхала анекдоты про командированных?.. Потеха, да и только… Переспать с бабой не худо…
– Не подходите ко мне! От вас пахнет водкой…
– Водкой? Вот сказанула! Где же я водки-то достану, если в столовой только пиво? Ну-ка, дай я тебя…
– Что вы делаете?! Отойдите, а не то я закричу… – Голос Марии срывался.
– Ха-ха-ха! Ничего. Где тут выключатель?..
Бас звучал как добродушное хрюканье борова.
– Помогите! – закричала Мария в отчаянии.
– Не бузи! – прохрипел бас, зажимая ей рот.
Когда Сергей услышал призыв о помощи, сердце захолонуло в его груди. Несколько мелких, вороватых шагов – и он оказался на лестнице, а потом кубарем скатился вниз. Свежий морозный воздух придал ему сил; он бросился бежать; в мозгу стучала одна мысль: меня там не было, меня там не было, я ушел раньше…
В гостиничном коридоре стояла тишина. Геологи спали, инженер-строитель делал выписки из инструкций, а респектабельный господин, любивший ночью заниматься онанизмом, замер, как преступник, накрытый с поличным.
©, ИВИН А.Н., автор, 1976, 2010 г.Алексей ИВИНДождливым вечером
Сентябрьский лазурный полдень томился в солнечных лучах, навевая сон и покой. Деревенская улица, запрятанная в садах, была пустынна. Только несколько рябых кур грелись, лежа в песке. Ни звука, ни шороха.
Дед Матвей, семидесятилетний старик, копал картошку. Слабый ветер шевелил тонкие повылезшие волосы на его голове, седые, как паутина в изморози. Копал он не спеша, скупо, как будто даже нехотя. Картофелины не подбирал, а, поддев на лопату, отбрасывал в общую кучу, потому что наклоняться мешала нога, простреленная еще в финскую кампанию. Выкопав десяток картофельных кустов, садился отдыхать на траву. Сидел, умильно щурился на солнце, разминая папиросу толстыми пальцами, и на благодушном лице его было написано: «Как хорошо-то, Господи Боже!»
В один из таких перекуров он услышал, как сзади скрипнула калитка. «Что-то рано сегодня Петька с работы пришел», – подумал он и обернулся. Но увидел почтальоншу Клаву. Она шла прямо по некопаной гряде, на ходу доставая газеты из сумки.
– Труд на пользу, Матвей, – поздоровалась она. – Что это тебе, старому, дома-то не сидится? Петька-то небось поздоровей тебя, шел бы да и копал сам.
– Ну, и я еще мужик хоть куда, – возразил Матвей, лучезарно улыбнувшись, так что озарилось все его седобородое патриаршье лицо, и попытался приподняться навстречу.
– Сиди, сиди, мужик, – поддразнила она его. – Я тут тебе телеграмму принесла и пенсию. Пенсию-то ты получишь или Петьке отдать?
– Я, как же, я! Только и радости-то, а ты – Петьке отдам…
– Ну, на, расписывайся вот здесь.
Она протянула ему ручку и ведомость. Он поставил свою подпись так же любовно и тщательно, как до того копал картошку. Потом тревожно спросил:
– А телеграмма-то от кого?
– Откуда мне знать, – бросила Клава через плечо и пошла к другой избе.
Матвей пересчитал деньги, аккуратно завернул их в носовой платок и положил в нагрудный карман спецовки. На телеграмме значилось: «Корепанову Петру Матвеевичу».
«Петьке», – подумал Матвей, и хотя он никогда прежде не читал ни писем своего сына, ни других бумаг, что-то заставило его распечатать телеграмму.
«Умерла мама приезжайте похороны двенадцатого =Лида».
После третьего прочтения до Матвея дошел смысл написанного, и лазурный полдень померк для него. Он долго сидел неподвижно, возвышаясь в траве, как валун на засеянном поле. Сидел и думал. Потом встал и тяжело заковылял к дому, повторяя в уме, как молитву: «Что я тебе говорил, старуха? Что я тебе говорил? Врозь помрем… Разведут нас дети… Вот и вышло так!»
К вечеру собрались тучи, пошел дождь, как это бывает осенью, – сначала крупный, веселый, затем моросящий, холодный, зарядивший надолго. Матвей сидел у окна, подперев голову руками, в глубокой задумчивости. Он не заметил, как с работы вернулся сын.
Петька пришел поздно. Это был крупный, живой, предприимчивый мужчина. Жена с ним развелась, детей не было. Маленькие глазки на его безбровом лице оживленно и неуловимо бегали, словно ртутные шарики. Шумно раздевшись в передней, стряхнув воду с плаща, он прошел в горницу и, увидев отца, спросил:
– Ты чего в потемках сидишь?
Матвей очнулся. Петька включил свет, задернул шторы и ушел на кухню. Было слышно, как он чиркнул спичкой, чтобы зажечь газ; загремел кофейник.
– Ты завтра в обед дома будь, – сказал он оттуда. – Не вздумай к соседям уйти. Я договорился со знакомым шофером, он привезет шифер. Поможешь разгрузить. В субботу начнем крышу перекрывать. Я мужиков приведу. Помощник из тебя неважнецкий, ну да уж что делать… Сидишь тут целыми днями, хоть бы кофе разогрел.
Матвей тяжело поднялся со стула и проковылял на кухню. Он был еще крупнее сына, что называется – дородный.
– Ты вот что… – Он положил руку на его плечо. – Старуха моя умерла, а твоя мать. Телеграмму вот принесли.
Бегающие глаза Петьки оторопело остановились.
– Вот тебе на! – выдохнул он и сделал движение рукой, точно хотел перекреститься. – Давно?
– Что давно?
– Умерла-то, говорю, давно?
– Двенадцатого хоронить будут, – устало произнес Матвей; он чувствовал, что смотрит в перепуганное, перекошенное лицо с отвращением.
Петька, зажатый между столом и нависшей над ним фигурой отца, бочком протиснулся в горницу – на свободу. На минуту в доме воцарилась тишина, только слышно было, как тоненько сипит кофейник.
– Придется мужикам отказать, – сожалея, проговорил наконец Петька и скомкал телеграмму. – Такое дело…
Он задумался. Мало того, что придется отказать мужикам, – нужно будет еще отказать и шоферу, которого с таким трудом уговорил. Целый месяц соблазнял – привези да привези шиферу, чего тебе стоит. Ленивый народ эти шофера, корыстолюбивый: даром шагу не сделают. А другого такого случая не подвернется. Что делать? Да и начальству ведь придется сообщить. А самое-то главное, что ехать-то полторы тысячи верст, с пересадкой. Так! Сегодня десятое… Нет, не успеть ему, как ни вертись. Как назло, и погода испортилась. Одно к одному!
Из раздумий его вывел Матвей.
– Ну, так что? – спросил он.
– Что! Что! – заорал Петька. – Что! Думай кумполом-то своим – что! Не поеду я никуда – вот что! – Он выругался. – А эта дура, еще сестрой называется, тоже хороша: хоть бы пораньше телеграмму подала. Что старуха, мол, при смерти. А теперь чего? Чем мы теперь матери поможем? Да ничем. Один день остался – куда мы потащимся
– Ты не ори, – тихо сказал Матвей.
– А я и не ору! – взорвался Петька. – Чем она думала, когда телеграмму подавала? Знает ведь, что у меня делов невпроворот. Что я теперь мужикам-то скажу? Что же мне теперь – все бросать да ехать? Подумай сам-то, что городишь.