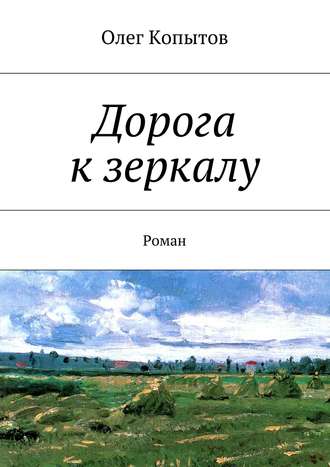
Полная версия
Дорога к зеркалу. Роман
Я не помню, как, каким образом тогда баба Тоня смогла меня успокоить…
К своим четырем годам я уже слабо различал, где я на самом деле живу – у мамы с папой в комнате тетишуриного и дядиюриного дома, у бабы Тони и деды Васи с дядей Стасей – или в детском саду, куда меня водили упрямо, настойчиво, несмотря на то, что в этом не было никакой необходимости, ведь, когда родители на работе, за мной всегда было кому присмотреть, к тому же мама, ровно в тот день, когда мне исполнилось четыре года, 18 июля, родила, как мне говорили, сестренку, – я то видел только конвертик тряпок и иногда сморщенное, страшненькое личико, – то есть мама опять была в отпуске по уходу за ребенком, а их к 1967 году увеличили с полугода аж до года, то есть не было никакой необходимости в детском саду, не было. Но так уж повелось в Советском Союзе к этим самым шестидесятым годам, что культ общественности перестал быть культом, а стал чем-то самим собой разумеющимся. И, скажем, нужны были очень веские основания родителям, причем перед самими своими личностями, а не перед кем-то ещё, чтобы не приучать своих детей к коллективу, не водить в детский сад. У моих таких оснований не было. Поэтому меня, несмотря на то, что за мной всегда было кому присмотреть, спокойно ежеутренне, кроме суббот-воскресений, а еще лета – водили в детский сад…
Конечно, это был детский сад хлопкопрядильной фабрики: отец там уже давно не работал, не работал и учителем в школе, а стал корреспондентом редакции общественно-политического вещания, так тогда назывались службы информации, – учреждения с названием, похожем на поезд – Киргостелерадиокомитета, проще говоря, на Киргизском радио. Конечно, тогда русская редакция этого радио была основной, а киргизская – чем-то вроде туземно-фольклорного придатка…
Но мне тогда не было никакого дела до этих тонкостей, мне вообще всё равно было, где работает отец, потому что я ходил в детский сад. Уже в среднюю группу. И сидеть мне в ней предстояло еще целый год. Потом – в пять лет – старшая, в шесть – подготовительная, а далее – по всем строгим законам советского социального жанра – в семь и только в семь начиналось большое школьное плавание…
Уже в «лягушатнике» детского сада кое-чему начинали учить, были какие-то занятия, но совсем не серьезные, какие-то рисунки, лепки из пластилина, аппликации, песни-танцы… Читать в детском саду не учили. И не учили играть в футбол. Этим двум вещам я, к своим четырем годам, выучился самостоятельно…
Меня всю жизнь преследуют какие-то странные ассоциации, и, скажем, детский сад хлопкопрядильной фабрики, вернее, его игровую площадку я начинаю вспоминать почти тотчас, как только заиграет опера Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки». Точнее, не вся опера, а только увертюра. Помните? «Та-ли-та-ти-та-та-та-там! Та-ли-та-ти-та-та-та-там!..» Я понимаю, почему. От этой увертюры – прямая ассоциация к «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом». Потом – ко всем этим ровненьким песочницам и беседочкам игровой площадки. Потом – понастроил в песочнице с помощью пластмассовых формочек домишек, порой причудливых, в несколько этажей, – и на-а по этим домикам лопаточкой! «Загорелся Кошкин дом»!.. А еще наша старшая воспитательница была из той породы женщин, у которых круглое лицо и – к их несчастью, а может быть и счастью, – над их резко очерченными губами пробивается какое-то неуловимое подобие усиков… Ах, какой бедлам мы иногда устраивали в доме нашей бедной воспитательницы! «Тили-бом, тили-бом!» А заводилами, конечно, были мы с моим тогдашним лучшим другом Юркой, полноватым добрым малым, которого на детских утренниках наряжали не иначе, как медвежонком. Как-то завезли новые матрацы, и почему-то именно из-за этого всем – старшей воспитательнице, младшей – юной, худенькой татарочке, нянечкам, всем – пришлось отлучиться. Свобода! Все опешили. Никогда такого не было, чтобы в большой зале с кучей всяких столиков, стульчиков, полок с игрушками, ковриков, больших окон, занавесок, дверей в спальню, – никогда такого не было, чтобы в этой большой комнате рядом с нами, со всей средней группой не было ни одного взрослого!.. И тут мы с Юркой, не сговариваясь, каждый уронил на пол по стульчику. Они упали как-то мягко, маленькие стульчики, маленькими спинками на большой ковер… Но это было сигналом! Это было залпом «Авроры»! На пол полетели маленькими своими спинками все стульчики в зале! Игрушки слетели со своих полок, ими кидались, визжа, два десятка ненасытных в своей жажде жизни детей, вот уже упала со старческим вздохом заслуженная ваза с фальшивыми цветами с самой верхней полки самого высокого шкафчика, сухие таблетки акварельных красок выскочили из своих упаковок, их топтали десятки детских ножек, полетели по зале какие-то белые и разноцветные бумажки, весь мир исполнился неописуемой живости и движения, и вот уже Юрка в позе Ленина на броневике стоял, как у Финляндского вокзала, возле дверей спальни, призывая завершить начатое дело… как появилась наша бедная старшая воспитательница. Все разом успокоились, но никто не знал, что делать. Она не могла разрыдаться, мы – не хотели… Пришла заведующая детским садом… Это она, когда я поцелую Таньку с белыми косичками и скажу, что теперь мы должны пожениться, уведет меня в свой отнюдь не игрушечный кабинет и будет долго, как взрослому, говорить, что мои чувства понятны, это вообще свойственно молодости, но пока, Олег, ты очень мал, вам нужно подрасти и стать как твой папа, а Тане – как твоя мама. И тогда, да, я не спорю, вы можете целоваться и даже пожениться. Но, я повторяю, Олег, пока вы очень малы… Тогда пришла заведующая и что-то долго, битый час, нам, несмышленым малышам, как взрослым, выговаривала… Последовало и наказание. Мы были лишены мячей. Вообще всех наших любимых резиновых мячей, которыми мы так любили играть во что-то вроде футбола на прогулках… В эту прогулку мы вышли без мячей, и тут, кажется, Серега, стал катать по беседке простой камень-голыш, величиной, наверное, с куриное яйцо, да нет, меньше. В одиночестве Серега был не долго. Скоро на этот камень-голыш накинулся я, Юрка, Васёк, Лёха – и пошло и поехало, однажды этот камень так угодил мне по коленке, что в другое время я заорал бы в свою иерихонскую трубу, но здесь было другое дело, здесь не было ничего, кроме жажды удара, жажды мяча: мне, мне, мне, мой…
Читать в детском саду, тем более средней группе не учили, но в тот момент, когда я, после прочитанного бабушкой Пушкинского «Вещего Олега» всем своим нутром почувствовал, что есть на свете и другой – недосягаемо другой Олег, и стал знать, что мир мне не принадлежит, вернее, он принадлежит не только мне, и я всегда, всю жизнь буду делить своё и только своё с другими, – в тот момент я твердо решил выучиться читать, чтобы попробовать такую вещь: а может быть, в том мире, мире букв, всё устроено иначе? Может быть, там есть моё и только моё, которое ни с кем, никогда не придется делить?..
Я приставал ко всем вечно занятым взрослым: «А это какая буква? А это какая буква?» – вначале держа в руке какой-то кусок рваной газеты с большими буквами какого-то оторванного на полуслове заголовка, потом стал карябать буквы огрызком карандаша на полях тех же кусков газет. «А это какая буква? А это какая буква?» Дядя Стасик – лаборант охотоведческой секции Киргизской академии наук, маленький, в больших очках с ужасно толстыми стеклами, но по молодости и особенностям натуры живой, как ртуть, вечно занятый: чистящий ружье, забивающий пажи в патроны, играющий в волейбол – на камнях дороги возле дома, с мужиками, лишенными на сегодня пива; деда Вася – большой, с лицом патриарха интеллигентской семьи, но тоже вечно занятый: своим виноградом и вечными постройками, достройками, перестройками тесного, но требующего ежедневной заботы хозяйства; баба Тоня – тончайшая, интеллигентнейшая, иссушенная астмой, но живущая в Рабочем городке – тоже вечно была занята: растапливала печку-плиту, варила, готовила, убирала, стирала, приносила яйца из-под кур, взбивала тесто, она была единственный словесник из всех моих многочисленных родственников: из Киргизии – Фрунзе, Токмак; с Урала – Коми-Пермяцкий округ и Пермь; из Сибири – Новосибирская область, Искитим, Кемеровская область, Черепаново; с Северного Кавказа – Орджоникидзе, Ессентуки; из Крыма, Феодосия; из Ленинграда и Москвы, – она была единственный словесник из всех моих многочисленных родственников, но и она не имела возможности сосредоточиться на том, чтобы научить меня читать.
Но всё же на бегу, средь своих занятий, каждый – пусть с некоторым, плохо спрятанным раздражением, – но всё же отвечал мне, какая это буква. И худо-бедно я выучил алфавит.
Как мне удалось, почти самостоятельно (тут уж бабушка мне немного помогала) научиться «сливать буквы», переводить статику восприятия графики в динамику чтения, – я до сих пор не пойму. Но факт остается фактом. Примерно к четвертому своему дню рождения я научился читать…
А это случилось вскоре после того самого четвертого дня рождения… Тем летом я чаще бывал у бабушки, чем где-либо, и этим же летом у них с дедой Васей и Стасиком вечно были какие-то гости… Иногда взрослые не прочь были поэксплуатировать мой дар и показывали гостям, как этот малыш уже спокойно читает… Однажды к деду зашел один из его начальников. Помню только лоснящуюся от пота, самодовольную физиономию и даже пот от рубашки с коротким рукавом, салатного цвета, с жестко вырезанным воротником, – даже запах пота какой-то самодовольный. Степан Ильич, а вы знаете, внук-то уже читает. Да, неужели, а ну поди сюда. Ну возьми, ну, вот, хотя бы, ну вот… На свет возникла какая-то открытка, на стороне заполнения которой крупными буквами было выведено в качестве заглавия ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Дядька начальник ткнул привычным указующим перстом в эти буквы и приказал, а ну, прочти-ка… Мне был очень неприятен этот дядька, что он пришел и уселся тут, как хозяин, в нашем доме, в нашем мире, я уже подозревал, что здесь кроется даже не какой-то подвох, а какая-то глубоко спрятанная драма бытия, которая касается не только почему-то виновато смотрящую вокруг себя бабушку, не только не потерявшего всегда степенного своего достоинства деду Васю, но всё же, как-то взглядом выдающего, что это надо просто перетерпеть, я подозревал, что здесь кроется что-то большее, чем минутное расстройство привычного уютного мира, наверное, потому я разволновался. К тому же, как это обычно бывает у детей, я еще путался в последних буквах алфавита, содержащих шипящие – «ч», «ш», «щ»… Мне было очень неприятно докладывать этому дядьке, но на меня почему-то с особой надеждой смотрели бабушка Тоня и дедушка Вася, и я собрался духом и звонко выпалил: «Почтовая картошка!»
Как он заржал! Как победно вкинул к небу свою лоснящуюся физиономию! «Почтовая карто-о-шка… Ха-ха-ха! Карто-о-шка… ха-ха… Умеет. Конечно. Нечего сказать…»
И всем вокруг сказать было больше нечего… Но тогда я понял одну истину. Мы – враги. Мы всегда были и будем врагами. Они будут давить нас, а мы не будем действовать их методами, наше оружие – просто оставаться самими собой. Мы всё равно выше их, лучше, достойнее, потому что умнее, то есть счастливее. Ведь ум – это не знание трех иностранных языков, не способность мгновенно вычислить формулу быстрого мельтешения голубей вокруг кем-то брошенной горсти зерна, ум – это не держание в голове тысячи кем-то когда-то сыгранных шахматных партий. Ум – это слияние предлога «у» с первой буквой словоформы «меня». Из фразы «Вы у меня»… Которую Бог, наверное, говорит довольно многим…
В 1968 году, мне было пять, сестренке Лене годик, мы получили квартиру. Боже, как радостно это было, и в то же время – для меня – как грустно, тревожно, минутами – очень и очень тревожно. Первый раз в своей жизни я покидал обжитой мирок и переходил в другой мир – неведомый, а потому изначально опасный… Из Рабочего городка предстояло переезжать на другую окраину города, с крайнего запада Фрунзе на его крайний восток – в Пятый микрорайон, туда, где упорядоченные некоторым редким лабиринтом, пока без больших деревьев между собой, только с чахлыми саженцами, стояли крупнопанельные, скорые в постройке, неудобные для жилья – летом жарко, зимой холодно – пятиэтажки-«хрущовки», среди них элитно темнели прожаренными кирпичными стенами шестиэтажки, в каждом микрорайоне из Третьего, Четвертого, Пятого, Шестого, Седьмого, а других пока не было, – по детскому саду, покрупнее, чем на старых окраинах, но с чахлыми деревцами, не тесных, не тенистых, не утопающих в сказке, как садик хлопкопрядильной фабрики… В один из них предстояло переходить мне. Рядом с детскими садами микрорайонов стояли одинаковые, типово-типичные кирпичные школы, уголки окон пока еще плохо отмыты от строительных растворов… Единственное, чем манили микрорайоны – свежим ветром с гор и самими горами, к которым город подошел вплотную: очень скоро после многоэтажных коробочек начинались каменные карьеры и за ними сами горы: вначале – большие покатые желтые холмы с редкой щетиной культурно высаженных, редких и чахлых кустов фисташек. Желтые горы в редкую пасмурную погоду или предрассветным утром сбрасывали с себя желтый цвет, темнели свинцом, как тучи, и казались выше, чем есть на самом деле. За грядой желтых следовали зеленые горы, такие как на Кавказе – молодые, бурные, изумрудно-таинственные. Дальше – зубчатой стеной между небом и землей, между родной стороной и загадочным Уйгурским Китаем, между бытием наличным и бытием пред-Божьим, бытием Белых ангелов и Серых демонов стояли горы алмазные… Всегда – в ослепительных алмазных шапках…
В грузовике, уже меньше похожем на «полуторку» времен Отечественной войны, более солидном, более мощном, округлом, более жирно покрашенном черным цветом, в кабине – шофер, мама с сестренкой на коленях и я подле них, в кузове – среди ящиков, коробок, но больше узлов, среди бледно-желтых мебельных досок, – отец, распростерший руки между бортом и этими мебельными досками, – на грузовике, уже меньше похожем на военную полуторку, чем тот, что вез спасать меня от смерти в Юрлу, мы поехали в Пятый микрорайон…
Это было в канун Октябрьских праздников – мне-то всё равно было, какие это праздники, и я не намерен был разгадывать загадку, почему Октябрьские праздники празднуются в ноябре, – в канун Октябрьских праздников детский сад хлопкопрядильной фабрики готовился к утреннику. Я должен был танцевать первую пару с Женькой (поле того, как Танька пожаловалась воспитательницам на мои к ней признания, я вычеркнул её из своей жизни). Мне очень хотелось проститься с детским садиком хлопкопрядильной фабрики именно таким образом. Быть благородным, послушным, галантным. Провести в танце Женьку так, словно мы большие, взрослые, обрученные какой-то тайной. Чтобы всё на утреннике было искристо и великолепно, но на всём лежало не что иное, как печать прощания. Моего – с прошлой жизнью. Прошлой жизни – со мной… Я нервно даже не просил, а ультимативно заявил маме, что не пойду в новый детский садик, пока не пройдет утренник в старом. Мама уже занимала какой-то небольшой пост, постик на фабрике, её уже прочили в инструкторы райкома партии, она уже стала привыкать к мысли, что всю оставшуюся жизнь ей придется не просто жить и работать, а «решать вопросы». Она взяла меня за руку и пошла представлять новой заведующей нового детского сада… – Понимаете, мы, конечно, готовы именно завтра привести Олега в старшую группу, и вы всё хорошо объяснили, да, да, я вот записала, впрочем, в старом садике тоже были и запасные тапочки, и вот то, что вы говорили, мы это тоже всё учтем, но вот нельзя ли ему ещё недельку походить в старый сад, понимаете, у него там утренник и он там танцует первую пару? – Ну, вы знаете, это всё понятно, и первая пара и всё прочее, но вы тоже нас поймите, вот завтра проверяющий из райотдела придет, вот что я ему скажу, вы ведь тоже ответственный работник, понимаете, вы уже записаны, а потом вы поймите его психологию, здесь серьезная задача, конечно, оставить всё, что было, и начать новое – это всегда трудно, хочется ещё немножко потянуть и не браться пока за ни за какие трудности. Да вы увидите, через недельку он так здесь привыкнет, что ни о каком старом садике и вспоминать не будет, и здесь точно также станцует первую пару. Ну, Олег, станцуешь ведь нам первую пару, а? Знаешь, какие девочки хорошие у нас уже собрались… Я молчал. Новая заведующая, в отличие от старой, не отстранялась за свой отнюдь не игрушечный кабинетный стол, напротив, новая заведующая опустилась передо мной, став одного со мной роста, обняла меня за плечи и что-то ласково говорила, но я понимал, что эта ласка из-за того, что это – по сути первое в моей жизни приглашение на казнь, и что таких приглашений в моей жизни, как и в жизни любого человека, будет ещё много-много, и нельзя сказать, что к ним нужно привыкать, потому что к казни привыкнуть нельзя, никогда к ней не привыкнешь, казнь – усекновение если и не всего сердца, то кусочка сердца, а сердце человека не безгранично, как это небо над желтыми, зелеными и алмазными горами с грядой розоватых перистых облаков, сердце человека может выдержать многое и очень многое, но не всё, и рано или поздно оно разорвётся окончательно, и я начинаю плакать, вначале одними теплыми глазами, потом слезами, потом реву, реву, как океанский лайнер, и мама мигом сбрасывает с себя ещё очень чужую для неё маску человека, «который пришел решать вопрос», она снова становится той девочкой, которую везли с больным воспалением лёгких четырехмесячным ребенком из Малого Сулая в Юрлу, на машине, похожей на «полуторку» времен войны, она кружится и кружится надо мной, как ласточка, над выпавшим из гнезда, со сломанным крылом птенцом, а заведующая наоборот прячет свою ласку в большой карман идеально отутюженного и накрахмаленного белого халата, садится за стол со светло-желтой полированной столешницей и ровно разложенными на нём предметами и книгами Льва Толстого, Пушкина, Тургенева, молчит, сверху, отстраненно на меня смотрит, всем своим видом показывая, что приём закончен и начались уже ваши личные проблемы. И я впервые ощущаю, что кроме дядиюриного и тетишуриного дома, кроме дома бабы Тони и деды Васи со Стасиком, где целых три прохладных комнаты, кроме нашего ещё не обжитого, но нашего, нашего, нашего дома – двухкомнатной квартиры в Пятом микрорайоне, – я впервые ощущаю, что кроме родного дома, кроме Кошкина дома, есть ещё и казенный дом, больше – много-много казенных домов, и никакой «Тили-бом, тили-бом» казённый дом никогда не разрушит, потому что вслед за одним, даже самым священным и одновременно самым глупым и злым египетским фараоном, – обязательно придет другой фараон – ещё более священный, но одновременно ещё более глупый и злой, и за одной тьмой египетской придет другая – ещё более страшная египетская ночь, и ничего не изменишь, пока не умрешь, а умирать – ещё более страшно, чем жить…
Началась короткая киргизская зима. Папа ходил на работу в свой Киргостелерадиокомитет, приходя домой, иногда с «пятеркой» —продолговатым венгерским магнитофоном «Репортер-5», черно-кожаным, расстегнешь кожаный футляр – интересной серебристой игрушкой, с двумя аккуратными бобинками, спрятанными под крышку с окошком, вес с батарейками – 3,9 килограмма, – приходя домой, всегда включал радио на кухне, но не слушал ничего, кроме новостей, тогда они почему-то трагично назывались «последние новости»… Я ходил в детский сад, как на работу… Мама сидела с Ленкой, – кажется, ещё до того, как сестра начала говорить, я стал звать её не иначе, как Ленка… И всю жизнь звал её Ленка, и письма писал ей: «Здравствуй, Ленка!», и по телефону говорил ей, привет, Ленка, – за исключением тех случаев, когда я звоню ей в Великий Новгород из Хабаровска, в её поликлинику и прошу позвать к телефону заведующую, Елену Николаевну (вот была б умора, если б я хоть раз по многолетней привычке не сказал, а Ленку позовите!). Она никогда не обижалась. Это – наша тайна. Кроме того, ей крепко врезалось в память, что как-то я авторитетно, как студент-филолог МГУ, заявил ей, что в Болгарии, а они, чай, славяне южные, то есть поевропеистей нас, что в Болгарии – суффикс -к- к имени женщины прибавляют как знак особого уважения и ласки, его никакими нашими -очк- не переведешь: Ленка, Наташка, Светка, Галка… – это звучит, и звучит здорово…
В ту зиму я ходил в детский сад Пятого микрорайона, как на работу, и чуть ли не в первый день прихода мне стало невообразимо скучно, все уже перезнакомились и возились в большой зале какими-то кучками, в углу, изящно, нога на ногу, сидела на «взрослом» стуле новая моя старшая воспитательница, всем своим видом показывая: я здесь временно, детки, мне дано много большее, чем вы, – это была блондинка с упругими грудями и очень стройными ногами, носить короткие белые халаты, конечно, не разрешалось, и она часто сидела на стуле, нога на ногу, полы халата послушно приоткрывали больше гладких, тепло-белых ног, она словно репетировала какую-то свою будущую – главную – роль, она сама, может быть, так и не считала, но она запрокидывала голову или неторопливо поправляла прическу, хотя не было никакой необходимости ничего поправлять, или просовывала свой розовый язычок между приоткрытыми зубками и касалась им верхней губки, щечки её при этом слегка сжимались… Эх! Тили-бом, тили-бом, Юрка, друг, где ты? На прогулках здесь никто не играл в футбол – и это было ужаснее всего. Здесь были такие же резиновые мячи – зеленые, а обручем – потолще белая и, сжав её, две тонких красных полоски, но мячами играли в какие-то глупые кидалки руками, – руками, а в футбол, как известно, играют только ногами, а если рука – штрафной…
Ближе к вечеру первого дня я увидел несколько тонких книжек на одном из столиков, позже я узнаю, что это называется «читальный столик» и в обязанности воспитательниц входит брать в заведенное время одну из таких, из серии «Мои первые книжки» – и читать детям вслух. Я взял одну из таких книжек, темно-сиреневого цвета, на обложке нарисован лев и собачка, имя автора – Лев Толстой, раскрыл и начал читать про себя. Ко мне подошла девочка, выше меня ростом, полнее, я бы сказал, видом взрослее и наивно-протяжно спросила, ты что, уже умеешь читать? – Да, – ответил я просто, и, конечно, получил приглашение прочитать вслух. Спиной я почувствовал, как напряглась, как потянулась к этой сценке старшая воспитательница с гладкими ногами, как напряглись складки халата под её грудями, я почувствовал доселе неизвестное, что-то приказывало мне победить, покорить, куда-то во что-то уложить, в какую-то голубую бархатную коробочку, перевязанную вишневой атласной ленточкой, не кого-то, не этих девочек, полнее, выше и, я бы сказал, видом взрослее меня, а именно старшую воспитательницу. Я начал читать.
Я ещё плохо выговаривал букву «р» – я ещё очень наивно и плохо акцентировал фразовое ударение, не мог легко перестроиться в чтении с монолога на диалог, но я уже читал экспрессионистски, то есть с выражением, я большими мазками клал краски на главные фигуры речи, ставя второстепенное только в качестве подпорок и фона главным фигурам того мирка, что я хотел выразить… Но именно в этом рассказе, в этой сопливо-наивной фантазии странного русского деда, в рассказе «Лев и собачка» нужно было именно такое чтение – сопливо-наивное, чтобы пробуравить, прочистить какое-то тонкое отверстие, что имеется в любом, даже самом черством сердце, что уж тут говорить о сердцах мягких, о детских сердцах и о сердце девушки-девчонки со светлыми волосами и длинными гладкими ногами, что витала в своих пушистых облаках с девяти утра до шести вечера, в детском саду, в Пятом, ещё пахнущем строительными растворами микрорайоне?..
Я закончил. Оглянулся. Вокруг меня стояли коротко стриженные или с тугими косичками головки. Все стояли притихшие, взволнованные. Над ними – симпатичная воспитательница в белом халате, блондинистая. Очень четко на её бледном лице, возле глаз проступала размазанная слезами тушь… Я ещё не умел формулировать свои мысли и ощущения, но сейчас я понимаю, что у меня было чувство именно победителя. Всё! Сделано! Я уложил её в бархатную коробочку, перевязанную вишневой атласной ленточкой! Больше мне здесь нечего делать – беру портфель, иду домой…
У меня было ощущение, что я уложил всё-таки её в коробочку, перевязанную шелковой ленточкой, хотя я был совсем малыш, мне было всего пять с хвостиком лет, но кто знает, когда Бог приказывает ангелам не держать больше малыша под сенью своих крыльев – иди сам, трудно, бесы вокруг, но сам иди… Конечно, я ошибался тогда. Никого никуда я не укладывал… Она по-настоящему заплакала, понимаешь, по-настоящему! Она просто пробудилась от какого-то своего сна, и это её странный русский дед разбудил, Лев Толстой. Эта книжка совсем недавно лежала на «читальном столике», и она ни разу её своим малышам не читала. Она вообще никогда её не читала! Понимаешь?..
Я уже не мечтал, как тогда, когда ходил в детский сад хлопкопрядильной фабрики, стать капитаном милиции – именно капитаном, просто милиционеры мне уже тогда в чем-то казались очень подозрительными, другое дело – капитан! Я уже не мечтал стать космонавтом. Наверное, я перестал мечтать стать космонавтом тогда… кажется, это было тогда, когда мы делали пересадку на автобус в Верещагино в очередной поездке на Урал, – когда взрослые – отец, какой-то дядька попутчик рядом – на автостанции Верещагино заговорили об ужасной участи космонавтов Волкова и ещё кого-то, я забыл, которые задохнулись в разгерметизированном узком, тесном пространстве кабины космического корабля. Я уже тогда боялся – до ужаса, до паники в душе – смерти, боялся смерти во всех, в любых её проявлениях. Это паническое чувство страха смерти будет преследовать меня всю жизнь… Я не смел себе представить – пятилетний человечек, окруженный всяческой заботой, здоровенький, полный фантазий, – я даже не смел себе представить, как они умирали, но какие-то черные представления, независимо от моей слабенькой воли, всё равно лезли мне в голову, – как это могло быть. Как три или два человека, нет, кажется, их было трое, замечают, что они не просто беспечно летают в невесомости в тесных пространствах своей космической кабины-комнатки, они замечают, что дышат, а самое страшное, что дышать с каждой минутой становится всё труднее и труднее, и ничего не сделаешь, надо умирать, – это ведь не поездка на «Москвиче», у которого спустила шина, за город. Выкатил «запаску» из багажника, поднял домкратом днище автомобиля, раскрутил болты у старого колеса, заменил на новое, потуже закрутил – и дальше, вперед… Второй «запаски», второй жизни у человека не бывает. Это я уже очень хорошо знал, мне было очень тяжело в то лето, я почему-то часто возвращался мыслями к погибшим космонавтам…











