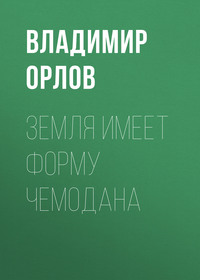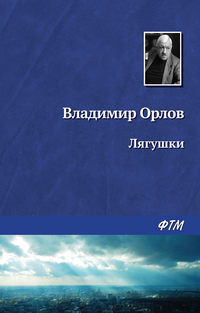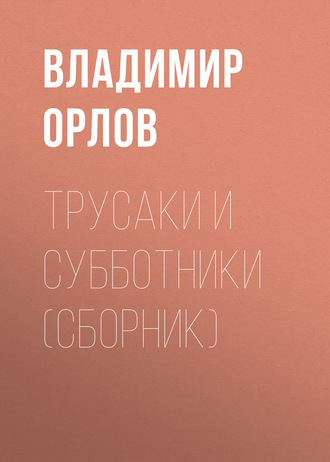
Полная версия
Трусаки и субботники (сборник)
На девятом году службы в «Комсомольской правде» я был, наконец, обмилостивлен квартирой (сорок с малым кв. метров на пятерых), в Останкино, тесной, как желудок клопа (или что там внутри клопа?), но с горячей водой, ванной и без соседей. Местность наша между улицей Королёва с Полем Дураков и Звёздным бульваром была прозвана Комсомольской деревней. Строили здесь дома на деньги процветающего тогда издательства «Молодая гвардия», а заселяли их комсомольские работники мелких и средних значений и журналисты молодежных изданий. Были они шустры, сообразительны и позже многие из них в тихие и в бурные годы выстроили себе высоковольтные карьеры.
Не все, конечно.
Из домика с башенкой на Аргуновской почтальоны разносили кому газеты с журналами, кому – телеграммы, кому – извещения о денежных переводах.
А денег в нашем доме не было. Да и откуда бы они взялись? Отец с матерью – инвалиды, отцу пенсию начисляли, матери – нет, домохозяйка. Жена приболела, платили ей пол-оклада, на троих с сыном у нас получалось семьдесят рублей. Шёл расчёт на прожитьё каждого дня.
Мужской клуб у нас располагался в пивном автомате на Королёва, шесть, зайти туда для общения я мог, только имея двадцать копеек на кружку пива.
…Тоже мне драма, скажете вы, и будете правы.
Наши танки стояли в Праге, способные на поступки люди страдали в лагерях, а тут вы со своими двадцатью копейками!
Внезапно объявившаяся Хрюшка предлагала мне, и не раз, по десять рублей, а я их не брал. Знал, что отдать будет нечем. Быть же должником кого-либо или чего-либо, я полагал, в нашей профессии не только безнравственно, но и просто невозможно, это ведёт к благооправдательным компромиссам.
Я писал тогда роман «Происшествие в Никольском». Четверо подростков в подмосковном городке изнасиловали свою приятельницу. Правовые люди дело закрыли. То ли получив взятку от родственников парней, людей влиятельных и благополучных, то ли по какой-то иной – высоконравственной, государственной причине, и героиня романа Вера Навашина сама вынесла приговор обидчикам, прощённым сильными мира в районе…
Многим зрителям нынешних кинофильмов этот сюжет может показаться знакомым. Отчего бы и нет… Сообщу только, что свой роман я закончил в 1972-м году, и что у Веры Навашиной не было стрелкового оружия, а взяла она с собой к предполагаемому месту отмщения нож, и нож этот, уже занесённый для удара, отбросила, потому как поняла, что и негодяев, смявших её судьбу, лишить жизни она не может…
Роман я отнес в «Юность», казавшуюся мне тогда вторым домом. Там его забили отрицательными суждениями членов редколлегии. В частности и со словами: «Не отражена роль общественности…» Через десять лет на каком-то юбилее жена моя поинтересовалась у Бориса Николаевича Полевого, отчего он не стал печатать «Происшествие в Никольском», он сказал: «Струсил. Виноват, но струсил».
С робостью («со страхом и надеждой») отправился я в «Новый мир», самый остро-социальный наш журнал второй половины двадцатого века. Роман там прочитали и одобрили. И не только одобрили, но и заключили со мной договор и стали готовить текст к публикации. В редакторы мне была определена (и согласилась ею стать) Анна Самойловна Берзер. Сама Анна Самойловна Берзер. Она была редактором «Одного дня Ивана Денисовича» и других прозаических публикаций Солженицына в «Новом мире», «Матрёнина двора», например. В волнении, естественно, пребывал я в ожидании разговора с Анной Самойловной. Но текст мой, приготовленный редактором к набору, меня удивил, он был урезан и утихомирен. «То есть вы, Володя, – сказала Берзер, – правку мою не принимаете?» «Я могу согласиться или не согласиться с чьимилибо пожеланиями, – пробурчал я, – но чужой текст принять я не могу». «Значит, вы не хотите, чтобы ваша вещь была бы опубликована… – произнесла Анна Самойловна с жалостью к автору. – Прошу тогда расписаться на каждой странице и пометить: “С правкой редактора не согласен”». Дня два у меня ушло на отчётливое выведение этих самых слов: «С правкой редактора не согласен».
Рукопись передали другому редактору и в конце концов она ушла в набор, и даже были определены два номера «Нового мира» 1974 года для публикации «Происшествия в Никольском». А в семейный бюджет поступила четверть предполагаемого гонорара. Но тут я заскочил вперёд, будто позабыв о посещениях неизвестной мне Хрюшки домика на Аргуновской улице. Хрюшка же снова была готова обеспечить меня то десятью, то двенадцатью с копейками рублями. А в том «впереди» и в издательстве «Советский писатель» роман отправили в типографию. Правда, было соблюдено условие: ни в какой сопроводиловке, ни в какой аннотации не употреблять слово «изнасилование». Иначе директор издательства Н. В. Лесючевский разогнал бы редакцию русской прозы. А слово это и не определяло сути романа, было его частностью. Сошлись на выражении – «драматический случай». (Позже в ситуации с «Альтистом Даниловым» от того же Лесючевского упрятывали слово «демон»).
Не ради красного словца я написал выше о двадцати копейках. Продуктов для домашнего благополучия я мог закупать в день на рубль. От силы – на полтора. Грела надежда: вот напишу «Происшествие в Никольском», и тогда, возможно, произойдёт улучшение семейной, как нынче говорят, продуктовой корзины, тогда бы сказали – продуктовой авоськи, без которой не выходили из дома учёные жизнью граждане. А меня взяли и забрали в армию.
И лейтенантом отправили на китайскую границу. В Алма-Ате, после боёв на Даманском, а потом и в Казахстане в Джунгарских воротах на заставе Жаланашколь (1969-й год) создавали новый Средне-Азиатский военный округ, и я потребовался для его укрепления.
Никакого желания побыть лейтенантом я не ощущал, понимал, что могу и не дописать «Происшествие», а главное – болезни ближних требовали моего присутствия в Москве. Но мне объяснили, что я не один ерепенюсь, а всё равно будут отправлены (или уже отправлены) во Львов, в Прикарпатский округ, – Андрей Вознесенский и Володя Костров, – в Тбилиси, в округ Закавказский, – Евтушенко, – назывались и ещё какие-то имена и округа, их я уже не помню.
Меня, по военному билету, общевойскового офицера, то есть лейтенанта мотопехоты, отчего-то прикомандировали к лётной дивизии. Новые сослуживцы и соседи мои по койкам сразу же стали приятелями, по вечерам играли в «буру», а по утрам вылетали в приграничные китайские небеса, и воем подвешенных к крыльям болванок пугали и так запуганное оголодавше-нищее население. Очень скоро начальство убедилось, что ни авиации, ни мотопехоте в их доблестях вспоможения я не окажу, и меня перевели в окружную газету «Боевое знамя». Воинство в округе собралось удалое, многие из моих новых знакомых два года назад брали Прагу, теперь на стволах орудий и танковых башен писали масляной краской: «Дембиль через Пекин!» и были уверены в том, что до прогулок по площади Тяньаньминь потребуется не более шести часов лёта. Китайцы уже не дерзили, разумные люди, своего добились через тридцать с лишком лет вежливыми переговорами, и теперь окровавленный Даманский – их земля. То есть от меня не потребовались ни отвага, ни подвиги, а я уже был к ним готов, пошла тихая маета отбывания времени в обязательных рубриках младшей сестры «Красной звезды», где, как бы ни старались внимательные стражи, наборщики непременно из «военно-полевых» учений создавали учения «военно-половые». Чтобы не скучать, я решил подтвердить, – вышло – на свою шею, – репутацию столичного газетчика и написал четыре очерка, из-за которых чуть ли не остался в армии надолго. Хотя бы и на два года. Это могло произойти запросто. «Двухгодниками» из гражданских тогда начали забивать вакансии и дыры после Хрущевских шальных сокращений. Я приуныл. В Москве никто не мог мне пособить. И совершенно неожиданным, косвенным, конечно, высвободителем из несвойственного мне армейского состояния оказался (уж не знаю, в каком он звании был, раз диплома не имел, сержанта, наверное, в лучшем случае) Евгений Александрович Евтушенко, мой «земляк» по Мещанским улицам. По легенде, после публикации в «его» окружной газете поэмы Е. А. «Пушкинский перевал» был снят за крамолу её редактор, некий полковник. В Алма-Ату известие об этом донеслось немедленно, на меня стали смотреть с подозрительным недоумением: ну, и что, пусть стихов и не пишет, а вдруг возьмёт и тоже выкинет какое-либо похабное коленце? И я был возвращен в цивильное состояние и отпущен в Москву.
На Казанском вокзале меня встречали жена и сын. Шёл мокрый снег. Я вернулся отощавший и с долгом в пять рублей (на нужды четырёх суток дороги) блестящему гусару и журналисту Володе Лелюхину. Эти пять рублей долга до сих пор бередят мне душу. Но встретиться с Лелюхиным позже не удалось…
В мокрый снег босиком вышел из вагона и здоровенный мужик, путешествовавший с нами из восточных земель в Москву, высокомерно и даже брезгливо раздвигавший всех, мешавших его движению в проходах вагонов, а за ним семенили чуткие послушницы, со смиренными будто бы взглядами, но сохранявшие пластику бёдер и остроту глаз охранительниц. Мужик был полуголый, в спущенных ниже колен белых, но давно не мытых подштанниках, пах дурно, однако такая уверенность в своём подвиге и в своём историческом предназначении исторгалась из него, что и расталкивание им мелкостных людей воспринималось, как милость утомлённого суетой пророка.
«Порфирий Иванов! – шептали ему вслед. – Сам Порфирий Иванов!»
…Я ощутил, что ехал со мной в одном поезде шарлатан. Хотя, возможно, в случае с Порфирием Ивановым я и ошибаюсь. Допускаю, что он был бескорыстным чудаком, с идей и с сомнительным учением. Но сколько потом я наблюдал шарлатанов, и в особенности, сколько теперь я наблюдаю шарлатанов, иные из них в отличие от Порфирия Иванова и вовсе не носят нижнего белья, о чём одаривают знанием население своей дурацкой страны, расположенной за пределами известного шоссе. Им, убежденным в своей миссии, пророческой ли, коммерческой ли, по завоеванию простаков или халявщиков, с их средствами, можно только позавидовать. И в этом их функция и выгода.
Пребывание в армии, любой пишущий всерьез человек меня поймет, разорвало моё проживание внутри романа, я вышел из «Происшествия в Никольском» и смог вернуться в него лишь через год.
Ходил за грибами, и вдруг в меня вцепилась фраза, будто оса ужалила: «Домовой Иван Афанасьевич ждал субботы». Причём жало осы не оказалось болезненным. И дальше грибы попадались, и фраза вилась рядом, намереваясь ужалить ещё раз…
После удачного грибного похода обычно, как бы ты ни устал, не сразу проваливаешься в бездумство сна, но перед твоими уже будто бы успокоенными веками глазами всё равно возникают трава и в ней шляпки грибов, боровиков, воздушно-розовых волнушек, красных и зелёных сыроежек, чёрных и белых подгруздей, их всё больше и больше, им нет конца… Но в тот день они не мешали словам «Домовой Иван Афанасьевич ждал субботы»…
А домовой Иван Афанасьевич ждал субботы, чтобы в останкинском кинотеатре «Космос» оказаться рядом с совершенно реальной женщиной Екатериной Ивановной Ковалевской, нашей приятельницей и женой моего друга. Он влюбился в неё. А услугами и штампами министерства внутренних дел её место жительство было определено именно в строении домового Ивана Афанасьевича. Я писал про его историю каждый день. Не забывая, конечно, о «Происшествии в Никольском». Зачем? И сам не знал. Натура требовала, задавленная, видимо, обстоятельствами быта, реалиями собственной жизни и ситуацией, случившейся в посёлке Никольское.
Интересно было. Интересно! Забавно. Оживали вдруг на клеточках школьной тетради существа, будто бы из меня произошедшие, но состоящие в родстве, не знаю уж какими пуповинами вызванном, и с Щелкунчиком, и с советником Дроссельмейстером, с Солохой и её сыном Вакулой. А главное – они словно бы существовали рядом со мной, за стеной, или в стенах, и уж, точно, в доме с башенкой на Аргуновской, а один из них отважился влюбиться в женщину с паспортом и шрамом от укуса собаки на левой ноге.
То есть это и раньше должно было случиться. Но случилось теперь. Когда я в муках и радостях приходил (так мне казалось) к собственной интонации, к свободе её, просиживая над рукописью о горьком происшествии с подростками, и кое-как пользоваться своим инструментом – словом – научился.
В детстве, в Напрудном переулке, за стеной жил мальчик Саша, одноклассник, мученик игры на скрипке. Я же, получалось, осваивал потихоньку скрипку размером длиннее – альт, скажем.
В «Юности» рассказ о домовом «Что-то зазвенело» приняли с улыбками и радушием. Отвели десять полос. Известному рисовальщику и карикатуристу Иосифу Оффенгендену поручили сделать к рассказу рисунки.
Я держал в руках вёрстку с его картинками. Ося Оффенгенден стоял рядом. «Ну, старик, – сказал Ося. – Это будет нечто…» А через несколько дней я получил письмо от Бориса Николаевича Полевого. Он по прежнему радовался моему рассказу, но радовался и тому, что в журнале «Юность», старик, в редколлегии – американская демократия, и вот эта редколлегия, старик, проголосовала за то, чтобы рассказ «Что-то зазвенело» разобрать. И разобрали. А мне потом стало известно, что дело вовсе не в редколлегии с её незаслуженными вольностями. А в другом.
…Это «Другое» потом долго дергалось и кружило вокруг рассказа про любовь и над ним и никак не могло успокоиться. Рассказ был набран в журнале «Смена», и там его разобрали. Братья Стругацкие включили его в очередной том популярной тогда серии «Молодой гвардии», и здесь его прикрыли крышкой унитаза. И дальше продолжалось совершенно неуправляемое мною и бессмысленное порхание перепечаток рассказа на машинке по издательствам, журналам и киностудиям.
«Что-то зазвенело», без которого я бы не смог написать «Альтиста Данилова», в конце концов, был напечатан через семнадцать лет в журнале «Сельская молодежь», то бишь в 1989-м году. Вот-вот три весёлых дяди с егерями, кравчими и писарями должны были появиться в Беловежской Пуще, где их ради народного волеизлияния смирно поджидали зубры.
А прежде на «Мосфильме» он доброхотами передавался из объединения в объединение. Все они были творческие, а потому имели номера. Первое, второе, третье… Совсем уже собирался начать работать над «Что-то зазвенело» Виктор Титов, поставивший в своем творческом «номере» «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Здравствуйте, я ваша тётя!», знаю с его слов об этом. Но ему сказали: «Да ты что!» Потом мне сообщили, что рассказ взялся читать сам Данелия, сейчас он за границей, но через неделю вернётся…
К этому времени «Происшествие в Никольском» тихо разобрали в «Новом мире». Был роман в типографских литерах, и нет его. Не балуй. А когда мне показали места, вызвавшие особое непонимание Китайского проезда (там беспорочно и в тепле пребывал Главлит), я мысленно принёс извинения Анне Самойловне Берзер. Всё, что она убирала из моих текстов, и всё, что я, самонадеянный (или обнаглевший) автор, со словами: «Не согласен с правкой редактора» восстанавливал, и привело к потоплению романа. Рукописи не горят, но тонут. И никаких имён надзирателей над соблюдением литературной нравственности нигде не было. Виднелись лишь мягкие карандашные пометки…
…Однажды судьба занесла меня в Дом на Набережной. Борис Николаевич Голубовский, тогда главный режиссёр театра Гоголя, задумал в шестьдесят восьмом году поставить спектакль по роману «После дождика в четверг». Вместе с женой он проживал в квартире покойного тестя – начальника цензуры тридцатых годов. Был приятный разговор благополучных гостей за легкомысленным и сытым столом, и кто-то предположил, что мрачные тени из дома уже изошли, и, наверное, стоит вспомнить о чём-либо весёлом. «А сейчас! – было сказано. – Вот это, пожалуй, может показаться забавным…» И был явлен гостям белый конверт с резолюцией, исполненной красными чернилами (или красным карандашом, не помню): «Печатать разрешаю. И. Сталин». Довоенный хозяин квартиры, видимо, посчитал, что его должность не позволяет решить столь ответственный случай и отважился обратиться за подмогой к высочайшей инстанции. Слова: «Печатать разрешаю» определили судьбу стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Мистер Твистер». Гости поразглядывали резолюцию и сошлись на мнении: «Действительно, забавно…»
А я после беды (моей) в «Новом мире» получил послание из издательства «Советский писатель». Перед тем я вычитал вторую сверку «Происшествия», а тонкими литературными людьми была уже произведена профилактическая штопка, то есть через месяц через два должен был бы привезён на склады и в магазины тираж книги. Из послания выходило, что по каким-то причинам текст был прочитан заново и с ясной головой, и требуется просветление. Уж больно мрачными и несоответствующими реалиям жизни при боковой подсветке увиделись происшествия с молодыми людьми, ровесниками строителей БАМа, что без решительного просветления обстоятельств романа, книга могла бы оказаться вредной. Людей из редакции русской прозы, почти допустивших выход книги в свет, облагодетельствовали выговорами и лишили календарных премий.
Просветлять что-либо я отказался. Прежде всего от непонимания, что же я должен просветлять. Я сам, видимо, жил непросветлённый. И просто захотел описать взволновавшую меня реальную житейскую ситуацию.
…Но отваги заявить: «Режьте меня! Бейте меня! А и строчки не исправлю!» во мне уже не было. Я обещал подумать. Но думать не спешил…
К тому времени в Питере на «Ленфильме» взяли и закрыли производство четырёхсерийного телефильма «После дождика в четверг». А ведь был уже у картины и директор со штатом и автомобилем. (Киношники знают, что это такое. «Поехали!»). И почти все актёры подобраны. То есть после двухлетних мытарств на бестолковьях худсоветов следовало при команде «Мотор!» разбивать бутылку шампанского. Повод для закрытия многих на студии рассмешил и опечалил. Виктор Аристов, два года как утверждённый режиссёром, срочно выяснилось, якобы не имел права быть постановщиком фильма, потому как кончал не ВГИК, а театральный институт. А уже успел поработать вторым режиссёром у Алексея Германа и на лучших фильмах Ильи Авербаха. И потом режиссёром ставил фильмы («Порох», в частности). Я же получил после окончательного расчёта четыреста рублей, по весёлости судьбы именно четырьмя сотнями бежевых бумажек рублёвого достоинства, плотно забивших нутро кейса (Сейчас в детективах открывают крышку, и в той же чемоданной ёмкости радуют расторопных героев упаковки миллионой зелени).
Хорошо хоть довёз сокровища до Москвы, а то ведь были в поезде и приключения…
Естественно, нашлись причины, по каким спектакль в театре имени Гоголя не состоялся. Может, тени в квартире Дома на Набережной нахмурились и выразили неодобрение…
Совсем недавно от режиссёра Валерия Ускова, ставившего вместе В. Кранопольским фильм «Таёжный десант» по первому моему роману «Солёный арбуз», узнал историю, меня удивившую. Оказывается, в припоминаемую мною пору один сановник из наиважнейших на важной даче посмотрел «Таёжный десант», возмутился, и фильм, совершенно благонамеренно-романтический, собравший уже двадцать восемь миллионов зрителей, на долгие годы водворили на полку. Мне об этом было не ведомо…
…«Механик тобой не доволен…» А может, дело было и не в механике, а моем собственном несовершенстве? Наверняка, именно так. Конечно, так. Самоедство присуще мне. Иногда оно даже приносило удовольствия и оправдания иных несовершенств. Но чаще вызывало уныние и желание осуществлять себя в какой-либо другой профессии. С детства мечтал ведь быть географом, вот и был бы им. Но не стал (хорошо, хоть попутешествовал по стране газетчиком) и уже не мог им стать.
А надо было жить дальше и делать то, от чего натура уже не могла отказаться.
Тут как раз и случай, чтобы напомнить о доброжелательной ко мне Хрюшке. Сочетание Владимир Орлов – банальное. В годы, о каких взялся писать, в отечественной словесности и журналистике всяких Владимиров Орловых имелось множество. Был среди них (нас) даже Лауреат Ленинской премии (тогда – Эверест-Джомолунгма!), поощренный за участие в книге «Лицом к лицу с Америкой» о ковбойской поездке Н. С. Хрущёва по кукурузной стране. Был Владимир Николаевич Орлов, ленинградский литературовед, выпустивший книгу о Блоке – «Гамаюн». Книгу замечательную, её до сих пор незаслуженно (для меня) вписывают в перечень моих работ. Я же по просьбе питерского профессора, высказанной в письме ко мне, обязался не употреблять сочетание «Вл. Орлов», на него была монополия автора «Гамаюна» с младых лет. Был и ещё какой-то Владимир Орлов, сочинявший пьесы в компании с иными драматургами, этими пьесами до сих пор награждают меня составители биографических справочников. И был в Симферополе Владимир Натанович Орлов, чьи забавные и с ехидствами, как бы для детей, стихи публиковались на шестнадцатой полосе «Литературной газеты». В его-то стихах грустила, улыбалась и уж совсем растроганная поступками друзей смеялась или даже хохотала Хрюшка.
По десятке от её весёлых настроений и стало приходить ко мне в Останкино.
Иногда почему-то и по двенадцать рублей с копейками.
…Мало того, что я человек щепетильный. И верю в приметы. Деньги за чужие труды удач не принесут. Это одно. Но я просто представлял: вот накуплю я, расслабившись, на эту волшебно-дармовую десятку продукты, а ко мне явятся люди и скажут: «Что же вы, гражданин, рот открыли на чужой каравай, гоните деньги обратно!» А откуда я их возьму? Почтальоны происхождение извещений на десятки объяснить не могли, я ходил сдавать деньги на почту и там узнал источник поступлений: «гонорар за стих. Хрюшка улыбается». Пришлось ехать в Лаврушинский переулок, там, при знаменитом писательском доме, принявшем в свои комнаты и коридоры особо почитаемых авторов, чьи фотографии имелись в школьных учебниках, местилась какая-то финансовая кормушка. Естественно, мои попытки вернуть деньги неведомому мне автору Хрюшки улыбающейся, вызывало у милых дам в кассовых окошках желание пригласить на беседу со мной психиатра. «Мы идиотки, что ли, разыскивать эту хрюшку и отсылать ей вашу мелочь! Берите. И не морочьте нам головы!»
А я не брал. И убеждал занятых дам отослать гонорары в Крым.
Занятые дамы смотрели на меня с жалостью разочарованных матерей или успешных в своих диагнозов психоаналитиков.
Тех, к счастью, ещё не развелось множество в Москве, да и теперь они могут быть полезны разве что в случаях внезапной беременности обслуги на золочёных дачах. Психоаналитики в стране дураков Иванов подмогой не станут, сами попросятся в страны с тончайшей психикой на успокоение под души Шарко.
Вершиной гуманитарной помощи упоминаемой мною Хрюшки стал заказной пакет, пришедший в Останкино из Ленинграда. Ленинградское отделение «Музгиза» прислало мне проект договора, подписав какой, я мог быть вознаграждён сорока тремя рублями. В письме мне предлагалось продать права на использование моих сочинений для написания либретто (то есть либретто уже было создано, письмо вышло соблюдением вежливой формальности) трехактной оперы. В первом акте Хрюшка грустила и плакала, во втором, ощутив понимание других персонажей, улыбалась, в третьем – естественно, пережив катарсис, смеялась или хохотала. Но название оперы, как мне запомнилось, было именно – «Хрюшка улыбается».
Мне бы тут же разорвать пакет с документом на клочки и истоптать их, но уважение к чужому труду остановило меня и я поехал в Лаврушинский переулок, чтобы написать решительное заявление-протест, в котором я просил не ущемлять авторские права симферопольского поэта Владимира Натановича Орлова и более не приставать ко мне с оплатой чужих заслуг.
К тому времени я уже ходил со своими рублями в карманах.
С тридцатых годов, то есть при призыве: «от станка – в литературу!», при издательствах и журналах существовала система литконсультантов и «внутренних» рецензентов.
В принципе-то система – фискальная. Сославшись на мнение каких-то невидимых специалистов о якобы дурном качестве рукописи, можно было не допустить её публикации. Но, вышло, что и не бесполезная…
Нынче самую читающую страну упразднили. Зато она стала страной писателей. Что ни человек с амбицией, то – писатель. Скажем, брошенные олигархами или хотя бы нуворишами средних коттеджей и яхт, дамы, не получившие при разводах всех квартир и изумрудов, тут же становились писательницами. И толпами лезли в ток-шоу с моральными разоблачениями. Чем больше их били и угнетали прежние мужья, тем гуще получались тиражи написанных ими (якобы ими) книг.
Будучи занудой, повторюсь. Книги не пишут. Книги издают. Но для многих нынешних писателей и писательниц это не важно. Они получают свои книги из типографий, а каким способом и какими людьми создаются товарные изделия с их именами, для них – несущественные мелочи. Потом они привыкают к тому, что они писатели.
Так вот, графоманов и людей тщеславных и в шестидесятые годы было не меньше, чем сегодня. И они жаждали славы и лавровых листьев. Стало быть, была работа для литконсультантов. Сострадательные люди пригласили меня читать рукописи в издательстве «Детгиз», а потом решилась поддержать меня и «Юность». В «Детгизе», проверив мои способности, предложили даже перевести что-нибудь на русский с национального. Тогда наблюдался подъем национальных литератур. И его следовало поддерживать. Дали мне на выбор рукописи (подстрочники) чувашского автора М. Юхмы и лезгинского – К. Меджидова. История с чувашскими пионерами показалась мне морализаторски-скучной. Да и рассказано о ней было плохо. В сыром же жизнеописании К. Меджидовым ашуга Сулеймана Стальского мне стала интересна личность главного героя. О Сулеймане Стальском упоминалось во многих учебниках. Да и смотрел он на нас со множества фотографий. Древний дед в белой бороде и в белой же папахе. Аксакал и мудрец. Написал (или пропел) восторженные слова о Сталине или о Сталинской конституции. Сидел в Верховном Совете, представляя народы Кавказа. А из подстрочников К. Меджидова я узнал об истории полунищего молодого человека из бедного горского аула, лезгинского соловья и импровизатора, вынужденного обслуживать свадьбы и застолья на нефтяных промыслах Баку, о его странствиях и его любви. Материал рукописи был интересный, но походил на груду камней, завезённых для постройки крепостной башни. Да большинство камней надо было ещё и обтёсывать. Я послал автору свои соображения об архитектонике повести, получил его добро и всё равно долго не мог заставить себя сесть за переписывание чужой работы. Заставил (аванс был уже проеден!), и тут начались странности. Перо моё принялось плести восточные орнаменты, узоры дагестанских ковров, выводило слова и метафоры, какие было жалко отдавать чужому имени. Но коли назвался груздем…