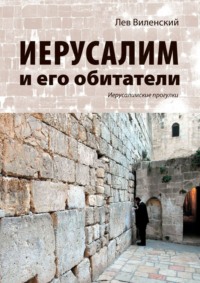Полная версия
Записи на таблицах. Повести и рассказы разных лет

Записи на таблицах
Повести и рассказы разных лет
Лев Виленский
Иллюстратор Лев Виленский
© Лев Виленский, 2022
© Лев Виленский, иллюстрации, 2022
ISBN 978-5-4483-2860-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Повести
Ахав
«Он был везде.
Он царил над небольшими террасными полями, над узенькими зимними речками, над болотами, где ночью слышны свирели лягушек, да гулко ухает выпь. Его мягкие старческие ладони оберегали народ, незаметно отодвигая от границ египетские армии и шайки арамейских бандитов.
В Его храме горел огонь, денно и нощно подбрасывали в него душистые кедровые поленья специально приставленные жрецы, и столб ароматного дыма поднимался к голубому, прозрачному и звонкому небу Йерушалаима.
Но жестоковыйным оказался народ. Йешурун утучнел1 и стал брыклив и горд. По смерти Шеломо2, царя мудрого, воззвали северные кланы: «Каждый по шатрам своим, Израиль!» И стало так. И ослабела страна, и распалась на две неравные части. И стали называть северную страну Израиль, а южную – Иудея. И усилился Израиль, и воевал с соседями, и поставили израильтяне двух медных тельцов для поклонения, одного на севере, в Дане, где белым снегом покрывается зимой гора Хермон, а другого в Бетэле, откуда в ясные дни виден Йерушалаим. И стали поклоняться израильтяне богам иным, и привели к себе братьев своих финикиян, и стала Йезевель, принцесса финикийская, женой Ахава, царя Израиля.
А Иудея – бедная и слабая родственница ушла в горы, укрепила города свои стенами, мощными воротами, неприступной крепостью стали Йерушалаим, и Кириат Яарим, и Гева, и Шеарим, и Лахиш. И замкнули иудеи ворота крепостей, и молились Господу, и давал он им дождь зимой и прохладную росу летом.
Год был 3000 от сотворения мира, и вот, воцарился Ахав3 в Шомроне, столице Израиля».
Шевна, старый летописец, с любовью посмотрел на последнюю строчку, которую только что написал на специальной выбеленной коже, аккуратно положил на подставку тростниковое перо, вытерев его тряпочкой. За окном выл ветер, бросая потоки ледяной воды на деревянные ставни. Буря бушевала над Йерушалаимом уже третий день, заливая город дождевыми струями, сменяющимися по ночам снежными рыхлыми хлопьями. Ураган, пришедший с севера, свирепел все больше и больше. Но жители города, запасшиеся на зиму едой, сидели по домам, не выходя даже ненадолго, и радовались потокам воды небесной, распевая молитвы и хваля Господа за доброту его. Добрый дождь – это богатый урожай, процветание, низкие цены на зерно и овощи, вкусные красные яблоки с Хермона, привозимые арамейскими торговцами, толстые тушки засоленных рыб из Ашдода и Яфо, на которые обменивают желтое иудейское зерно высокие светловолосые торговцы – плиштим4. А не будет дождя – застонет земля, покроется трещинами ее иссушенная кожа, побледнеет трава и поникнут редкие оливы на склонах гор, и станет горьковатой вода в источниках, и будут умирать дети от голода, и скорбно мычать жертвенный скот в овчарнях Храма. Шевна потянулся, расправив затекшие ноги и выпрямив гудящую спину, отошел от пюпитра, на котором покоились дорогие разлинованные листы кожи, обмакнул суховатую лепешку в оливковое масло, в которое служанка насыпала растертые в порошок сухие листья иссопа и зернышки кунжута, с трудом откусил небольшой кусочек и стал мусолить его беззубыми уже челюстями. «Словно ребенок», – думалось ему, – «в детстве мамка дает пожевать беззубенькому мягкий кусочек лепешки, приговаривая: кушай, кушай, сладенький мой, дитятко мое… а в старости и матери нет, и жена ушла давно к праотцам, дети покинули иерусалимский дом, в котором их крики веселые все звучат и звучат, отражаясь многоголосым эхом от сводчатых стен. Эх, нехорошо быть человеку одному, как сказал Господь, нехорошо». И с мыслями этими, забыв кусок лепешки между усталыми деснами, встал Шевна снова к пюпитру, и обмакнул тростинку в чернила, выводя на светлой коже ровные буквы, шепчущие о делах недалекого прошлого.
«В двадцать седьмой год царствования Асы, царя иудейского» – писал Шевна – «после двух лет царствования в столице своей Тирце, был убит царь Исраэльский Эйла генералом, которого звали Зимри. Негодяй Зимри командовал половиной колесничего войска, был он человеком злым, испорченным, многогрешным, и во всем следовал путями царей Исраэля. И когда царь Эйла пировал у царедворца своего именем Арца, и выпил, и валялся пьяный среди чаш с вином и остатков трапезы, мутными глазами взирая на тирийских танцовщиц, которые веселили пировавших, ворвался в залу Зимри, и длинным бронзовым кинжалом отрезал косматую голову Эйлы. Ставши царем, Зимри показал свое звериное нутро, истребив полностью всех потомков Эйлы мужского пола, вплоть до грудных детей, всех друзей и родичей царя истребил он.
Тем временем, в штаб войска Исраэля, осаждавшее мятежный Гибтон, что в земле пелиштимлян, пришла весть о том, что царь Эйла мертв, и Зимри правит вместо него. Генерал Омри5, военачальник, был призван на воинский сход. Во время схода, когда безжалостное солнце накаляло доспехи, и птицы падали с неба, опаленные жарой, воины выкрикнули имя его, и потребовали вести их назад – на Тирцу, и стать им царем и заступником вместо убиенного Эйлы. В Гибтоне вздохнули с облегчением необрезанные филистимляне, увидев пыль, постепенно оседавшую за уходящими солдатами, за грохочущими по разбитым дорогам, колесницами, и ночь опустилась со стороны гор на Пелешет, ночь, озаряемая на горизонте сполохами багрового, как заходящее солнце, пламени. Горел дворец в Тирце, и на крыше его метался в пламени Зимри, то проклиная, то славя богов, плевал в сторону обступивших горящий дворец воинов, грозил злобно и беспомощно серповидным ханаанским мечом, и, когда пламя охватило его, заорал во всю мощь: «Будь проклят Омри, и все потомство его»! Злой человек был этот Зимри, злой и испорченный, но, воистину, последующий царь Исраэля превзошел его в мерзости своей. Омри, растлитель малых детей, убийца. Он убил Тивни, любимого народом вождя, который словами своими мог заставить толпу плакать или кричать от восторга, он танцевал нагой, во сраме своем, у обмазанных кровью и жиром идолов Ашейры и возглавлял хороводы в честь ее священной похоти, а после шести лет царствования своего, когда успел обесчестить всех дочерей Тирцы, купил Омри у Шемера гору, за два таланта серебра чистого, и поставил там город великий, и назвал его Шомрон».
***
– А что, Шемер, – улыбнулся Омри, потягивая вино из серебряного кубка, – благоволят ли к тебе боги? Ашейра одарила ли тебя крепостью, дал ли Баал6 тебе достаточно денег? Слыхал я, ты недавно сына женил, а невеста с хорошим приданым, а?
– Да уж, о, царь, – криво ухмыльнулся Шемер. Он провел ночь в веселом доме, которым заправляла вдова Элифаза. В этом месте, у городских ворот, собирался весь цвет молодежи города Тирцы. Здесь, кроме недурного вина из Иудеи, подавались на десерт – помимо пирогов с мясом, сладких ватрушек с творогом и медовых конфет – сочные молодые девки-рабыни, которых покупала веселая вдовушка на невольничьем рынке в Гате. Плиштим, разбойники морские, не брезговали набегами на побережье, забирая красивых девушек и заламывая за них огромную цену. Только гордецы и святоши иудеи не покупали плиштимской добычи, демонстративно плюя в сторону необрезанных. Да то иудеи, о которых каждый знает – они поклоняются пустоте, хоть и братья они израильтянам, а толку с них никакого вовсе нет. Но воевать с ними – себе в убыток. Эти грубые горцы тренированы в боях, организация у них железная, военачальники опытные. Даже пришлось отдать им Геву Биньяминову, а жаль… хороший городок был у нас, белый, красивый, и вода там вкусная, и девушки какие водились в Геве…
– Чего это ты размечтался, Шемер, Адад тебя порази! Того и глядишь, заснешь с открытым ртом! Приданое хорошее было, говорю?!
– Да ничего там особого не было, о, царь, – протянул Шемер, – мелочь все. Какие-то ткани, посуда, десяток колец серебра. Что там приданое! Сама-то невестка моя – красотка!
При этом Шемер противно чмокнул губами и показал руками размер прелестей своей невестки.
– Вот ведь.., – польстился Омри, – тебе, толстый, зачем такая? Пусть сыну твоему нравится. А ты поменьше о бабах думай. Я тебя не за этим позвал.
После этого Омри загадочно повел глазами в сторону, где, за дымкой жаркого дня, лежали покатые спины гор и зеленели поля между ними. Несмотря на дымку, вид с крыши царского дворца получался весьма и весьма достойным. А после вина, которое щедро наливали Шемеру слуги, тому казалось, что царь показывает ему не менее, чем рай земной. Чего уж там греха таить – таким видом в Тирце никто не любовался, разве что часовые на башнях. Дома в городе возводили из обожжённого кирпича, кровли – из глиняной черепицы, в один этаж возводили дома, а между ними, в узких улочках текли потоки грязной воды да возились полуголые ребятишки. Только царский дворец смело подымался в небо тремя этажами, а на крыше, под навесом из белых тканей, привезенных из Цидона, царь любил отдыхать от ночных похождений своих, принимать послов, решать дела и пить вино, до которого в старости стал охоч. Шемер, который тоже выпить любил, опьянел совершенно, и даже уронил из приоткрытого рта тонкую нитку слюны.
Омри подсел к нему поближе, приобнял за жирное по-бабски плечо и доверительно сказал в ухо, дыша чесноком и луком:
– Свадьба-свадьбой, а вот хочу я у тебя, толстый, землицы купить. Вот ту горочку, что подале будет, по направлению к Шхему. Там у тебя гумно, вроде как?
– Го-о-орочку, – икнул Шемер, – гумно, царь? А на что тебе мое гумно сдалось? У тебя гумен мало?
– А тебе что, Шемер? – осклабился Омри, – ты продай, сукин ты сын, толстый! Надо мне!
– Земля там хорошая, – хрюкнул Шемер, немного отрезвев, – богатая землица. И скотинке там привольно очень, вишь, какие курдюки нагуливает? И есть там роща самородная, древняя, там торчит столб, где осенью хороводы хананейцы водили, священное место! Трава там мягкая, да ручеек есть.
– И ручеек – это неплохо, – согласился Омри, пребольно ущипнув Шемера за плечо, – Толстый, продай, разрази тебя Адад7, а то ведь отниму!
– Четыре таланта8 серебра, – четко выговорил пузатый Шемер, хмель которого выветрился моментально.
– Четыре таланта? За кусок выжженной солнцем горы? Четыре? Да чтоб тебе пусто было! Это ты царю своему такое предлагаешь? – заорал возмущенный Омри.
– Четыре, – икнув, подтвердил Шемер.
– А четыре сотни ударов плетьми?
– А если я потом расскажу, что ты мальчиков портишь?
– А если я прикажу тебя.., – при этом Омри выразительно черкнул ребром ладони по шее Шемера.
– А если ты такое сотворишь, – неожиданно серьезно сказал Шемер, – я постараюсь с неба проклясть тебя так, что твой уд превратится в сухую веточку, а глаза вытекут. Ты же знаешь, – при этом Шемер поковырял в носу и нагло вытер палец о ковер, на котором сидел, – мой папа был известный колдун. В Иудее его приговорили к побиению камнями!
– Полтора таланта серебра!
– Три!
– Полтора, и стадо баранов в полторы сотни голов!
– Два с половиной!
Омри внимательно посмотрел в глаза Шемеру. Тому стало понятно, что его не просто убьют, но будут пытать. Возможно, отрежут срамные части. А, может, и бросят в яму со змеями и скорпионами. И земля ему больше не пригодится – со всеми ручейками и гумнами на свете.
Шемер вспомнил, как засовывала ему в рот кусочки жирной баранины красивая рабыня вчера у вдовы Элифаза, как тек вкусный жир по ее тонким пальцам и стекал на пышную грудь, как слизывал он, тряся складками своего живота, этот жир с груди ее и визжал от удовольствия. Ему хотелось еще, и еще, и еще. А тут… Да, гумно знатное, и родник там есть, и трава высокая да пышная, и роща эта священная, но что может быть дороже жизни? И пусть Омри семь раз его друг, но кто, как не он, знает, как дружба царская может в момент стать враждой, и как часто соратники царя по питью и оргиям неожиданно исчезали, а потом находили их трупы обезображенные, либо вовсе никого не находили.
– Два таланта, – бухнул толстяк, и даже пустил ветры от напряжения, – два! Тебе, царь, задешево.
Омри улыбнулся тонкими ниточками губ. Щелкнул Шемера пальцем по лбу.
– Два таланта серебра я тебе дам. А после того, как мы с тобой сделку-то совершим, расскажу тебе, зачем мне земля.
Принесли специально выделанный тонкий обожженный черепок глиняный, писец присел на корточки и, обмакнув тростинку в чернила, аккуратно вывел подробности сделки, искусно нарисовав гору с гумном Шемера внизу документа. Капнул мокрой глины – царь поставил оттиск опаловой печати, Шемер прокатил свою печать, цилиндрическую, купленную у вавилонского купца. Обнялись, выпили и встали около края крыши, где ограда из столбиков в форме листьев позволяла облокотиться и не падать, разглядывая окрестности.
– Так вот, Шемер, толстая твоя шея, – усмехнулся Омри, – я хочу заложить на твоем, тьфу, моем гумне город. И это не будет простой город! Он встанет на караванных путях, на Дороге Отцов от Бет-Шеана и до Иудеи, и по путям пройдут караваны из Бавэля, из земли хеттов, из Египта и земли Плиштим, от финикийцев и арамейцев. Отовсюду пройдут караваны, и богатства стекутся в город. Центром цивилизации сделаю я его, и станет новая столица мощнее Шхема и славнее Тирцы, и Иерушалаим, эта горная деревня, померкнет со своим храмом перед славой нового города! Я позову лучших архитекторов из Финикии, они возведут мне дворец из слоновой кости, более славный и великий чем храм, который построил сам Шеломо! Сюда будут обращены взоры народов, сюда придут поклониться нам послы стран сопредельных! Отсюда я буду править Исраэлем, и расширю его пределы, и покорю отложившиеся Аммон, Моав и Арам9! И пусть боги смотрят на меня с завистью, а люди с подобострастием, ибо стану я властелином мира, и богом среди богов! А теперь, Шемер, слушай волю мою, – и Омри выпятил грудь и стукнул ладонью по перилам, – я назову этот город Шомроном! В твою честь, толстый, ты это заслужил!
А про себя Омри подумал, – теперь он никому не расскажет, что я люблю мальчиков, слишком велика честь оказанная ему!
Шемер присел от волнения. В животе забурлило, и толстяка одолело желание сходить на двор. Город – городов названный в его честь? Больше Иерушалаима и сильнее Дамэссека? Центр цивилизации, как сказал Омри? Ах, какой он… настоящий друг!
И, все еще сдерживая спазмы в животе, Шемер прохрипел благодарно
– Я тебе приведу мою новую невестку в постель сегодня же вечером!
И кубарем скатился с лестницы, спеша в дворовые помещения.
***
«Омри возводил стены новой столицы», – писал Шевна, изредка останавливаясь и массируя правую руку левой. Рука стала плохо слушаться в эти зимние холода, – «погоняя строителей и архитекторов, он даже нанял рабов в Араме, чтобы те таскали и рубили камень для стен и башен, для домов, которые, впервые в наших краях, царь приказал закладывать и возводить в два этажа. При этом Омри следовал грехам Йеровоама, сына Невата10, и закладывал вокруг города высоты каменные, на которых возводил обелиски богам ханаанейским и финикийским. И Ашейру сделал из черного камня, называемого „базелет“, который привозят с гор Голанских, большую Ашейру, стоящую на коне, и вокруг ее стоят идолы улыбающиеся с флейтами и тимпанами. И поставил ее на возвышении у городских ворот, чтобы каждый входящий в них мимо идола проходил и кланялся. А дворец Омри построили мастера из Финикии, в три этажа с высокою башней возвели они дворец ему, с балконом большим на башне, откуда в дни ясные видно было всю землю Исраэля, и Шхем, и долину Хула, и Ярдэн11, до гор Иудейских видна была земля. И сидел Омри на балконе, где резные перила с женскими ликами, и смотрел на землю свою и радовался, но недолго оставалось ему жить. Вскоре, во время пира, царь неожиданно вскрикнул, и упал лицом в блюдо винограда, поставленное перед ним. Никто не знает, сам ли умер Омри, или ему помогли умереть охочие до перемен придворные его финикийцы. Но похоронили его недалеко от дворца, на специальном месте, выбранном им до кончины – не так как у нас, иудеев, а по обычаю финикийскому, и водрузили над могилой каменный столб. И сел править вместо него Ахав, сын его, и случилось это на тридцать восьмом году правления Асы, царя Иудейского. Йезевель, дочь Этбаала, царя Цидона12 взял он в жены себе, и ездил в Цидон, и поклонялся там Баалу, мерзости цидонитской, и поставил ему трон в капище, что возвел в Шомроне для себя и нечистой супруги своей, Йезевель. И послал он человека, названного Хиэль, который жил в Бетэле, и приказал ему сделать дело грешное, а именно – восстановить нечистый город Йерихо, дотла уничтоженный более трехсот весен назад Иеошуа Бин-Нуном. И приступил Хиэль к месту, где лежали камни от городских стен, которые, как написано в Книге Иеошуа, упали от звука труб и крика воинств Исраэля. Место это проклято, и даже дикий кочевник не разобьет там стана, там живет муха, чей укус ядовит, и на месте укуса вырастает огромная шишка, гноеточивая и смрадная, и вскоре человек от гноя распухает и умирает в муках. Там гиена и шакал воет по ночам, и птица-сова гулко ухает в долине, где течет к Ярдэну ручей Прат. Но Хиэль, которого вела извращенная воля царя, не потерялся, он принес в жертву Молоху13 Авирама, первенца своего, и на костях его заложил стену, а младшего сына Сегува, чью головку размозжил во славу того же Молоха, возложил нечистый Хиэль у основания ворот. Так отстроил он Йерихо, и переселил туда исраэльтян из Тирцы и Шхема, всех, кто желал получить землю и дом в этом жарком и страшном краю. Ибо исраэльтяне не боялись проклятия Господа над этим местом, так как большинство из них не знало Господа, а молилось кто кому хотел – кто грому небесному, кто тельцу бронзовому, кто змею медному, а кто богам финикийским Баалу и Ашейре. И первенцев своих несли Молоху, и было так».
***
Ахава разбудили после обеденной трапезы, когда он, прикрывшись легким покрывалом, спал во внутренних покоях дворца, переваривая обильную пищу и наслаждаясь прохладой, которую несли толстые каменные стены. Мясо молочного теленка, обильно приправленное перцем и солью, политое соусом из трав и корений, несло приятную тяжесть желудку и успокоение голове, ни звука не доносилось до ушей царя, казалось, весь огромный город спал вместе с ним, посапывая тысячью носов в унисон. Даже собаки на дворцовой псарне (жена так любит этих грациозных египетских животных) молчали, разомлев от жары, и тоже спали, высунув длинные розовые языки. Вдруг за кедровой дверью усыпальницы раздался чей-то крик, сначала отдаленный, потом становившийся все яснее и яснее, слышались звуки борьбы, словно кто-то очень сильный и решительный схватился с дворцовой стражей, и все громче становился крик неизвестного нарушителя царской неги: «Где Ахав!? Я должен видеть его! У меня важная новость для царя!».
Испуганный начальник дневной стражи деликатно покашлял у царского уха, дескать, незнакомец пришел к тебе, царь, важное слово сказать хочет. Обыскан, оружия у него нет, посох отобрали, да и сам он худ и тонок, непонятно, как не остановили его трое атлетически сложенных стражников. Те ведь и быка остановить могут, а тут…
– Ведите, – пробормотал сонный Ахав, и быстро смахнул кончиками пальцев застоявшиеся грязные катышки из углов глаз, – ведите сюда негодяя этого, шумящего как свинья, которую режут. А потом я решу, что с ним делать и как его наказать.
В дверь втолкнули истощенного мужчину средних лет. Видом своим неизвестный напоминал жердь, на которую опирается пастух, или засохшую ветку теребинта, или старого исхудавшего пса, которому одна дорога, куча мусора за воротами, где даже кости такие сухие, что глодать их – себе дороже. Одет он был просто – измученное худое тело покрывал серый, вытертый плащ, а под ним накинута желтоватая распашная жилетка с кистями на концах, выдававшая в нем иудея. И, словно в подтверждение иудейского его происхождения, косо сидела на голове белая шапочка из грубого полотна, такая же старая как плащ, пожелтевшая от пота. Пришелец переминался босыми загорелыми ногами на каменном полу залы, и, несмотря на жару снаружи и весьма сомнительную прохладу внутри, его била крупная, все возрастающая дрожь. Каждая часть его тела дрожала по-своему. Мелко тряслись руки, ноги дергались, отбивая нагими желтыми пятками чечетку, помаргивали веки, изредка резко вздрагивал угол рта. Незнакомец пристально вглядывался в Ахава умными черными глазами, а Ахав непонимающе смотрел на его, еще не покинув окончательно уютное убежище сна. Это продолжалось недолго, как вдруг посетитель заговорил неожиданно сильным, звучным голосом, подняв указательный палец правой руки к небу, он говорил, и Ахав был не в силах прервать эту речь. Царь сидел, скованный ужасом, и внимал словам неизвестного, понимая, что перед ним пророк. Причем, пророк иудейский, страшный. Такие, бывает, взглядом убить могут, их лучше не злить:
«Ахав, Ахав», – причитал пророк, звенел его голос и эхом отдавался от толстых стен залы, – «зачем тебе… зачем грехи берешь на душу свою? Зачем идешь тропой Йеровоама, сына Невота, бунтаря, смеявшегося над Господом и оторвавшим вас от братьев ваших? И для чего поставил ты идолов, простираешься перед истуканами? Отчего не вспомнить тебе завет с Авраамом, и Ицхаком, и Яаковом, не вернуться к тропе Давидовой, не воссоединить царства наши? Отчего ты делаешь противное в очах Господа?»
Ахав усмехнулся было: «Пророк, я не понимаю тебя», – но на душе лежал страх, тяжелый, липкий, лежал словно мокрый войлок, сковывал, не давал дышать. Куда-то делась та хваленая легкость быстрых слов и фраз, которыми Ахав обыкновенно ошарашивал собеседника, морочил его, доводил до смеха, до плача, до восторга. А ведь речи царя порою звучали так, что старики забывали о своей старости, и молодые девушки бросались в его объятия, что цари соседних народов приносили ему дары богатые, а бедный люд – по кувшинчику масла, рассыпалась речь его подобно речным камушкам, журчала ручейком горным. Но вот – пришел неизвестный, худой, изможденный, пришел иудей, и глаза его, горящие непонятным черным пламенем запечатали царские уста.
«Ахав», – продолжал быстро и монотонно, срываясь на крик, причитать пророк, раскачиваясь, словно былинка на ветру, и полы его плаща раскачивались в такт ему, и развевались белые кисти по углам, – «ты презрел Господа! Ты ненавидишь само имя Его, ибо ты хочешь быть больше и сильнее Его! Ты – словно Паро Египетский, хочешь стать богом на земле – и словно Паро Египетский падешь ты, сраженный железом, и не станет тебя! Посмотри – засуха в Исраэле, черными стали лица людей, птицы падают с неба, обожжённые солнцем, ветер свирепый и жаркий гонит в поля саранчу, и скоро задрожат сильные города твоего, и станет их мало, и потускнеют глаза у глядящих в окна, и встанете вы по голосу птиц, и высоты страшны вам, и на дороге ужасы. И тогда усохнут оливы, и рассыплется в прах стена Шомрона, и придет день, в котором ужас, и гибель, и Малах а-Мавет пройдет с мечом огненным над гордыми зубцами стен дворца твоего! И как жив Господь, Бог Исраэйлев, пред Которым я стою, что не будет в эти годы ни росы, ни дождя; разве лишь по слову моему!»
Ахав не узнавал себя. Храбрый, безрассудно храбрый, охотившийся в одиночку против дикого кабана, прыгавший со скал в горные озера, выходивший один на несколько воинов, скакавший в колеснице, запряженной дикими конями, он, словно ушибленная змея, шипя, медленно уползал в угол, стремясь сжаться в комочек, ощутить себя маленьким, спрятаться на руках матери, ласковое прикосновение которых он помнил. Он отползал по гладкому каменному полу, покрытому коврами и упругими подушечками, отползал в самый дальний угол комнаты, пытался поднять руки, чтобы закрыть уши, но голос пророка становился все выше и выше, пока не перешел в победный вой, схвативши себя за края одежды, истощенный гость подпрыгнул в воздух и воскликнул еще раз: « Ни росы, ни дождя! Ни росы, ни дождя!», после чего скользнул в темный проем открывшейся двери и исчез.
***
«После того, как проклял Элиягу из Тишби14 Ахава, царя Израильского», – продолжал неутомимо писать Шевна, – «ему пришлось бежать от царского гнева. По слову Господа ушел пророк Элиягу к ручью Керит, что возле Ярдена, и жил в пещере, а вороны носили ему хлеб и мясо, и водой из Керита утолял он жажду, пока – по его собственному проклятию, которое наложил пророк на Ахава, не пересохли ручьи и Ярден не превратился в грязные лужицы глинистой жижи, для питья непригодной. И тогда Элиягу, продолжая скрываться от гнева Ахава, побрел в Финикию. Там выпадали еще дожди, и текла к Великому морю большая река Литани, за которой города финикийские, богатые товарами и торговым людом, привольно лежали на желтых песчаных берегах. Элиягу брел дорогами и звериными тропами ночью, потому что днем солнце палило его голову, и без воды он много не прошел бы. Днем он закапывался в землю как зверь, или прятался в пещерах, в душной тени которых можно было дождаться ночи. А когда на небо поднимался Ярех, месяц – желтый и круглый, светивший в полную силу, ибо настала середина месяца Буль, пророк поднимался с иссушенного своего ложа и начинал быстро и ровно переступать длинными жилистыми ногами. Так он шел семь ночей, пока не добрался до города в округе Цидонской, называемого Царефат».