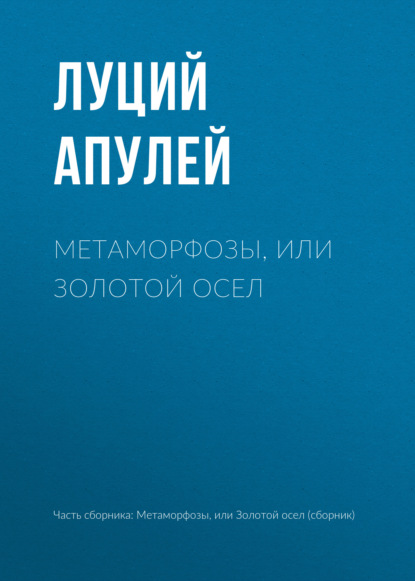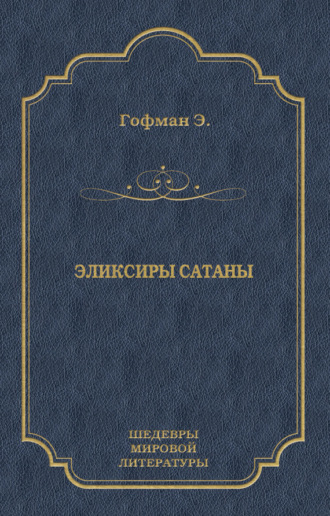
Полная версия
Эликсиры сатаны
Леонард меня полюбил и стал обучать итальянскому и французскому языкам, но для моего развития были особенно полезны книги, которые он постоянно давал мне, а также его беседы. Почти все свободное от семинарских занятий время я проводил в монастыре капуцинов, чувствуя, как во мне непреодолимо крепнет влечение к монашеской жизни. Я открыл приору свое желание; не пытаясь отговорить меня, он посоветовал мне года два подождать, а тем временем хорошенько присмотреться к жизни мирян. Но хотя я уже завел кое-какие знакомства – главным образом при посредстве епископского регента, преподававшего мне музыку, – в любом обществе, особенно в женском, мне было не по себе, и, кажется, именно это, наряду со склонностью к созерцанию, окончательно определило мое призвание к монашеству.
Однажды приор рассказал мне много примечательного о мирской жизни; он затрагивал самые деликатные темы, но говорил со свойственным ему изяществом и гибкостью выражений и, избегая всего непристойного, умел коснуться самой сути. Наконец он взял меня за руку, испытующе взглянул мне в глаза и спросил, сохранил ли я еще свою чистоту.
Я вспыхнул от щекотливого вопроса Леонарда, ибо предо мной во всей живости красок предстала уже совершенно забытая картина.
У регента была сестра, ее никто не назвал бы красавицей, но это была цветущая и чрезвычайно привлекательная девушка. Фигура ее отличалась безукоризненной соразмерностью; у нее были прекраснейшие руки и на редкость хорошо сформированный бюст ослепительной белизны.
Как-то раз, придя к регенту на урок, я застал его сестру в легком утреннем одеянии; грудь у нее была почти обнажена, и, хотя девушка мгновенно набросила на плечи платок, алчный взор мой успел уловить чересчур много; я онемел, неведомые доселе чувства бурно заклокотали во мне, разгоряченная кровь стремительно понеслась по жилам, я слышал биение своего пульса. Грудь у меня судорожно сдавило, казалось, она вот-вот разорвется, но наконец-то я с легким стоном смог перевести дыхание. Волнение мое только усилилось, когда девушка подошла ко мне, взяла меня за руку и простодушно спросила, что со мной. Счастье еще, что в комнату вошел регент и положил конец моим мукам.
В тот день я как никогда сбивался в пении, фальшивил в музыке. Но я отличался таким благочестием, что принял все происшедшее за дьявольское наваждение, и был счастлив, когда в скором времени постом и покаянием заставил отступить Врага. А теперь, после коварного вопроса приора, я как живую видел перед собой сестру регента с соблазнительно открытой грудью, чувствовал тепло ее дыхания, пожатие руки – и тревога моя с каждым мигом возрастала.
Леонард посмотрел на меня с какой-то насмешливой улыбкой, я весь затрепетал. Не в силах вынести его взгляда, я опустил глаза; тогда приор потрепал меня по разгоряченным щекам и сказал:
– Вижу, сын мой, что ты меня понял и с этим у тебя пока все благополучно, – Господь да хранит тебя от мирских соблазнов. Наслаждения, коими мир прельщает нас, весьма кратковременны, и, можно сказать, над ними тяготеет проклятие, ибо следствием их неизбежно бывает неописуемое отвращение к жизни, полный упадок сил, тупое равнодушие ко всему высокому: они заглушают лучшее в человеке – его благородное духовное начало.
Сколь я ни старался забыть вопрос приора и картину, что так живо встала перед моими глазами, это мне никак не удавалось; и если до тех пор я уже мог непринужденно вести себя в присутствии столь смутившей меня девушки, то теперь я снова робел, встречаясь с нею, и даже при одной мысли о ней меня охватывала какая-то внутренняя скованность и тревожная тоска, представлявшаяся мне тем опасней, что тотчас же мной овладевало удивительное, еще никогда не испытанное томление, пробуждавшее неясные и, как я угадывал, греховные желания. Однажды вечером этому нерешительному состоянию моего духа пришел конец.
Регент пригласил меня, как это бывало уже не раз, на домашний концерт, – он их устраивал вместе со своими друзьями. Кроме его сестры было еще несколько женщин, и это усиливало мое смущение, ведь ее одной было достаточно, чтобы у меня перехватило дыхание. Она была очень мило одета и никогда еще не казалась такой прелестной; какая-то неведомая сила непреодолимо влекла меня к ней, и я, сам того не замечая, держался к ней поближе и алчно ловил каждый ее взгляд, каждое слово; я тянулся к ней, стараясь будто мимоходом коснуться хотя бы ее платья, и это наполняло меня тайным, дотоле еще неизведанным восторгом. Казалось, она это заметила, и это не было ей неприятно; порой меня охватывало такое любовное исступление, что я готов был броситься к ней и пылко прижать ее к груди!
Долго сидела она возле клавикордов, а когда наконец отошла, я схватил со стула забытую ею перчатку и в безумном порыве прижал ее к устам!.. Это увидела другая девушка и, подойдя к ней, что-то шепнула ей на ухо; обе посмотрели на меня, захихикали, а потом язвительно расхохотались. Я был вконец уничтожен, ледяная дрожь потрясла меня с ног до головы, и я без памяти кинулся прочь, в мою семинарскую келейку. Там, в диком отчаянии, бросился я на пол… жгучие слезы лились у меня из глаз… я проклинал и эту девушку… и самого себя… и то молился, то хохотал как безумный! Мне чудились вокруг насмешливые, глумливые голоса; я выбросился бы из окна, да, к счастью, на нем была железная решетка, мое душевное состояние было ужасно. Только под утро я немного успокоился; но я бесповоротно решил никогда не искать встречи с нею и вообще отречься от мира. Громче прежнего заговорило во мне призвание к уединенной монастырской жизни, и никакой соблазн уже не мог отвлечь меня от этого пути.
После обычных семинарских занятий я поспешил в монастырь капуцинов и высказал приору свою решимость начать послушничество, прибавив, что уже известил об этом и мать и княгиню. Казалось, мое неожиданное рвение удивило Леонарда; не проявляя навязчивости, он на все лады пытался выведать у меня, почему я настаиваю на немедленном посвящении, ибо он отлично понимал, что какое-то из ряда вон выходящее событие толкнуло меня на этот шаг. Непреодолимый стыд не позволил мне открыть ему всю правду; напротив, я рассказал ему, пылая огнем экзальтации, о чудесных событиях моего детства, столь явно предопределивших мое призвание к монашеской жизни. Леонард спокойно выслушал меня и, не подвергая сомнению мои видения, кажется, довольно равнодушно принял их; более того, он прямо сказал, что все это слишком мало говорит о подлинности моего призвания, что тут возможен самообман.
Вообще Леонард неохотно говорил о видениях святых и даже о чудесах первых провозвестников христианства, и я, поддаваясь искушению, временами подозревал его в тайных сомнениях. Чтобы вызвать его на откровенность, я как-то дерзнул заговорить о хулителях католической религии; особенно порицал я тех, кто с ребяческим задором клеймит веру в сверхчувственное нечестивым словом «суеверие». Леонард ответил на это с кроткой улыбкой: «Сын мой, неверие – это худшее из суеверий» – и перевел разговор на другие, маловажные темы. Лишь значительно позднее приобщился я к его вдохновенным мыслям о сокровенной стороне нашей религии, например о таинственной связи свойственного человеку духовного начала с Высшим существом, и пришел к убеждению, что Леонард правильно поступал, приберегая самые заветные, излившиеся из глубины верующей души высказывания лишь для своих удостоившихся как бы высшего посвящения учеников.
Мать написала мне о своем давнишнем предчувствии, что меня не удовлетворит положение духовного лица в миру и я предпочту жизнь в монастыре. В день святого Медарда[13] она явственно видела старого Пилигрима, являвшегося нам в монастыре Святой Липы: он вел меня за руку, а я был в облачении ордена капуцинов. Княгиня тоже одобрила мое намерение. Я повидался с обеими перед моим постригом; он состоялся в непродолжительном времени, ибо мне сократили наполовину срок послушничества, идя навстречу моему задушевному желанию. Видение матери побудило меня принять монашеское имя Медарда.
Взаимоотношения монахов, распорядок молитв и служб, весь образ жизни в монастыре были такими же, какими они показались мне с первого взгляда. Царивший здесь благодатный мир принес и моей душе тот неземной покой, который витал вокруг меня в годы моего раннего, овеянного блаженными грезами детства в обители Святой Липы. Во время торжественного обряда облачения увидел я среди зрителей сестру регента; она казалась опечаленной, мне почудились слезы у нее на глазах. Но пора искушения миновала, и, быть может, греховная гордость так легко одержанной победой вызвала у меня улыбку, которую приметил шествовавший рядом со мною брат Кирилл.
– Чему ты так радуешься, брат мой? – спросил Кирилл.
– Как же мне не радоваться, – ответил я, – когда я отрекаюсь от этого жалкого мира, от суеты сует?
Не скрою, что едва я произнес эти слова, как был наказан за свою ложь: я вздрогнул от пронизавшего меня зловещего предчувствия.
Но то был последний приступ земного себялюбия, а затем наступил некий благостный покой духа. О, если бы он никогда не покидал меня! Но велико могущество Врага!.. Кто может полагаться на свою твердость, на бдительность свою, если нас повсюду подстерегают силы преисподней?
Я прожил в монастыре пять лет, когда по приказанию приора уже старый и немощный брат Кирилл, который у нас был смотрителем богатого собрания реликвий, передал мне наблюдение за ними. Были там кости святых, частицы креста Господня и другие святыни – они хранились в опрятного вида застекленных шкафах и по праздникам выставлялись в назидание народу. Брат Кирилл знакомил меня с каждым предметом, а также с бумагами, подтверждавшими его подлинность и содеянные им чудеса. По своему духовному развитию он стоял ближе всех к нашему приору, и я не колеблясь поделился с ним обуревавшими меня сомнениями.
– Неужели, дорогой мой брат Кирилл, – сказал я, – все, что перед нами, – это подлинные святыни? Быть может, алчные и бесчестные люди обманули нас, выдавая это за священные реликвии? Существует же монастырь, обладающий честным животворящим крестом Спасителя нашего, а повсюду показывают такое количество кусков древа Господня, что кто-то из наших братьев, конечно, кощунственно насмехаясь, утверждал, будто ими можно было бы весь год отапливать нашу обитель.
– Разумеется, – возразил брат Кирилл, – не подобает нам подвергать сомнению эти святыни, но, откровенно говоря, и я полагаю, что, невзирая на свидетельства, лишь немногие из них представляют собой именно то, за что их выдают. Только, думается мне, дело совсем в другом. Постарайся уразуметь, как мы с приором смотрим на это, и ты, милый брат Медард, узришь религию нашу во всем ее блеске. Разве не прекрасно, милый брат Медард, что святая церковь наша стремится уловить таинственные нити, связующие чувственный и сверхчувственный миры? Она пробуждает в человеке, в котором все приноровлено к земному бытию, мысль о его происхождении от высшего духовного начала, о его глубоком внутреннем родстве с тем пречудным существом, чья сила, подобно пламенному дыханию, проникает всю природу и, будто крыльями серафимов, овевает нас предчувствием высшей жизни, зерно которой она в нас заронила. Что такое эта частица древа Господня… косточка… этот лоскуток? Говорят, вот это – от честного креста, а тот – от останков святого, от его одежды. Но кто верует от всего сердца, не мудрствуя лукаво, тот преисполняется неземного восторга и ему отверзаются врата в горнее царство блаженства, которое здесь, в мире дольнем, он мог лишь прозревать; так, при воздействии даже мнимых реликвий в человеке возгорается духовная сила того или другого святого, и верующий почерпает крепость и мощь от Высшего существа, к которому он всем сердцем воззвал о помощи и утешении. Эта воспрянувшая в нем высшая духовная сила превозмогает даже тяжкие телесные недуги, вот почему эти реликвии творят чудеса, чего никак нельзя отрицать, ибо нередко они совершаются на глазах у целой толпы народа.
Мгновенно мне пришли на память некоторые намеки приора, подтверждавшие слова брата Кирилла, и я уже с чувством искреннего благоговения рассматривал реликвии, с которыми прежде в моем представлении было связано столько недостойных проделок. От брата Кирилла не ускользнуло впечатление, произведенное его речами, и он продолжал с еще большим рвением проникновенно рассказывать о каждой из доверенных ему святынь. Наконец он вынул из надежно запиравшегося шкафа ларец и сказал:
– Здесь, дорогой мой брат Медард, содержится самая удивительная и самая таинственная из всех достопримечательностей нашего монастыря. За все время моего пребывания в обители только я да приор держали в руках этот ларец; о его существовании не подозревают ни братья, ни посторонние лица. Всякий раз я прикасаюсь к нему с душевным трепетом, словно в нем заключены злые чары, скованные и лишенные силы могучим заклятием, – но если они обретут свободу, то навлекут погибель и вечное осуждение на человека, коего они настигнут!.. Знай же, что содержимое этой шкатулки принадлежало самому Врагу-искусителю в те времена, когда он еще мог в зримом образе противоборствовать спасению человеческих душ.
В крайнем изумлении смотрел я на брата Кирилла, а он, не давая мне времени вставить хоть слово, продолжал:
– Я ни за что не стану, милый брат мой Медард, высказывать свое мнение о столь высокомистическом предмете… и не буду излагать домыслы, какие порой приходят мне в голову… а лучше всего как можно точнее передам тебе все, что говорится в бумагах об этой достопримечательности. Они хранятся в этом шкафу, и ты впоследствии прочтешь их сам.
Тебе достаточно хорошо известно житие святого Антония[14], и ты знаешь, как он, дабы отвратиться от всего земного и устремиться всею душою к божественному, удалился в пустыню и там проводил жизнь свою в строжайшем посте и покаянных молитвах. Но Враг преследовал его и не раз появлялся перед ним в зримом облике, чтобы смутить его среди благочестивых размышлений. И вот однажды святой Антоний заметил в вечерних сумерках какое-то мрачное существо, направлявшееся к нему. И как же удивился он, когда, взглянув на путника, увидел, что сквозь дыры его изношенного плаща лукаво выглядывают горлышки бутылок. Оказалось, что перед ним в этом причудливом наряде предстал сам Враг и, глумливо усмехаясь, спросил, не пожелает ли он отведать эликсиров, хранящихся в этих бутылках. Это предложение отнюдь не рассердило святого Антония, ибо Враг давно утратил над ним всякую власть и силу и ограничивался лишь насмешливыми речами, даже не пытаясь вступать с ним в борьбу; пустынник только спросил его, почему он таскает с собой столько бутылок, да еще таким странным способом. И Нечистый ответил так: «Видишь ли, стоит кому-либо повстречаться со мной, как он посмотрит на меня с изумлением и уж конечно не преминет спросить, что это у меня там за напитки, а потом из алчности начнет поочередно пробовать их. Среди стольких эликсиров непременно найдется такой, что окажется ему по вкусу, и глядишь – он уже вылакал всю бутылку и, опьянев, отдается во власть мне и всей преисподней».
Так об этом повествуется во всех легендах. Но в хранящейся у нас бумаге об этом видении святого Антония добавлено, что Нечистый, уходя, оставил в траве несколько бутылок, а святой Антоний поспешно подобрал их и припрятал в своей пещере, опасаясь, что заблудившийся в пустыне путник или, чего доброго, кто-нибудь из ею учеников хлебнет пагубного напитка и тем обречет себя на вечную погибель. Даже сам святой Антоний, как говорится далее в бумаге, однажды нечаянно раскупорил одну из бутылок, и оттуда ударили такие одуряющие пары и такие чудовищные видения ада разом обступили святого, такие зареяли вокруг него соблазнительные призраки, что только молитвами и суровым постом он мало-помалу их отогнал. В ларце как раз и хранится попавшая к нам из наследия святого Антония бутылка с эликсиром сатаны; относящиеся к ней бумаги отличаются строго обоснованной, бесспорной подлинностью, и во всяком случае едва ли приходится сомневаться в том, что бутылка эта после кончины святого Антония была действительно найдена среди его вещей. Впрочем, – я и сам могу тебя в том заверить, дорогой брат Медард, – стоит мне прикоснуться к этой бутылке или даже к ларцу, в котором она хранится, как меня охватывает неизъяснимая жуть; мне чудится странный запах, он одурманивает меня и вызывает такое смятение, что оно не рассеивается даже при совершении душеспасительных послушаний. Но с помощью неотступных молитв я превозмогаю греховное состояние духа, какое, очевидно, вызывают некие враждебные человеку силы, хотя я и не верю в то, что здесь непосредственно действует сам дьявол.
Ты еще очень молод, дорогой брат Медард, и твое воображение может под враждебным влиянием разгореться слишком живо и ярко; да, ты мужественный и бодрый духом, но неопытный и, быть может, даже слишком отважный и самонадеянный воин, готовый всечасно ринуться в бой; вот почему советую тебе никогда не открывать этот ларчик, разве что спустя годы и годы; а чтобы любопытство не одолевало тебя, убери ты его подальше.
Брат Кирилл водворил загадочную шкатулку на прежнее место и передал мне связку ключей, в которой был и ключ от шкафа, где она хранилась. Странное впечатление произвел на меня его рассказ, но, чем сильнее донимал меня соблазн взглянуть на редкостную достопримечательность, тем тверже старался я не поддаваться ему, памятуя предостережения брата Кирилла. Когда Кирилл ушел, я еще раз окинул взглядом доверенные мне реликвии, нашел в связке ключик от рокового шкафа и запрятал его подальше, под бумаги в моей конторке…
Один из профессоров семинарии был превосходный оратор, и всякий раз, когда он проповедовал, церковь была переполнена; всех неудержимо увлекал поток его огненного красноречия, зажигавший в сердцах пламень искренней веры. Его исполненные красоты вдохновенные поучения глубоко западали и мне в душу; я считал счастливцем столь даровитого оратора, и вот я смутно почувствовал, что во мне все более и более крепнет стремление уподобиться ему. Наслушавшись его, я и сам, бывало, пробовал силы в своей одинокой келейке, целиком отдаваясь вдохновению, и мне удавалось порой удерживать в памяти свои мысли и слова, а затем набрасывать их на бумагу.
Тем временем проповедовавший у нас в монастыре брат заметно дряхлел, речь его текла вяло и беззвучно, как иссякающий ручей, а чувства и мысли у него так оскудели, что проповеди, которые он произносил без подготовленного заранее наброска, становились нестерпимо длинными, и задолго до их конца почти все прихожане тихонько засыпали, словно под мерное постукивание мельничных жерновов, и лишь могучие звуки органа под конец пробуждали их. Приор Леонард, хотя и был прекрасным оратором, однако в свои преклонные годы он не решался читать проповеди из боязни чрезмерного волнения, так что заменить дряхлеющего брата было решительно некем. Леонард иногда заговаривал со мной об этом прискорбном положении, из-за которого у нас в церкви становилось все меньше прихожан. Собравшись с духом, я однажды сказал ему, что еще в семинарии почувствовал склонность к проповедованию слова Божия и даже написал несколько духовных бесед. Он потребовал их у меня на просмотр и остался так ими доволен, что настойчиво советовал мне в виде опыта выступить с проповедью в ближайший же праздник; он нисколько не опасался неудачи, ибо природа одарила меня всем необходимым для хорошего проповедника, а именно: располагающей внешностью, выразительным лицом и, наконец, сильным и звучным голосом. Что же касается умения держаться на кафедре и подобающих жестов, то этому взялся меня обучить он сам. Наконец подошел праздник, церковь наполнилась прихожанами, и я не без трепета поднялся на кафедру.
Вначале я придерживался написанного, и Леонард рассказывал мне потом, что я говорил с дрожью в голосе, но это вполне соответствовало тем благоговейным и скорбным размышлениям, какими начиналось мое слово, и было воспринято большинством как чрезвычайно действенный прием ораторского искусства проповедника. Но вскоре словно искра неземного восторга вспыхнула у меня в душе, я и думать позабыл о своем наброске, всецело отдавшись внезапному наитию. Кровь пылала и клокотала у меня в жилах, я слышал громовые раскаты моего голоса под самым куполом храма, и мне чудилось, что огонь вдохновения озаряет чело мое и широко распростертые руки.
Все, что возвестил я собравшимся святого и величественного, я словно в пламенном фокусе собрал воедино в самом конце этой проповеди, и она произвела небывалое, ни с чем не сравнимое впечатление. Рыдания… возгласы благоговейного восторга, непроизвольно срывавшиеся с уст… громкие молитвы сопровождали мои слова. Братья выразили мне свое величайшее восхищение, Леонард обнял меня и назвал светочем монастыря.
Слава обо мне быстро разнеслась; чтобы послушать брата Медарда, наиболее видные и образованные горожане за целый час до благовеста уже толпились в не очень-то просторной монастырской церкви. Всеобщее восхищение побуждало меня отделывать мои проповеди, так чтобы они отличались не только жаром, но изящной округленностью фраз и искусством построения. Я все более увлекал своих слушателей, и уважение их ко мне, столь разительно проявляемое повсюду и возраставшее день ото дня, стало уже граничить с почитанием святого. Какой-то неудержимый религиозный экстаз охватил весь город[15], под любым предлогом не только по праздникам, но и в будни все устремлялись в монастырь, дабы увидеть брата Медарда и поговорить с ним.
И вот постепенно стала созревать у меня мысль, что я – отмеченный особой печатью избранник Божий: таинственные обстоятельства моего рождения в святой обители ради искупления греха моего преступного отца, чудесные события моего раннего детства – все указывало на то, что дух мой, находясь в непосредственном общении с небесами, еще в этой юдоли возносится над всем земным и я не принадлежу ни миру, ни людям, ради спасения и утешения коих совершаю свое земное поприще. Теперь я был уверен, что старый Пилигрим, который нам являлся в Святой Липе, это – святой Иосиф, а необыкновенный мальчик – сам младенец Иисус, приветствовавший во мне святого[16], коему свыше предначертано скитаться по земле. Но чем глубже укоренялись у меня в душе эти представления, тем тягостней, тем обременительней становилась для меня среда, в которой я жил. Не осталось и следа прежнего покоя и безоблачной ясности духа, а добросердечные слова братьев и приветливость приора возбуждали во мне лишь неприязнь и гнев. Им следовало бы признать во мне святого, высоко вознесенного над ними, повергнуться ниц предо мной и умолять о предстоянии за них перед Богом. А раз этого не было, то я в душе обвинил их в греховной закоснелости. Даже в свои назидательные речи вплетал я порою намеки на то, что, подобно лучисто-алой заре на востоке, уже забрезжили над землей исполненные чудес времена и некий избранник Божий грядет во имя Господне, неся верующим надежду и спасение. Свой воображаемый удел я облекал в мистические образы, которые тем сильнее воздействовали на толпу своим причудливым очарованием, чем менее она их понимала. Леонард становился ко мне заметно холоднее, он уклонялся от разговоров со мной без свидетелей, но однажды, когда мы с ним случайно оказались с глазу на глаз в аллее монастырского сада, он не выдержал:
– Не скрою, дорогой брат Медард, что с некоторых пор все твое поведение внушает мне тревогу. В душу твою проникло нечто такое, что отвращает тебя от жизни, исполненной благочестия и простоты. В речах твоих царит некий зловещий мрак, из коего пока еще робко проступает угроза полного отчуждения между нами… Позволь, я выскажусь откровенно!.. На тебе сейчас особенно заметны последствия первородного греха; ведь с каждым порывом наших духовных сил ввысь пред нами разверзается пропасть, куда при безрассудном полете нас так легко низвергнуть!.. Тебя ослепило одобрение, нет – граничащий с идолопоклонством восторг легкомысленной, падкой на любые соблазны толпы, ты видишь самого себя в образе, вовсе тебе не свойственном, и этот мираж воображения завлекает тебя в бездну погибели. Загляни поглубже в свою душу, Медард!.. Отрекись от обольщения, помрачающего твой рассудок… Сдается мне, я угадываю, каково оно!.. Ты уже утратил тот душевный покой, без коего нет на земле спасения… Берегись, лукавый опутал тебя сетями, постарайся же выскользнуть из них!.. И стань снова тем чистосердечным юношей, которого я всею душою любил.
Тут слезы навернулись на глазах у приора; он схватил мою руку, однако тотчас отпустил ее и быстро ушел, не дожидаясь ответа.
Но я неприязненно отнесся к его словам: он упомянул о похвалах, о безграничном восхищении, а ведь я их заслужил своими необыкновенными дарованиями, и ясно стало мне, что его досада была плодом низменной зависти, которую он и высказал столь открыто! Молчаливый и замкнутый, снедаемый затаенным озлоблением, сидел я теперь на собраниях общины монахов; целые дни и бессонные ночи напролет я обдумывал, поглощенный новизною того, что открылось мне, в какие пышные слова облеку созревшие у меня в душе назидания и как поведаю их народу. И чем более отдалялся я от Леонарда и братии, тем искуснее притягивал к себе толпу.