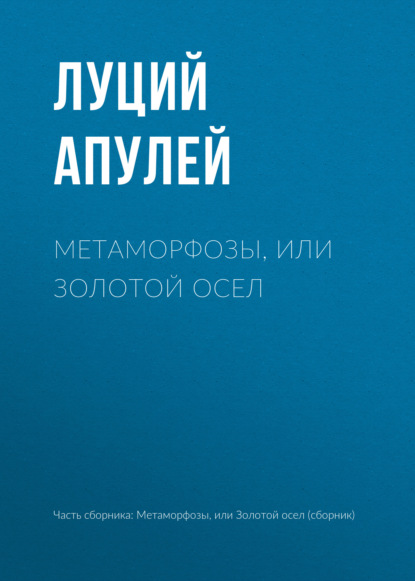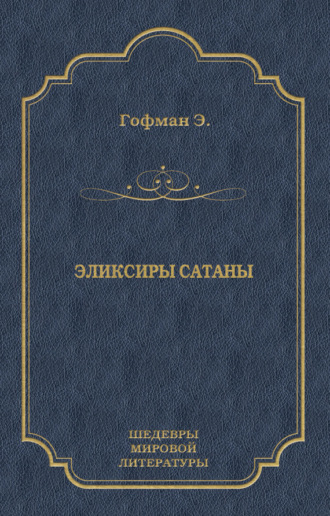
Полная версия
Эликсиры сатаны

Эрнст Гофман
Эликсиры сатаны
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010
* * *Посмертные записки брата медарда, капуцина, изданные сочинителем «фантастических повестей в манере Калло»[1]
[2]
Предисловие издателя
Охотно повел бы я тебя, благосклонный читатель, под сумрачную сень платанов, где я впервые прочитал диковинное повествование брата Медарда. Ты сел бы рядом со мною на каменную скамью, еле заметную за благоухающим кустарником и ярко пламенеющими цветами; с томлением неизъяснимым смотрели бы мы с тобой на синие причудливые громады гор, встающие над солнечной равниной, что расстилается за пределами парка. Оглянувшись назад, ты увидел бы шагах в двадцати от нас готическое здание с порталом, щедро украшенным статуями.
С горящих яркими красками фресок на обширной стене смотрели бы на тебя, сквозь сумрачную листву платанов, ясные, полные жизни очи святых.
Алое, как жар, солнце садится на гребне гор, повеяло вечерним ветерком, всюду жизнь и движение. Шепот и ропот каких-то дивных голосов слышатся в деревьях и кустах, все яснее, яснее; словно невидимый хор и раскаты органа нам почудились где-то вдали. Молча, в ниспадающих широкими складками одеяниях шествуют по аллее сада величавые мужи с обращенными к небу благоговейными взорами. Уж не святые ли ожили там, наверху, и спустились с карнизов храма?
Ты весь преисполнился таинственного трепета, навеянного чудесами житий и легенд, здесь воплощенными; тебе уже мерещится, что все это и впрямь совершается у тебя на глазах, – и ты всему готов верить. В таком-то настроении ты стал бы читать повествование Медарда, и странные видения этого монаха ты едва ли счел бы тогда одной лишь бессвязной игрой разгоряченного воображения…
Но раз уж ты, благосклонный читатель, увидел лики святых, обитель и монахов, то нечего объяснять, что я привел тебя в великолепный парк монастыря капуцинов близ города Б[3].
Мне привелось однажды пробыть несколько дней в этом монастыре; почтенный приор показал мне оставшиеся после брата Медарда и хранившиеся в архиве как некая достопримечательность Записки, и лишь с трудом уговорил я колебавшегося приора позволить мне ознакомиться с ними. Старец полагал, что по-настоящему эти Записки следовало бы сжечь.
Не без тревоги, что и ты, благосклонный читатель, примешь сторону приора, я вручаю тебе эту книгу, составленную по Запискам. Но если ты отважишься последовать за Медардом как его верный спутник по мрачным монастырским переходам и кельям, а затем по пестрому-пестрому миру и вместе с ним испытаешь все, что перенес он в жизни страшного, наводящего ужас, безумного и смехотворного, то, быть может, тебя развлечет многообразие картин, которые откроются перед тобой словно в камере-обскуре[4].
Может статься, что с виду бесформенное примет, едва ты пристально вглядишься, ясный и завершенный вид. Ты постигнешь, как из незримого семени, брошенного в землю сумрачным роком, вырастает пышное растение и, пуская множество побегов, раскидывается вширь и ввысь, – доколе распустившийся на нем единственный цветок не превратится в плод, который высосет все живые соки растения и погубит его, равно как и семя, из коего оно развилось…
Прочитав с великим тщанием Записки капуцина Медарда – а это было нелегко, ибо блаженной памяти брат писал мелким неразборчивым монашеским почерком, – я пришел к мысли, что наши, как мы их обычно именуем, грезы и фантазии являются, быть может, лишь символическим откровением сущности таинственных нитей, которые тянутся через всю нашу жизнь и связывают воедино все ее проявления; я подумал, что обречен на гибель тот, кто вообразит, будто познание это дает ему право насильственно разорвать тайные нити и схватиться с сумрачной силой, властвующей над нами.
Быть может, и у тебя, благосклонный читатель, возникнет такая же мысль, – горячо желаю тебе этого по причине весьма значительной.
Часть первая
Глава первая
Годы детства и жизнь в монастыре
Мать никогда не говорила мне о том, какое место в жизни занимал мой отец; но стоит мне только вспомнить ее рассказы о нем в годы моего раннего детства, как я убеждаюсь, что это был умудренный опытом муж, человек глубоких познаний. Именно из рассказов и недомолвок матери о ее прошлом, которые стали понятны мне лишь гораздо позднее, я знаю, что родители мои, обладая большим состоянием и пользуясь всеми благами жизни, впали вдруг в тягчайшую, гнетущую нужду и что отец мой, которого сатана толкнул некогда на тяжкое преступление, совершил смертный грех, но милостию Божией прозрел в позднейшие годы и пожелал его искупить паломничеством в монастырь Святой Липы[5], что в далекой студеной Пруссии.
Во время этого тягостного странствия мать моя впервые после долгих лет замужества почувствовала, что оно не пребудет бесплодным, как того опасался отец; и невзирая на свою нищету, возрадовался он всем сердцем, ибо исполнялось данное ему в видении обетование святого Бернарда[6], что рождение сына станет залогом мира душе его и отпущения грехов. В монастыре Святой Липы отец мой занемог, и, чем ревностнее он, превозмогая слабость, исполнял тягостный чин покаяния, тем сильней овладевал им недуг; он умер, получив отпущение грехов и полагая свое упование в Боге, в ту самую минуту, как я появился на свет.
С той поры, как я себя помню, теплятся в душе моей отрадные картины жизни в обители Святой Липы с ее величавым храмом. Вокруг меня еще шумит сумрачный лес; еще благоухают вокруг пышно разросшиеся травы и пестрые цветы, служившие мне колыбелью. Ни ядовитой твари, ни вредного насекомого не водилось в окрестностях обители; жужжание мухи, стрекотание кузнечика не нарушало ее благодатной тишины; слышались только благочестивые песнопения священнослужителей, что выступали во главе длинных верениц пилигримов, мерно размахивая золотыми кадильницами, из коих возносилось к небу благоухание жертвенного ладана. И у меня все еще перед глазами посреди церкви окованный серебром ствол липы, на которую ангелы некогда возложили чудотворный образ Пресвятой Девы. И все еще улыбаются мне со стен и взлетающего ввысь купола лики ангелов и святых в цветных облачениях!
Рассказы матери о благолепном монастыре, где по милости Божией она обрела утешение в глубокой скорби, так запали мне в душу, что, казалось, будто я сам все это видел, сам все пережил; однако столь ранние воспоминания едва ли возможны – ведь мне было всего лишь полтора года, когда мать покинула со мной святую обитель.
Но мнится мне порой, будто я своими глазами видел в безлюдном храме суровую фигуру дивного мужа; это был именно тот иноземный Художник, который в стародавние времена, когда церковь еще только строилась, появился здесь, где никто не знал его языка; в короткое время он искусной рукой прекрасно и величаво расписал всю церковь и, закончив свой труд, исчез бог весть куда.
Помню еще старого Пилигрима с длинной седой бородой, одетого по-чужеземному; нередко он носил меня на руках, собирал в окрестном лесу разноцветные мхи и камешки и забавлял меня; но я уверен, что образ его лишь по описаниям матери так живо запечатлелся у меня в душе. Однажды он привел к нам неведомого мальчика дивной красоты, одного возраста со мной. Мы сидели с ним вместе на траве, лаская и целуя друг друга; я подарил ему все мои разноцветные камешки, и он умело складывал из них всевозможные фигуры, но в конце концов неизменно получался крест. Неподалеку, на каменной скамье, сидела моя мать, а старик, стоя за ее спиной, следил со сдержанной нежностью за нашими детскими играми. Вдруг из-за кустов появились какие-то молодые люди; судя по их одежде и по всем их повадкам, они из одного лишь праздного любопытства пришли в обитель Святой Липы.
При виде нас один из них воскликнул со смехом:
– Поглядите-ка, настоящее Святое семейство[7]. Да это находка для моего альбома!
И действительно, он вынул бумагу и карандаш и начал было что-то набрасывать, но старый Пилигрим поднял голову и гневно воскликнул:
– Жалкий насмешник, ты хочешь стать художником, хотя в душе у тебя ни разу не загорался пламень веры и любви; но мертвенны, безжизненны, подобно тебе самому, будут твои произведения; одинокий, отверженный всеми, ты впадешь в отчаяние и погибнешь, сознавая свое ничтожество и пустоту.
Ошеломленные молодые люди кинулись от нас прочь.
А старый Пилигрим сказал моей матери:
– Нынче я привел сюда это дивное дитя, чтобы оно заронило искру любви в душу твоего сына, но сейчас я должен увести его обратно, и ты никогда больше не увидишь ни его, ни меня. Сын твой щедро одарен свыше, но грех отца кипит и бурлит у него в крови; и все же он может возвыситься и стать доблестным борцом за веру. Посвяти его Богу!
Рассказывая об этом, мать моя не могла выразить, сколь глубокое, неизгладимое впечатление оставили у нее в душе слова Пилигрима; и все же она решила не оказывать на меня ни малейшего воздействия, а спокойно ждать исполнения всего, предначертанного мне неотвратимой судьбой; да она и не мечтала о том, чтобы дать мне образование более высокое, чем то, какое я мог получить с ее помощью дома.
Мои подлинные и уже более отчетливые воспоминания начинаются с того дня, когда мать посетила на обратном пути домой монастырь бернардинок[8], где ее приветливо приняла знавшая моего отца княгиня-аббатиса.
Но промежуток времени от встречи с Пилигримом (которого я все же смутно помню – мать потом лишь дополнила мои впечатления, передавая мне его слова и слова Художника) и до того часа, когда мы с матерью впервые пришли к аббатисе, полностью выпал из моей памяти.
Я обретаю себя вновь в тот день, когда мать, как уж сумела, починила и привела в порядок мое платье. Она накупила в городе новых лент, подровняла мои буйно отросшие волосы и, старательно принарядив, внушила мне, чтобы я вел себя у госпожи аббатисы скромно и благонравно. И вот наконец, ведя меня за руку, она поднялась со мной по широкой мраморной лестнице, и мы вошли в украшенный картинами священного содержания высокий сводчатый зал, где нас ждала княгиня. Это была высокого роста величавая женщина в монашеском одеянии; оно придавало ей особенное достоинство, и на нее невольно взирали с благоговением. Она устремила на меня строгий, до глубины души проникающий взгляд и спросила у матери:
– Это ваш сын?..
И голос, и облик ее, и необычная обстановка – высокий зал, картины – все это так подействовало на меня, что я горько заплакал, затрепетав от какого-то безотчетного страха. Тогда княгиня, глядя на меня все ласковее и добрее, спросила:
– Что с тобою, малютка, уж не боишься ли ты меня?.. Как зовут вашего сына, милая?
– Франц, – ответила мать.
– Франциск! – воскликнула княгиня с глубокой скорбью, потом подняла меня и горячо прижала к себе; тут я почувствовал, как что-то больно кольнуло мне шею, и пронзительно вскрикнул. Испуганная княгиня поспешно отпустила меня, а пораженная мать кинулась ко мне и хотела тотчас же меня увести. Но княгиня удержала нас; оказывается, алмазный крест у нее на груди так глубоко врезался мне в шею, когда княгиня порывисто меня обняла, что пораненное место покраснело и из него стала сочиться кровь.
– Бедняжка Франц, – сказала аббатиса, – я сделала тебе больно, но все же мы будем добрыми друзьями.
Одна из сестер принесла печенья и десертного вина; я осмелел и, не заставляя себя долго просить, начал усердно лакомиться сластями; усевшись и взяв меня на колени, княгиня с нежностью клала их мне в рот. А когда я впервые в жизни пригубил сладкого напитка, то ко мне возвратились и хорошее настроение, и та особенная живость, которою, как говорила мать, я отличался с самого раннего детства. К величайшему удовольствию аббатисы и сестры, оставшейся с нами в зале, я без умолку смеялся и болтал.
Мне до сих пор непонятно, отчего моя мать вдруг попросила меня рассказать княгине, сколь много прекрасного и замечательного увидели мы и услышали там, где я родился; тут я, словно по наитию свыше, стал живо описывать чудные картины неведомого иноземного Художника, как будто уже тогда постиг их глубочайший смысл. Я вдавался в такие подробности преславных житий святых, точно уже вполне освоился со всей церковной письменностью. Не только княгиня, но даже и мать смотрела на меня с изумлением; я же, чем дольше говорил, тем более воодушевлялся, и, когда, наконец, княгиня спросила меня: «Милое дитя, скажи, откуда ты все это узнал?» – я, ни на мгновение не задумываясь, ответил, что дивно прекрасный мальчик, которого однажды привел к нам неведомый Пилигрим, не только объяснил мне значение всех икон, какие были в церкви, но даже сам выложил из цветных камешков несколько фигур; он рассказал мне и много других преданий.
Заблаговестили к вечерне, сестра собрала печенье и отдала сверток мне. Я с удовольствием взял его. Аббатиса поднялась и сказала моей матери:
– Отныне, моя милая, я считаю вашего сына своим воспитанником и буду заботиться о нем.
От скорбного волнения мать не могла вымолвить ни слова и, вся в слезах, стала целовать княгине руки.
Мы были уже у порога, когда княгиня догнала нас; она снова взяла меня на руки и, заботливо отодвинув крест, прижала к себе, горько плача, – горячие капли оросили мне лоб.
– Франциск!.. – воскликнула она. – Будь же всегда добр и благочестив!..
Я был глубоко взволнован и тоже заплакал, сам не зная почему.
Благодаря поддержке аббатисы скромное хозяйство моей матери, поселившейся на маленькой мызе неподалеку от монастыря, заметно поправилось. Нужде пришел конец, мать прилично одевала меня, и я учился у священника, которому стал прислуживать в монастырской церкви.
Словно благостные грезы, встают в душе моей воспоминания о той счастливой отроческой поре!.. Ах, отдаленной обетованной землей, где царят радость и ничем не омрачаемое веселье, представляется мне моя далекая-далекая родина; но стоит мне оглянуться назад, как я вижу зияющую пропасть, навеки отделившую меня от нее. Объятый жгучим томлением, я стремлюсь туда все сильней и сильней, вглядываюсь в лица близких, которые смутно различаю словно в алом мерцании утренней зари, и, сдается мне, слышу их милые голоса. Ах, разве есть на свете такая пропасть, через которую нас не перенесли бы могучие крылья любви? Что для любви пространство, время!.. Разве не обитает она в мыслях? А разве мыслям есть предел? Но из разверстой бездны встают мрачной вереницей привидения и, обступая меня плотней и плотней, смыкаясь тесней и тесней, заслоняют весь кругозор, и настоящее гнетет меня и сковывает дух мой, а непостижимое уму томление, наполнявшее душу мою несказанно сладостной скорбью, сменяется мертвящей, неисцелимой мукой!
Священник был сама доброта; ему удалось обуздать мой слишком подвижный ум и так подойти ко мне, что учение стало для меня радостью и я делал быстрые успехи.
Никого я так не любил на свете, как свою мать, но княгиню я почитал за святую, и праздником был для меня день, когда я видел ее. Всякий раз я собирался блеснуть перед нею вновь приобретенными познаниями; но, бывало, едва она войдет и ласково заговорит со мной, как я слов не нахожу и, кажется, все бы смотрел на нее одну, все только бы ее одну слушал. Каждое слово ее глубоко западало мне в душу, и весь день после встречи с нею я испытывал приподнятое, праздничное настроение, и образ ее сопровождал меня на моих прогулках. Я трепетал от невыразимого волнения, когда, плавно размахивая кадильницей у главного алтаря, потрясенный звуками органа, громовым потоком хлынувшими с хоров, узнавал в торжественном песнопении ее голос, который настигал меня подобно сияющему лучу и наполнял душу мою предчувствием чего-то высокого и светлого.
Но прекраснейшим днем, которого я всею душою ожидал целыми неделями, днем, о котором я не могу думать без восторженного замирания сердца, был день святого Бернарда[9]; он был покровителем монастыря, и праздник его торжественно ознаменовывался у нас всеобщим отпущением грехов. Уже накануне из соседнего города и всех окрестных сел и деревень сюда стекались потоки людей, располагавшихся на большом цветущем лугу возле самого монастыря; день и ночь не умолкал там гомон радостно взволнованной толпы. Я не помню, чтобы погода в эту благостную пору лета (день святого Бернарда празднуется в августе) когда-либо помешала торжеству. Вот пестрой толпой бредут, распевая псалмы, благочестивые паломники… а далее, шумно веселясь, толпятся деревенские парни и разряженные девушки… Вот монахи и священники стоят в молитвенном восторге, благоговейно сложив руки и устремив очи к небу… А семьи горожан, сидя на траве, разгружают корзины, доверху наполненные всякой снедью, и принимаются за еду. Разудалое пение – и благочестивые гимны; стенания кающихся – и веселый смех; вздохи – и радостные восклицания, ликующие крики; шутки – и мольбы… Все сливалось в воздухе в какую-то поразительную, ошеломляющую симфонию!..
А едва в монастыре заблаговестят, гомон мигом смолкает, и, насколько хватает глаз, люди стоят плотными рядами на коленях, и лишь глухое бормотанье молитв нарушает священную тишину. Но вот замер последний удар колокола, и снова приходит в движение вся эта пестрая толпа, и снова слышится прерванное на минуту ликование.
Сам епископ, чья резиденция находилась в соседнем городе, совершал в день святого Бернарда праздничную литургию в сослужении с местным духовенством, а на возвышении возле главного алтаря, под сенью богатых, редкостных гобеленов, его капелла исполняла духовные концерты.
Поныне живы в душе моей волновавшие меня тогда чувства, и они воскресают во всей своей юной свежести, когда я переношусь воображением в ту блаженную, так быстро пролетевшую пору. Живо припоминаю славословие «Gloria», которое повторялось несколько раз, ибо это песнопение особенно любила княгиня. Когда епископ возглашал: «Gloria» и мощные голоса хора подхватывали: «Gloria in excelsis Deo»[10], то мнилось – небеса разверзаются над алтарем, а изображения херувимов и серафимов каким-то чудом Господним оживают и во всем своем блеске витают в воздухе, помавая могучими крыльями и славя Бога пением и дивною игрою на арфах.
Погружаясь в мечтательное созерцание, в восторженные молитвы, я будто сквозь блистающие облака уносился душой на далекую и столь знакомую мне родину, и слышались мне в благоуханном лесу сладостные голоса ангелов, и дивный мальчик выходил мне навстречу из высоких кустов лилий и спрашивал меня, улыбаясь: «Где ты так долго пропадал, Франциск? У меня столько красивых ярких цветов, и все они станут твоими, только останься при мне и вечно меня люби!»
После литургии монахини совершали крестный ход по монастырским галереям и по церкви; впереди, опираясь на серебряный посох, шествовала увенчанная митрой аббатиса[11]. Какая святость, какое неземное величие сияли во взоре этой царственной жены, сквозили в каждом ее движении! То было живое олицетворение самой торжествующей церкви, обетование верующим Божией милости и благоволения. Когда взор ее случайно падал на меня, я готов был повергнуться перед нею ниц.
По окончании службы монахини угощали духовенство и епископскую капеллу в большой монастырской трапезной. Здесь же обедали и некоторые друзья монастыря, а также должностные лица и городские купцы; допускался на эти трапезы и я, ибо регент епископа отличал меня своим вниманием и охотно общался со мной. И если душа моя незадолго перед тем благоговейно обращена была к неземному, то теперь меня радостно обступала жизнь с ее пестрыми картинами. Веселые рассказы, шутки и прибаутки, забавные истории сменяли друг друга под громкий смех гостей, усердно опустошавших бутылки, и так продолжалось до самого вечера, когда к монастырю с грохотом начинали подъезжать экипажи.
Но вот мне минуло шестнадцать лет, и священник заявил, что я достаточно подготовлен и могу проходить курс высшего богословия в духовной семинарии соседнего города[12]. Я к этому времени уже окончательно решил посвятить свою жизнь служению Богу; мое намерение до глубины души обрадовало мою мать, ибо она узрела в нем осуществление таинственных предвещаний Пилигрима, неким образом связанных со знаменательным видением моего отца, тогда мне еще неведомым. Она верила, что именно благодаря моему решению душа отца моего очистится и избегнет вечных мук. Княгиня, с которой я мог теперь видеться только в приемной монастыря, тоже весьма одобрила мой выбор; она вновь подтвердила свое обещание поддерживать меня до той поры, когда я достигну духовного сана.
Монастырь находился так близко от города, что оттуда были видны городские башни и усердные ходоки из горожан избирали для своих прогулок его прелестные, живописные окрестности; но все же мне было тяжело расставаться с моей доброй матерью, с величавой аббатисой, которую я так глубоко почитал, и с добрым моим наставником. Как известно, разлука с близкими сердцу бывает порой столь мучительна, что и ничтожное расстояние кажется бесконечным!
Княгиня была чрезвычайно взволнована, и голос у нее дрожал от скорби, когда она напутствовала меня благочестивыми наставлениями. Она подарила мне красивые четки и карманный молитвенник с изящно исполненными миниатюрами. Кроме того, она дала мне письмо к приору городского монастыря капуцинов, поручая меня его благоволению; она настаивала, чтобы я поскорее побывал у него, ибо он всегда окажет мне помощь и делом, и добрым советом.
Трудно отыскать местность живописнее той, где расположен пригородный монастырь капуцинов. Я находил все новые и новые красоты в великолепном монастырском саду с видом на горы, когда, гуляя по длинным аллеям, останавливался то у одной, то у другой роскошной купы деревьев.
В этом саду я и повстречал приора Леонарда, придя впервые в обитель с письмом аббатисы, просившей для меня его внимания и заступничества.
И без того приветливого нрава, приор стал чрезвычайно любезен, когда прочитал письмо, и сказал столько хорошего о замечательной женщине, с которой еще в молодости познакомился в Риме, что уже одним этим привлек меня к себе.
Братия окружала его, и так легко было понять их взаимные отношения, образ жизни в монастыре и весь монастырский уклад: покой и веселие духа, излучаемые приором, передавались всей братии. Не было здесь и тени уныния или той иссушающей душу отрешенности, которые так часто отражаются на лицах монахов. Устав ордена был строг, но приор Леонард почитал молитву скорее потребностью духа, взыскующего горнего мира, чем проявлением аскетического покаяния за первородный грех; он умел пробудить в братьях это понимание смысла молитвы, и все, что им надлежало совершать для соблюдения устава, было исполнено жизнерадостности и добросердечия, которые вносили проблески высшего бытия в земную юдоль.
Приор Леонард старался даже установить в допустимых пределах общение с внешним миром, – для братии оно могло быть только благотворным. Щедрый приток вкладов во всеми почитаемый монастырь позволял время от времени угощать в трапезной монастыря его друзей и покровителей. В таких случаях посредине залы для них накрывался длинный стол, на верхнем конце которого восседал приор. Братия сидела за узкими, придвинутыми к стенам столами и довольствовалась по уставу простой глиняной посудой, меж тем как стол гостей был изысканно сервирован хрусталем и тонким фарфором. Монастырский повар превосходно готовил лакомые постные блюда, очень нравившиеся прихожанам. Вино доставляли гости, и таким-то образом происходили в монастыре приятные дружеские встречи светских лиц с духовными, далеко не бесполезные для обеих сторон. Ведь когда миряне, отвлекаясь от суетных треволнений, оказывались в монастырских стенах, где все возвещало им о жизни, прямо противоположной их собственной, то какая-то искра западала им в душу и они должны были согласиться, что и на этом чуждом им пути возможны покой и счастье и что, быть может, чем выше дух воспарит над всем земным, тем верней он уготовит человеку еще в этом мире более высокий образ бытия. С другой стороны, монахи обретали более широкий кругозор и житейскую мудрость, получая представление о пестром разнообразии мира за монастырскими стенами, а это наводило их на всевозможные размышления. Не придавая мнимой ценности земному, они вынуждены были признать, что многообразные, возникшие в силу внутренней необходимости формы человеческого существования озарены радужным отблеском духовного света, без чего все вокруг стало бы тусклым и бесцветным.
Выше всех по духовному и светскому образованию издавна почитался отец Леонард. Он прослыл выдающимся богословом, искусно и глубоко трактовал труднейшие вопросы, и даже профессора духовной семинарии нередко пользовались его советами и поучениями; вдобавок, более чем это возможно ожидать от монаха, он был и светски образованным человеком. Он свободно и изящно говорил по-итальянски и по-французски, был обходителен с людьми, и потому на него в былое время возлагали важные миссии. Когда я с ним познакомился, он был уже в преклонном возрасте; белизна волос выдавала его годы, но в глазах еще сверкал огонек молодости, а приветливая усмешка, блуждавшая у него на устах, усиливала общее впечатление уравновешенности и покоя. Изящество, каким отличалась его речь, было свойственно также его походке и жестам, и даже обычно мешковатое монашеское одеяние отлично прилегало к его статной фигуре. Не было среди братии ни одного монаха, который не поступил бы в монастырь по собственной воле, испытывая в этом глубокую духовную потребность; но и того злосчастного, который постучался бы во врата обители, надеясь тут спастись от окончательной погибели, приор Леонард вскоре утешил бы: после краткого покаяния этот брат обрел бы покой; примирившись с миром и отвратясь от его суеты, он, еще в земной жизни, вскоре возвысился бы над земным. Этот необычайный для монастырей жизненный уклад Леонард усвоил в Италии, где и церковный культ, и все понимание религиозной жизни несравненно радостнее, чем в католической Германии. Как в архитектуре храмов Италии проступают античные формы, так мистический сумрак христианства пронизывается там могучим лучом, долетевшим к нам из радостных, животворных времен античности и осиявшим веру нашу тем пречудным блеском, который некогда озарял героев и богов.