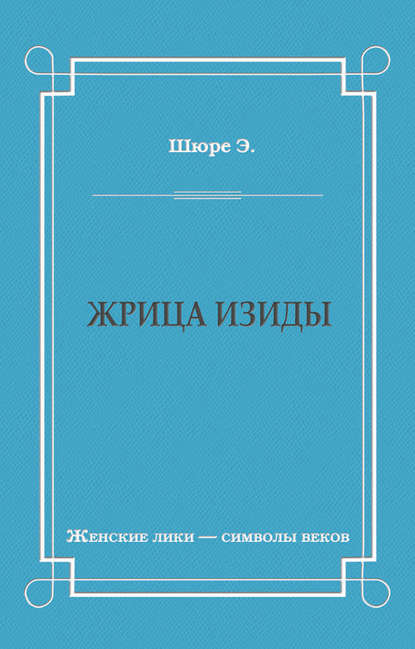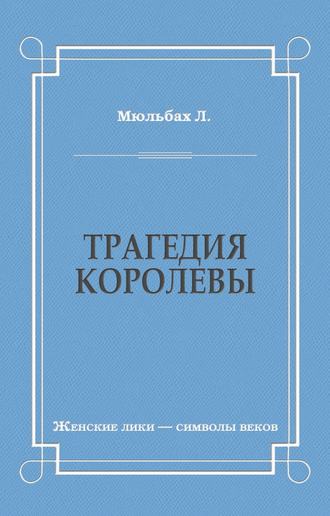
Полная версия
Трагедия королевы
– Вы были там не ради своей кузины, а ради самого Бюжо, – с тонкой улыбкой заметила королева. – Признайтесь, моя добрая Кампан, что вам хотелось подкупить этого господина.
– Что ж, признаюсь вашему величеству, что хотела узнать, действительно ли советник Бюжо перешел в другой лагерь. Вы, ваше величество, знаете, что госпожа де Марсан объездила всех членов суда, заклиная их не осуждать кардинала.
– Не осуждать кардинала, то есть обвинить меня! – горячо воскликнула королева. – Ведь оправдать его – значит обвинить меня, затронуть мою честь!
– Так и я сказала Бюжо и, к счастью, нашла себе поддержку в его семье. Могу заверить ваше величество, что в этом семействе есть люди, преданные вашему величеству всей душой.
– Кто же это? – спросила Мария-Антуанетта. – Назовите их мне; по крайней мере, в тяжелые дни мне будет о ком вспомнить.
– Во-первых, дочь Бюжо хорошенькая Маргарита, которая обожает вас и постоянно копит свои маленькие сбережения на поездки в Версаль, чтобы видеть ваше величество; затем жених малютки, молодой Тулан, умный, прекрасный молодой человек, восторженно поклоняющийся вашему величеству. Это он обещал мне немедленно известить меня об исходе процесса, а его красноречию я неизмеримо больше, чем своему собственному, обязана тем, что Бюжо в конце концов решился подать голос против кардинала.
В это время дверь в приемную отворилась, и лакей доложил, что ожидаемое лицо прибыло.
– Это Тулан, – шепнула Кампан. – Скажите этому господину, – громко обратилась она к лакею, – что я прошу его обождать одну минуту. Ступайте! Прошу ваше величество дозволить мне принять здесь этого молодого человека, – сказала она королеве, когда лакей вышел.
– То есть, другими словами, вы просите меня уйти? – улыбнулась королева. – Но я предпочитаю остаться. Я хочу видеть человека, о котором вы говорите, что он мне предан, и хочу как можно скорее узнать, какие известия он привез. Посмотрите, экран у камина гораздо выше моего роста; если я встану позади него, никто не увидит меня, тем более что уже темно. Велите молодому человеку войти; я горю нетерпением узнать, каков приговор.
Королева спряталась за экраном, а Кампан отворила дверь и позвала:
– Войдите, господин Тулан!
В ту же минуту на пороге появилась сильная, высокая фигура молодого человека. Его щеки горели от быстрой езды, глаза сверкали, дыхание было прерывисто.
Кампан с ласковой улыбкой протянула ему руку.
– Вы сдержали свое слово и привезли мне известие о решении суда? – спросила она.
– Да, – тихо и печально ответил он, – и мне очень жаль, что вам пришлось так долго ждать, но на колокольне Святого Иакова било уже восемь часов, когда я получил его, так что это – не моя вина.
– Восемь часов? – повторила Кампан, взглянув на часы. – Да ведь теперь только еще девять; не станете же вы уверять, что сделали четыре мили в один час?
– Это так и было, и уверяю вас, что в этом нет ничего необыкновенного. Я велел в четырех пунктах выставить подставы; лошади были хорошие. Мне иногда казалось, что я лечу на птице, у меня еще и теперь такое чувство, будто я лечу. Прошу извинить меня, но позвольте мне сесть: у меня немного дрожат ноги.
– Садитесь, мой милый юный друг! – воскликнула Кампан, поспешно придвигая ему кресло.
– Мне нужна только одна минута отдыха, – сказал он, бросаясь в кресло, – но не думайте, что мои ноги дрожат от быстрой езды! Нет, это от радости, что я, может быть, имел счастье оказать королеве маленькую услугу; ведь вы говорили, что для ее величества крайне важно получить известие о приговоре как можно скорее, и, не правда ли, никто не успел предупредить меня?
– Никто, друг мой; королева узнает его от вас, и я скажу ее величеству, от кого именно я получила его.
– Нет, нет, не говорите! Кто знает, благоприятно ли это известие; если оно огорчит ее величество, это огорчение будет в ее воспоминании связано с моим именем, и это имя станет для нее неприятно. Пусть уж лучше королева ничего не узнает обо мне!
– Боже мой! – воскликнула Кампан. – Значит, вы не знаете, в чем состоит приговор?
– Не знаю. Отец моей невесты переслал мне его письменно, и я не хотел терять время, чтобы прочесть его. Возможно, что я поступил так из трусости, потому что, если бы в приговоре оказалось что-либо, что могло бы рассердить королеву, то я, пожалуй, не решился бы привезти вам известие о нем. Поэтому я повез его не читая, думая лишь о том, что могу избавить ее величество от нескольких минут беспокойства и ожидания. Вот бумага; пусть справедливый Господь не допустит, чтобы в ней заключалось что-либо печальное для ее величества! – Он встал и передал Кампан сложенную бумагу. – А теперь, – сказал он, – позвольте мне удалиться: моя невеста ждет меня, притом в Париже опасаются волнений, и мне необходимо быть дома.
Кампан с чувством пожала ему руку и произнесла:
– Поезжайте, мой юный друг, я от всего сердца благодарю вас за вашу преданность и верность. Будьте уверены, что королева узнает об этом. Прощайте!
– Нет! – вскрикнула Мария-Антуанетта, выходя из-за экрана. – Подождите. Вы не должны уехать, не получив благодарности от вашей королевы за свое бескорыстное желание оказать ей услугу.
– Королева, сама королева! – бледнея, прошептал Тулан и, упав на колени, с таким обожанием, с такою преданностью взглянул на Марию-Антуанетту, что она почувствовала себя растроганной.
– Я за многое должна поблагодарить вас, – сказала она, – не только за то, что вы поторопились привезти мне важное известие, но за доказательство того, что у королевы еще есть преданные слуги и верные друзья. Это сознание смягчит для меня горечь даже дурного известия. Еще раз благодарю вас!
Поняв, что королева отпускает его, Тулан поднялся с колен и, не отрывая взора от ее лица, попятился к двери, где он снова упал на колени, и, сложив молитвенно руки, поднял взор к небу, причем торжественно и с волнением произнес:
– Господи, Царь Небесный, благодарю Тебя за этот счастливый миг! С этой минуты я посвящаю себя служению моей королеве и с радостью пожертвую своей кровью, своей жизнью, если это может послужить к ее благу. Клянусь в этом; Бог и королева слышали мою молитву! – И, не бросив больше взгляда на королеву, не сделав ей положенного поклона, Тулан вышел из комнаты, затворив за собою дверь.
– Как странно, как странно! – тихо промолвила королева. – От его клятвы у меня вся душа содрогнулась, и что-то говорит мне, что я буду страшно, невообразимо несчастна и что тогда этот молодой человек окажется возле меня.
– Ваше величество сегодня взволнованы, поэтому все кажется вам имеющим значение и мрачный смысл, – тихо возразила Кампан.
– Но где же приговор? Дайте же мне приговор! Я хочу сама прочесть его!
– Не лучше ли вашему величеству узнать решение суда в присутствии его величества, чтобы сам король прочел вам его? – нерешительно заметила мадам Кампан.
– Нет, нет! Если приговор для меня благоприятен, я буду иметь радость лично сообщить его королю; если нет, то я успею овладеть собой и собраться с духом, прежде чем увижусь с королем. Пойдемте ко мне в кабинет: там уже зажжен огонь. Вы первая доставили мне известие, вы же первая должны узнать решение судей. Пойдемте, Кампан!
Мария-Антуанетта быстро вернулась в свои покои, сопровождаемая Кампан, следовавшей за нею с опущенной головой и тяжелыми предчувствиями.
В фарфоровом кабинете на столе из севрского фарфора и розового дерева горели свечи в высоких серебряных канделябрах, каждый в четыре свечи: королева не любила яркого освещения в своих интимных комнатах. Кроме этих восковых свечей, в кабинете не было другого освещения. Королева села в кресло у стола и, взяв у Кампан бумагу, сказала:
– Впрочем, нет! Прочтите ее вы, но смотрите – читайте все так, как там написано!
Кампан развернула бумагу и подошла к самому столу, а королева, наклонившись всем телом вперед, сложила руки на коленях и устремила на нее взор, полный нетерпеливого ожидания.
Кампан прочла:
– «Пункт первый. Письма и денежная расписка за подписью королевы, послужившие поводом к процессу, признаны фальшивыми.
Пункт второй. Граф Ламотт заочно приговаривается к пожизненным работам на галерах.
Пункт третий. Обвиняемая Ламотт приговаривается к наказанию кнутом, клеймению обоих плеч буквой О и к пожизненному заключению в богадельне.
Пункт четвертый. Рето де Вильет подвергается пожизненному изгнанию из пределов Франции.
Пункт пятый. Мадемуазель Олива считается по суду оправданной.
Пункт шестой. Кардинал…»
– Ну! – вскрикнула королева. – Что ж вы остановились, Кампан, отчего вы дрожите? Его оправдали!
Кампан прочла дальше:
– «Кардинал де Роган оправдан от всяких подозрений, и ему дозволяется перепечатать это постановление суда».
– Оправдан! – закричала королева, вскочив с кресла. – Оправдан! Ах, Кампан, значит, то, чего я боялась, – правда! Королева Франции может безнаказанно сделаться жертвой гнусной интриги, оскорбительной клеветы! Один из подданных королевы оскорбляет ее честь, ее достоинство, ее добродетель, и для него нет наказания, его оправдывают! Пожалейте меня, Кампан! Но и я в свою очередь жалею вас, жалею и оплакиваю Францию: если я не нашла беспристрастных судей в вопросе, касающемся моей чести, на что же могут надеяться другие, если им придется вести процесс, затрагивающий их счастье, их честь? Я опечалена до глубины души, и мне кажется, что с этого момента мою жизнь окутала ночная тень и… Боже мой, что это? – прервала она себя. – Это вы задули свечу, Кампан?
– Ваше величество, вы видите, что я не оборачивалась к свечам.
– Но посмотрите же: одна из свечей погасла!
– Это правда, – ответила Кампан, смотря на потухшую свечу, от которой поднимался голубоватый дымок, – но если вы, ваше величество, дозволите…
Она вдруг умолкла, и на ее лице появилось выражение испуга: вторая свеча на том же канделябре также погасла.
Королева не вымолвила ни слова; с побелевшими губами, с широко открытыми глазами она следила, как потухала последняя искра.
– Позвольте, ваше величество, я сейчас зажгу свечи, – сказала Кампан, протягивая руку к канделябру, но королева удержала ее.
– Оставьте, – прошептала она, – я хочу видеть, погаснут ли и другие две свечи…
Она вздрогнула и, медленно поднявшись с кресла, с безмолвным ужасом указала рукой на второй канделябр: одна из его свечей погасла.
Теперь в кабинете горела только одна восковая свеча, слабо озаряя небольшое пространство около стола; остальная часть комнаты тонула в темноте.
– Кампан, – прошептала королева, протягивая руку к горевшей свече, – Кампан, если эта четвертая свеча погаснет, как остальные, то это будет означать для меня дурное предзнаменование, возвещающее о надвигающемся несчастье.
В эту минуту пламя затрещало и ярко вспыхнуло, потом так же быстро потускнело, померкло, опять вспыхнуло и погасло. В комнате стало совершенно темно. Королева громко, пронзительно вскрикнула и без чувств упала на пол.
VIII. Перед венцом
Свадебные гости уже съехались. Жена члена суда Бюжо уже прикрепила белую вуаль на голову невесты, своей дочери Маргариты, и в последний раз обняла и поцеловала ее как дитя, до сих пор принадлежавшее своей матери.
Сегодня мать прощалась с дорогим прошлым, отпуская свое дитя из родительского дома в свет, где молодая женщина должна была устроить себе свой собственный очаг. Этот момент всегда тяжел для материнского сердца, потому что кто знает, что пошлет человеку будущее!
Несмотря на горечь минуты, Бюжо тщательно удерживала слезы, чтобы не омрачить ими этого дня. Слезы, пролитые на венок невесты, считаются предшественниками несчастья, а нежная мать стремилась отвратить от своей дорогой Маргариты всякое горе, всякое несчастье.
– Ступай, моя девочка, – сказала она с улыбкой, и один Бог знал, чего стоила ей эта улыбка, – вступи в новый мир, будь счастлива, и дай тебе Бог никогда не пожалеть о той минуте, когда ты переступила порог родного дома, чтобы войти в свое новое жилище.
– Дорогая матушка! – воскликнула Маргарита. – Дом, в который я вступаю, принадлежит тому, кого я люблю, а мое новое пристанище – его благородное, доброе, великодушное сердце.
– Дай бог, милая дочка, чтобы через много лет ты могла повторить мне эти слова!
– Я уверена, что буду в состоянии повторить их, потому что мое сердце полно радостной уверенности. Тулан любит меня, и я никогда не буду несчастна. Слышишь его шаги, матушка? Он зовет меня.
Дверь отворилась, и на пороге действительно показался жених в скромном праздничном костюме. Его лицо было серьезно, но приветливо; сияющие глаза нежно смотрели на невесту. Он быстро подошел к ней и, поцеловав ее маленькую дрожащую ручку, сказал:
– Все гости уже собрались, дорогая, и священник в церкви.
– Так пойдем же, Луи, – ответила невеста, но он удержал ее:
– Подожди, дорогая! Пред тем как отправиться в церковь, я хотел бы сказать тебе несколько слов.
– Это, значит, милый сын, что я должна оставить вас наедине с невестой? – улыбаясь, сказала Бюжо. – Не стесняйтесь: это вполне естественно, и я нисколько не ревную свою дочь к вам. Да, теперь я не имею права вмешиваться в ваши тайны. Пусть Один Господь слышит то, что жених хочет сказать своей невесте перед венчанием! – И, ласково кивнув молодым людям, она вышла из комнаты.
– Я надеюсь, Луи, – прошептала встревоженная невеста, – что не случилось ничего дурного? Ты так серьезен… Луи, ведь ты любишь меня?
– Люблю, Маргарита, но все-таки, прежде чем ты произнесешь слово, которое навеки свяжет тебя со мною, я должен открыть тебе всю свою душу, чтобы, когда придет время испытаний, мы встретили его с радостной твердостью.
– О боже, боже! – прошептала молодая девушка, сердце которой вдруг сильно забилось. – Что такое придется мне услышать?
– Есть женщина, Маргарита, образ которой живет в моем сердце: это королева Мария-Антуанетта.
Молодая девушка свободно вздохнула и рассмеялась:
– Ах, как ты напугал меня, Луи! Но королеву я также люблю и почитаю, и в моем сердце она также занимает место. К королеве я не могу ревновать тебя и люблю ее не меньше, чем ты.
– Нет, Маргарита, – с снисходительной улыбкой возразил Тулан, – ты любишь ее не так, как я: ты не обязана ей всем, как я. Позволь мне рассказать тебе про моего отца, который бедствовал, страдал и голодал, чтобы кормить и воспитывать меня. Он служил в армии и отличился во многих сражениях, за что получил орден Святого Людовика. Затем ему, как увечному, дали отставку, что было для него большим несчастьем, так как офицерское жалованье составляло его единственное средство к жизни. Он страстно любил свою жену, обожал своего сынишку и вдруг лишился возможности прокормить их. При одной осаде он потерял правую руку и таким образом был лишен возможности получить место в каком-нибудь министерстве. Приходилось умирать с голоду. Отец не мог поверить, что король допустит своего верного воина, кавалера ордена Святого Людовика, потерявшего силы и здоровье на службе своему монарху, терпеть такую нужду; он решил поехать в Париж, просить самого короля. Это путешествие было последней надеждой семьи, но, прежде чем оно состоялось, моя мать заболела и умерла. Она была опорой, поддержкой, утешением отца; теперь у него не осталось других надежд, кроме надежды на помощь короля Людовика. Продав все, что могли, мы отправились в Париж. Мой бедный отец от слез и горя почти лишился зрения. Мне было двенадцать лет, я с самого раннего детства видел горе и лишения, но твердо верил в будущее. От долгой ходьбы мои башмаки развалились, ноги распухли и были в крови. Видя это, отец велел мне сесть к нему на плечи и хотел нести меня, но я преодолел свою боль и продолжал идти пешком, пока не упал на дороге без чувств.
– И ты никогда не рассказывал мне этого! – со слезами воскликнула Маргарита.
– С тех пор как я полюбил тебя, я забыл все, что было печального в моей жизни. Теперь я рассказываю это тебе, чтобы ты поняла мои чувства. Слушай дальше, дорогая! После долгих мучений мы наконец прибыли в Париж и остановились в убогой гостинице. На другой день отец надел свой мундир, украсил грудь орденом Святого Людовика, и мы вместе отправились в Версаль – отец очень плохо видел, и я должен был вести его. Мы поместились в большой галерее, по которой весь двор проходит, возвращаясь из церкви в королевские покои. Держа в руках прошение, которое я написал под его диктовку, отец поместился недалеко от двери, в которую входила королевская чета. Я стоял рядом с ним и с любопытством разглядывал нарядную толпу людей, также с прошениями в руках наполнявших зал. Я удивлялся, что они также чего-то просили, несмотря на свои богатые платья и веселый вид. Все эти господа оттеснили моего отца к стене; наконец появились король и королева, но они прошли, ласково улыбаясь просителям и принимая от них просьбы, и даже не заметили нас. Мы печально вернулись домой, но на другой день снова пришли в Версаль, и снова знатные просители оттеснили моего отца. Но я расхрабрился и пробился с ним вперед. Моя смелость была вознаграждена: король взял просьбу из рук отца и сам опустил ее в серебряную корзинку, которую нес шедший возле него главный заведующий королевской милостыней. Мы считали себя спасенными: мой отец ожил. На другой день мы опять пошли в Версаль. Король вышел в зал, заведующий милостыней громко вызывал по именам тех, кто получил ответ на свою просьбу, но имени моего отца не было между ними! Утешая себя тем, что ответ не мог быть получен так скоро, но что он получится завтра, мы каждый день приходили в Версаль, и так прошли две недели! Мой отец с каждым днем становился бледнее, его походка делалась все тяжелее, а я все более грустил и впадал в безнадежное отчаяние. Мы уже проели все, что у нас было; единственное наше достояние составлял крест Святого Людовика. Но его мы не могли лишиться, так как он открывал нам двери в Версаль и в галерею, а там была наша последняя надежда, наше последнее утешение.
«Завтра мы пойдем во дворец в последний раз, – сказал мне отец на пятнадцатый день, – если и завтра ничего не будет, то я продам свой орден, чтобы ты поел досыта, мой бедный, голодный мальчик, а там… пусть сжалится над нами Господь».
На другой день мы опять стояли в галерее. Мой отец был бледнее обыкновенного, но стоял, гордо подняв голову, и с презрением смотрел на весело болтавших и смеявших господ в богатом платье, которые свысока оглядывали бедного кавалера Святого Людовика. В моем детском сердце кипела ярость на всех этих гордых, надменных людей; слезы гнева стояли в моих глазах, в моей душе поднялось страшное возмущение против несправедливой судьбы, допускающей унижать и оскорблять бедность.
В эту минуту в галерею вошли король и королева. Король вышел на средину зала, заведующий милостыней начал вызывать по именам счастливцев, которые приближались к королю и получали или желаемое, или надежду на его получение. Молодая королева стояла возле короля, и ее глаза случайно остановились на бледном, печальном, благородном лице моего отца.
Этот взгляд показался мне солнечным лучом, радостным лучом надежды. Отец смотрел в это время на короля, тихо шепча про себя: «Сегодня я вижу его в последний раз!» Я же видел только королеву и, целуя холодную руку отца, шептал ему: «Надейся, дорогой отец, надейся! Королева заметила нас».
Да, она заметила нас. Она перестала говорить с какими-то кавалерами и, быстрыми, легкими шагами перейдя зал, подошла к нам. Ее большие серо-голубые глаза сияли приветом, лицо слегка покраснело от волнения. Она была одета очень просто, но от всей ее фигуры веяло величием.
«Дорогой мой кавалер, – сказала она, и ее голос прозвучал для меня, подобно небесной музыке, – вы уже подали королю свое прошение?»
«Да, ваше величество, – дрожа, ответил отец, – уже две недели назад».
«И еще не получили ответа? – быстро сказала королева. – Я каждый день вижу вас и мальчика и из этого заключила, что вы надеетесь на ответ».
«Да, ваше величество, – ответил отец, – я жду решения: жить мне или умереть».
«Бедный! – тоном глубокого сочувствия сказала королева. – Такие две недели тяжело пережить! Я от души сожалею о вас! Разве у вас нет протекции?»
«Ваше величество, – сказал отец, – у меня нет другой протекции, кроме этого пустого рукава и справедливости того, о чем я прошу».
«Бедный! – со вздохом повторила королева. – Вы совсем не знаете света, если думаете, что этого достаточно. Я буду вашей протекцией и похлопочу за вас перед королем. Скажите мне свое имя и в чем ваша просьба».
Внимательно выслушав ответ отца, она сказала с ласковой улыбкой:
«Будьте завтра на этом же месте: я сама передам вам ответ короля».
Мы пошли домой, окрыленные новой надеждой; мы больше не чувствовали ни голода, ни усталости; мы больше не боялись воркотни хозяина, заявившего, что он больше не хочет держать нас в долг. Мы упросили его подождать только до завтра, а голод утолили радостными ожиданиями.
Мы встали на свое обычное место в галерее. Двери отворились, королевская чета вошла.
«Молись за меня, – прошептал мне отец, – молись, чтобы надежда наконец не обманула меня, иначе я упаду мертвый!»
Но я не мог ни молиться, ни думать; я мог только смотреть на прекрасную молодую королеву, благородное лицо которой возбуждало во мне благоговение, точно это был образ Царицы Небесной. Она окинула взглядом весь зал, встретилась со мной глазами, улыбнулась, и эта улыбка наполнила мою душу невыразимым одушевлением и восторгом. Теперь я мог молиться. Я упал на колени и шептал: «Да будет благословение Божие над нашей королевой! Она избавит нас от страданий и спасет жизнь моему отцу!»
Она подошла к нам и, кивнув головой моему отцу, протянула ему запечатанный пакет, говоря:
«Вот возьмите это! Король очень рад воздать должное одному из своих лучших офицеров. Он жалует вам ежегодную пенсию в триста луидоров, а я желаю вам и вашему мальчику еще много лет пользоваться ею в счастье и добром здоровье. Подите сейчас же с этой бумагой в казначейство, и вам выдадут пенсию за первую четверть».
Видя, что отец зашатался и близок к обмороку, королева кликнула нескольких придворных и приказала им помочь отцу и отправить его из дворца непременно в экипаже. Тогда все бросились помогать моему отцу, стараясь выразить ему необыкновенную заботливость и любезность, и бедный, пренебрегаемый, безрукий инвалид, которого толкали и оттесняли в угол, сделался предметом всеобщего внимания. Мы вернулись домой в придворном экипаже, и наш хозяин всячески старался услужить нам. Королева сделала нас счастливыми!
– Да будет благословение Божие над ее дорогой головой! – молитвенно сложив руки, сказала Маргарита. – Я буду вдвойне любить ее за тебя. Отчего ты не рассказал мне этого раньше?
– Есть чувства, – серьезно ответил Тулан, – которые так святы, что говорить о них можно лишь в самые торжественные минуты жизни. Сегодня такая минута, дорогая моя, и я открыл тебе всю свою душу. С того дня как королева подарила нам благосостояние, счастье, покой, мое сердце, моя душа принадлежали ей. Ей я обязан спокойствием, довольством моего отца, счастливыми днями, которые мы с ним пережили вместе, моим образованием, словом – всем! Отец не хотел, чтобы я сделался военным. «Будь самостоятельным, свободным человеком, – говорил он, – примени силы своего ума, служи этим путем своему отечеству. А если для королевы наступит час опасности, ты сумеешь служить ей и бороться за нее до последнего вздоха». В этом я поклялся ему на его смертном одре. Он уже предчувствовал надвигающуюся грозу и часто со слезами читал брошюры и памфлеты, которые исходили из Парижа к нам, в Руан, куда мы вернулись и где я учился в лицее. «Поклянись мне, Луи, – говорил отец, – что, если Господь даст тебе силы, ты посвятишь жизнь служению королеве и будешь бороться с ее врагами!» И я поклялся в этом и отцу, и себе самому. Теперь я живу в Париже, занимаюсь книжной торговлей, и этим я также обязан королеве.
Предчувствие говорит мне, что близко то время, когда друзья королевы должны будут сплотиться вокруг нее, так как опасность приближается… Она уже приблизилась, Маргарита: дикие звери окружили овечку, и ей уже не уйти от них!
Враги гнездятся в королевском доме: граф Прованский, деверь королевы, годами преследует ее; он ненавидит «австриячку» за то, что в политике король следует ее, а не его советам; граф д’Артуа, когда-то единственный друг королевы в семье ее мужа, также отвернулся от нее с тех пор, как она, вопреки настояниям братьев короля, высказалась в пользу удвоенного числа представителей третьего сословия и убедила короля созвать Генеральные штаты. Тогда граф д’Артуа перешел на сторону ее врагов, потому что королева благоволит к народу. А народ все же не верит ей, не верит ее любви, и все партии стараются поддерживать в народе это недоверие. Герцог Орлеанский мстит неповинной королеве за презрение к порочному принцу; тетки – за то, что занимают при дворе второе место; все придворные мстят ей за предпочтение, оказываемое семье Полиньяк. На нее клевещут, ей приписывают все, что случается дурного, ее делают ответственной за все неудачи, постигающие Францию. Во всех парижских клубах ее всячески поносят и требуют ее гибели; настало время, когда ее друзья должны действовать.