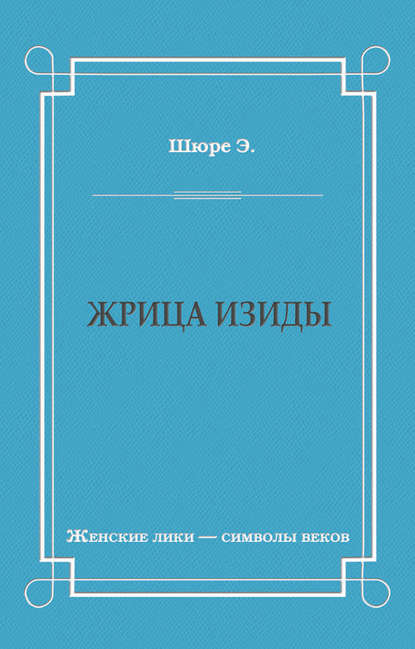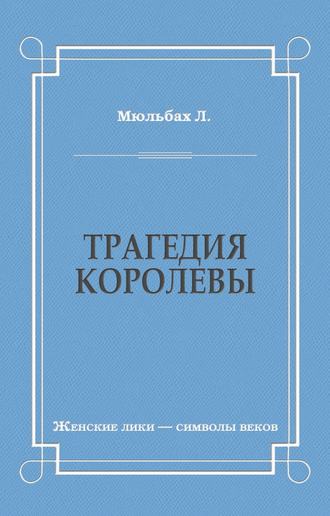
Полная версия
Трагедия королевы

Луиза Мюльбах
Трагедия королевы
© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009
© ООО «РИЦ Литература», 2009
* * *I. Счастливая королева
Это было тринадцатого августа 1785 года. Королева Мария-Антуанетта уступила наконец мольбам своих горячо любимых подданных и, покинув на один день великолепный Версаль и свой милый Трианон, появилась в Париже, чтобы показаться народу, познакомить его с новорожденным сыном, которым она подарила короля и французский народ двадцать пятого марта, и в соборе Нотр-Дам получить от духовенства благословение, а от представителей Парижа – поздравления.
Прекрасная, очень любимая королева встретила восторженный прием. Она въехала в Париж в открытом экипаже, окруженная своими троими детьми, и все, кто узнавал ее, радостно приветствовали ее и торопились следовать за нею до самого собора, на пороге которого ее встретило высшее духовенство с кардиналом Луи де Роганом во главе, чтобы торжественно ввести ее в дом царя царей.
Мария-Антуанетта приехала совсем одна; ее сопровождали только гувернантка «детей Франции» герцогиня Полиньяк, да нормандка-кормилица, державшая на руках второго сына короля, Людовика-Карла, герцога Нормандского.
На заднем сиденье, рядом с королевой, сидели ее старшие дети: старшая дочь короля ее королевское высочество мадам[1] Тереза и дофин Людовик, предполагаемый наследник Людовика XVI.
– Поезжай в Париж, дорогая Антуанетта, – сказал своей супруге добродушный король, – доставь моим добрым гражданам эту радость! Покажи им наших детей и прими выражения их восторга за то счастье, которым ты подарила меня и их. Я не еду с тобою, чтобы не делить твоего триумфа. Поезжай и насладись этим часом счастья!
Когда королева вышла из собора, вся площадь представляла собою волнующееся море, бурно плескавшееся и гнавшее свои темные волны в прилегавшие к площади улицы, чтобы наполнить весь Париж своим радостным шумом и грозным всплеском. Весь Париж приветствовал в этот час не королеву, но прекрасную женщину, счастливую мать, которая, подобно матери Гракхов, не имела других спутников, других защитников, кроме своих сыновей, не имела другой придворной дамы, кроме своей дочери, на плечо которой положила руку, являясь во всем блеске королевского и материнского величия. И весь Париж, явившийся приветствовать королеву, женщину и мать, потрясал воздух дружными, радостными, восторженными криками:
– Да здравствует королева! Да здравствует Мария-Антуанетта! Да здравствуют красавица мать и прекрасные «дети Франции»!
Эти крики, эти радостные лица и горящие глаза в свою очередь воодушевляли королеву. К ее щекам также прилила кровь, ее глаза также засверкали. Она встала в экипаже и движением, полным невыразимой грации, взяв у кормилицы ребенка, подняла его высоко кверху, чтобы показать его парижанам. При этом маленькая шляпка, приколотая сбоку к ее напудренной прическе, съехала ей на затылок, а прекрасные руки, высоко державшие ребенка, обнажились до локтей, так как кружевные рукава спустились на плечи. Тогда восторг толпы обратился в настоящий фанатизм.
– Что за женщина, какова красавица! – послышались отдельные голоса. – Какие чудные руки, прелестный затылок!
Яркая краска залила лицо Марии-Антуанетты. Похвалы женщин пробудили в ней королеву; она поспешно передала дитя кормилице и, опустившись на подушки экипажа, поправила шляпку и кружевную мантилью, после чего приказала кормилице:
– Скажите кучеру, чтобы он ехал скорее!
Та поспешила дернуть за шнурок и передать приказание.
– Ну, Тереза, – с улыбкой обратилась королева к дочери, – разве не отрадно, что наш добрый народ так радостно приветствует нас?
Семилетняя принцесса, с недовольным видом покачав гордой головкой, воскликнула:
– Мама, эти люди кажутся такими грязными и гадкими… Я не люблю их…
– Молчи, дитя, молчи! – прошептала королева, страшась, как бы толпа, тесно обступавшая коляску, не услыхала неосторожных слов ребенка.
Ее опасения были не напрасны: какой-то блузник с красным лицом и маленькими пронзительными черными глазками понял слова юной принцессы и, бросив на нее злобный и угрожающий взгляд, произнес:
– Мадам нас не жалует, потому что мы грязны и некрасивы; но и мы, вероятно, казались бы чистенькими и хорошенькими, если бы могли разрядиться и разъезжать в важных каретах. Но мы должны работать и мучиться, чтобы платить подати; а если бы мы не платили их, то нашему королю и его семье не приходилось бы гордиться блеском да богатством. Мы бедны потому, что работаем на него!
– Прошу вас, – кротко сказала ему королева, – простить мою дочь: она – еще дитя и не понимает, что говорит. Родители научат ее любить добрый, трудолюбивый народ и быть ему благодарным за его любовь, мосье.
– Я вовсе не мосье, – грубо возразил блузник, – я просто бедный мастер, сапожник Симон, и больше ничего!
– В таком случае, мессир Симон, я прошу вас принять от моей дочери изображение ее отца и выпить за наше здоровье, – сказала королева, кладя в руку дочери луидор, причем шепнула ей: – Дай ему!
Принцесса поторопилась исполнить приказание матери и положила блестящий золотой в протянутую к ней широкую, грязную руку. Толстые костлявые пальцы сапожника сжали ее ручку и не выпускали.
– Вот так маленькая ручка, – насмешливо сказал он, – а что стало бы из таких пальчиков, если бы им пришлось работать?
– Мама! – испуганно вскрикнула принцесса. – Вели этому человеку отпустить мою руку, мне больно!
Сапожник громко расхохотался и, выпустив руку, злобно сказал:
– Ага, принцессе больно уже от одного прикосновения рабочей руки! Вам лучше бы держаться подальше от нас и никогда не являться среди народа!
– Поезжайте же скорее! – громко и повелительно сказала кучеру королева.
Он ударил по лошадям, и народ, толпившийся у самого экипажа и затаив дыхание слушавший разговор королевы с сапожником, с боязливыми криками и визгом бросился в разные стороны от взвившихся на дыбы коней.
Экипаж поехал крупной рысью, и королева снова улыбалась и ласково кивала народу, который уже снова с энтузиазмом приветствовал ее, восторгался ее красотой и миловидностью ее детей.
А сапожник Симон все стоял на прежнем месте, насмешливо скалясь, и смотрел вслед королевскому экипажу.
Чья-то рука опустилась на его плечо, и язвительный, дрожащий голос спросил его:
– Вы любите эту австриячку, мессир Симон?
Сапожник быстро обернулся. Перед ним стоял какой-то странно искривленный и сгорбившийся человек с неестественно большой головой, плохо подходившей к узким плечам; весь его вид произвел такое впечатление на Симона, что он громко расхохотался.
– Вы находите меня безобразным, не так ли? – спросил незнакомец, стараясь также засмеяться, но вместо смеха получилась гримаса, растянувшая его неестественно огромный рот с толстыми бесцветными губами от уха до уха и показавшая два ряда отвратительных, длинных зеленоватых зубов. – Вы находите меня страшно безобразным? – повторил он, так как хохот сапожника стал еще громче.
– Я нахожу вас очень странным, – сказал Симон, – если бы я не слышал, что вы говорите по-французски, и не видел, что вы ходите на двух ногах, как все мы, то я подумал бы, что вы – та громадная жаба, о которой я недавно читал в сказке.
– Да я и есть та самая жаба из сказки, – со смехом подтвердил незнакомец, – я только на сегодня нарядился человеком, чтобы посмотреть на австриячку с ее отродьем. Позволю себе еще раз спросить вас: любите ли вы эту австриячку?
– Нет, убей меня бог, не люблю! – с жаром воскликнул сапожник.
– А почему бы Богу убивать вас за это? – быстро возразил незнакомец. – Что же, вы думаете, уж такое огромное несчастье, если не любишь австриячки?
– Нет, собственно говоря, я этого не думаю, – задумчиво возразил сапожник, – пред Богом-то это не грех, а вот перед людьми – грех, за который платят долгим и тяжелым заключением в тюрьме, а так как я люблю свободу, то и остерегаюсь рассказывать чужим людям, что именно я думаю.
– Вы любите свободу? – воскликнул незнакомец. – Дайте мне свою руку и позвольте поблагодарить вас за это прекрасное слово, брат мой!
– Ваш брат? – с изумлением повторил сапожник. – Я не знаю вас, а вы так себе, здорово живешь, называете себя моим братом?
– Вы сказали, что любите свободу, а потому я и приветствую в вас брата. Все, любящие свободу, – братья, так как признают эту добрую и милостивую мать, которая не делает разницы между своими детьми и любит их всех совершенно одинаково, хотя бы один назывался графом, а другой – ремесленником. Пред матерью-свободой все мы равны и все – братья.
– Это звучит красиво, – возразил сапожник, – только беда в том, что это – неправда. Если все – братья, то почему же король ездит в золоченой карете, а я в качестве сапожника, потея, тащусь на своих вороных – на собственных подошвах?
– Король – не сын свободы! – яростно воскликнул незнакомец. – Он – сын деспотизма, оттого и хочет унизить до полного рабства своих врагов, сынов свободы! Неужели мы всегда будем терпеть это? Неужели не захотим наконец подняться из праха и унижения?
– Ну, конечно, если бы мы могли, то очень захотели бы этого! – с грубым смехом воскликнул Симон. – Да вот все дело в том, что мы не можем! Король имеет власть держать нас в цепях, а прекрасная дама-свобода, о которой вы говорите, что она – наша мать, преспокойно позволяет, чтобы ее сынов держали в рабстве и унижении.
– Она только временно допускает это, – возразил незнакомец громким, визгливым голосом, – но она уже готовит день возмездия и смеется над теми, кого она хочет низвергнуть и которые сами безустанно работают над своею гибелью!
– Что за ерунду вы говорите! – засмеялся сапожник.
– Да, они сами роют себе яму, но не видят этого, потому что богиня, желая погубить их, сделала их слепыми. Разве ваши умные глаза не видят, как эта австриячка усердно работает над своим собственным саваном?
– Королева никогда не работает, – со смехом возразил Симон, – она заставляет работать свой народ.
– А я говорю вам, что она работает! Я уверен, что она соткала уже порядочный кусок своего савана; у нее есть милые друзья, которые помогают ей в этом, например, герцог де Куаньи. Вы знаете, кто такой герцог де Куаньи?
– Ей-богу, не знаю! Я при дворе не бываю и незнаком со всякой придворной дрянью!
– Вы правы, там все – дрянь! – с отвратительным смехом подхватил незнакомец. – И я хорошо знаю это; ведь я, к сожалению, не могу, как вы, сказать, что не бываю при дворе: я попал туда, но мое удаление оттуда наделает больше шума, чем мое появление. А герцог де Куаньи вот кто: он – один из троих главных возлюбленных австрийской султанши.
– Да, это презабавно! – сказал сапожник. – Какой вы потешный чудак! Так у королевы есть возлюбленные?
– Да ведь вы слыхали, что сказал герцог Безанваль, когда австриячка невестой выезжала в Париж: «Смотрите, мадам, эти сотни тысяч парижан – это все ваши обожатели!» Вот она и хочет, чтобы слова герцога оправдались. Подождите, и до вас дойдет очередь! И вы будете нежно прижимать к губам ручку прекрасной австриячки!
– Будьте уверены, – сердито сказал Симон, – что я так крепко сжал бы ее, что на ней навеки остался бы след! Ну а кто же двое ее других возлюбленных?
– Второй – прекрасный де Адемар, дурак, пустомеля и фат. Но он красив и умеет веселиться, а наша королева любит смеяться и вообще порядочная гуляка; про это всякий знает, особенно со времени ноктурналий на дворцовой террасе.
– Ноктурналии? Это что такое?
– Эх вы, невинное дитя! Так называются ночные прогулки, которые наша королева устраивала по ночам, при лунном свете, на дворцовой террасе в Версале. Да, да, превеселое было время! Железные решетки парка не запирались, и возлюбленный народ мог свободно гулять вместе с королевой при лунном сиянии и звуках музыки, скрытой в кустах. Спросите-ка красавца унтер-офицера уланского полка; он расскажет вам, как сам сидел там на скамейке между двумя прелестными женщинами в белых платьях и хохотал с ними так, что животики надорвал! Он расскажет вам, как Мария-Антуанетта умеет смеяться и какие знатные шуточки можно выкидывать с ее королевским величеством!
– Эх, хотелось бы мне познакомиться с ним, да чтобы он рассказал мне все это! – произнес Симон, сжимая кулаки. – Во всяком случае меня радует, когда я слышу что-нибудь дурное про австриячку, потому что я ненавижу ее так же, как и всю придворную дрянь. С чего они рядятся да чванятся, когда мы должны работать и мучиться с восхода до заката? Я думаю, что и сам я ничем не хуже короля, и моя жена была бы так же красива, как королева, если бы носила такие же красивые платья да разъезжала в золотых каретах! Почему они знатные, а мы нет?
– Я вам скажу почему: потому что мы позволяем им считать себя какими-то богами, пред которыми народ, или, как они говорят, чернь, должен стоять на коленях! Но… терпение! Терпение! Наступит час, когда народ принудит их самих стоять на коленях и молить о помиловании! Но милости они не добьются: они понесут наказание!
– Ух, хотел бы я, чтобы это время уже наступило и чтобы я видел, как их накажут! – сказал сапожник.
– Это, милый мой, зависит от вас самих. Вы можете приложить руку к тому, чтобы это время пришло скорее.
– Но что я могу сделать? Скажите! Я на все готов.
– Вы можете помочь точить нож, чтобы он потом хорошо резал, – с злою усмешкой сказал незнакомец. – Нечего смотреть на меня с таким удивлением, брат мой! В добром, старом Париже уже много таких точильщиков, и, если вы хотите примкнуть к нашему обществу, приходите сегодня вечером ко мне; я познакомлю вас с нашим кружком.
– Где же вы живете и как вас зовут? – спросил сапожник, сгорая от нетерпения.
– Я живу в конюшнях графа д’Артуа, а зовут меня Жан-Поль Марат.
– В конюшне! Честное слово, я не думал, что вы – рейткнехт или кучер! Удивительный, должно быть, вид, когда вы сидите на лошади!
– Вы думаете, что жабе это не к лицу? Вы правы, брат Симон! Но я с лошадьми не имею никакого дела: я лечу конюхов, добрый брат Симон, и могу уверить вас, что доктор я довольно искусный и починил уже не одного конюха и жокея, так как заведующий конюшнями милого графа д’Артуа имеет привычку прибегать к бичу. Итак, вы можете прийти ко мне сегодня не только для того, чтобы я ввел вас в хорошее общество, но и в том случае, если вы больны. Я лечу братьев из народа даром, так как братья не должны брать друг с друга деньги. Прощайте, жду вас! Да, вот еще что: так как мегера, охраняющая мое жилище, не знает вас, то, наверное, скажет вам, что меня нет дома; поэтому вот вам наш лозунг: «Свобода, равенство, братство». Прощайте!
Марат отвратительно осклабился, кивнул сапожнику и быстро, несмотря на хромоту, направился через площадь к ратуше. Симон смотрел ему вслед, забавляясь этой комичной фигурой в высокой черной шляпе, как вдруг ему пришла в голову одна мысль, и он поспешно догнал уходившего.
– Ну, что такое? – спросил Марат, опуская руку в карман. – Разве я что-нибудь забыл? Платок у меня в кармане, также и кусок хлеба, составляющий мой завтрак.
– Вы забыли назвать мне третьего возлюбленного австриячки, а я, должен вам признаться, собираюсь сегодня зайти в свой клуб и очень хотел бы рассказать там обо всем этом. Такая миленькая историйка про австриячку произведет в клубе сенсацию.
– О, это радует меня! – сказал Марат, улыбаясь во весь рот. – Очень мило, что у вас есть клуб, в котором с удовольствием слушают такие рассказы насчет королевы и двора, и для меня будет истинным удовольствием снабжать вас ими для вашего клуба. Ведь очень полезно знакомить милый, добрый народ с тем, что делается в Версале и в Сен-Клу.
– А что такое бывает в Сен-Клу? – спросил Симон. – Ведь это только старый, забытый замок короля?
– Будьте уверены, что теперь там опять будет очень оживленно! Наш обожаемый король подарил его своей супруге, чтобы она там устроила себе гарем больших размеров, так как Трианон для нее недостаточно велик. Да, да, прекрасный замок французских королей, величественный Сен-Клу, отдан теперь австриячке в полное и наследственное владение. И знаете, что она сделала? Она велела прибить у ворот доску, на которой написано, под какими условиями можно народу входить в парк Сен-Клу.
– Это не ново! – с нетерпением перебил Симон. – Такие объявления существуют во всех королевских садах: именем короля запрещается портить сады и сходить с дорожек.
– А в Сен-Клу написано: «Именем королевы»! Так и написано: «Именем королевы»! Значит, у нас не только один король сидит на шее со своими приказами и указами, но еще явилась новая властительница Франции, которая предписывает нам законы! «Именем королевы»! Ведь это выходит государство в государстве! Трианона ей мало, теперь ее руки захватили уже Сен-Клу! Она уже делает новое покушение на народ, завоевывает новую арену для действий и так мало-помалу захватит в свои сети всю Францию!
– Это низко, постыдно! – воскликнул Симон, потрясая кулаками.
– И это, брат мой, еще далеко не все! До сих пор мы видели в королевских дворцах людей, унизившихся до рабской службы, одетых в обезьяньи костюмы – ливрею короля; но в Сен-Клу все служащие носят ливрею королевы, так что, войдя в парк, вы очутитесь уже не во Франции, а в австрийской провинции, где иноземка может устраивать себе гарем и выдумывать свои собственные законы, и так, что добродетельный и благородный народ не может даже возмущаться!
– Народ еще не знает об этом, брат, – с жаром возразил Симон, – ему еще неизвестны все выходки королевы!
– Так расскажите ему! Повторите в своем клубе все то, что я рассказал вам, и поставьте слушателям в обязанность распространять все услышанное среди своих друзей.
– О, так мы и сделаем! – весело заявил Симон. – Только вы все еще не назвали мне третьего возлюбленного королевы.
– Это де Безанваль, генерал-инспектор швейцарской гвардии, генерал-лейтенант армии, командор ордена Святого Людовика. Видите, стоит быть возлюбленным королевы: это помогает возвышаться. Пока жив был порочный король Людовик Пятнадцатый, Безанваль был только полковником швейцарской гвардии и лишь изредка принимал участие в оргиях, происходивших в Версале; теперь королева возвысила его. Теперь Сен-Клу и Трианон – арены пиршеств Марии-Антуанетты, и генерал Безанваль – первый у нее заправила. Ну, теперь вы знаете все, что хотели, не так ли?
– Да, благодарю вас, – ответил Симон. – Надеюсь, сегодня вечерком вы мне еще что-нибудь расскажете: ваши истории крайне занимательны!
– Расскажу; ведь королева старается, чтобы для таких рассказов всегда находился новый материал. Но сейчас у меня, к сожалению, нет больше времени.
– Знаю, знаю, вас ждут больные! Прощайте! До вечера.
Симон быстро свернул в одну из ближних улиц. Марат смотрел ему вслед с злой и торжествующей улыбкой.
– Так, так! – пробормотал он. – Вот каким путем вербуются борцы за свободу. Из этого сапожника выйдет хороший солдат, а своими рассказами он еще завербует нам целую роту. Торжествуйте, гордые Бурбоны! Воображайте себя в безопасности в своих раззолоченных замках, окруженных швейцарской гвардией! Придет день, когда маленький, безобразный, презираемый Марат, которого теперь никто не знает и который, словно ядовитая крыса, ползает в вашей конюшне, выступит против вас и вы, испуганные, дрожащие, падете во прах. Не проходит дня, чтобы мы не вербовали новых борцов, новых воинов в нашу народную армию, а эта наивная, безалаберная Мария-Антуанетта облегчает нам нашу задачу. Из ее детских выходок, немножко вывернув их и перевернув, легко выкраиваются постыднейшие пороки и бессовестнейшие преступления. А насчет переворачивания я – мастер! Эй, красавица королева, у тебя для защиты твои швейцарцы, которым ты платишь, а у меня – только один солдат, которому мне притом не нужно платить, это – клевета! И этот солдат победит всю твою швейцарскую гвардию и всю твою армию. Ведь на земле нет такого войска, которое могло бы бороться с клеветой… Ура! Да здравствует моя союзница – клевета!
II. Принцесса Аделаида
На обратном пути в Версаль королева была очень молчалива, и все старания герцогини Полиньяк разогнать тучи, омрачившие чистый, ясный лоб Марии-Антуанетты, остались тщетными. Бряцание оружия швейцарской гвардии, приветствовавшей возвращение королевы, вывело ее из глубокой задумчивости; она устремила взор на ребенка, лежавшего на коленях кормилицы, потом схватила его на руки и, крепко прижав его к груди, тихо сказала:
– Ах, дитя мое, милое дитя мое! О, если бы тебе всю жизнь пришлось слышать только такие радостные приветствия, какими встретил сегодня Париж твой первый выезд, и никогда не слыхать больше таких слов, какие говорил этот ужасный человек!
Королева забыла, что стоит в экипаже, что ее шталмейстер и лакеи ждут у открытой дверцы, а стража все еще стоит под ружьем. Герцогиня Полиньяк решилась напомнить своей августейшей подруге, что надо выйти из коляски. Мария-Антуанетта очаровательно улыбнулась и, легко выпрыгнув из экипажа, быстро взбежала с ребенком на руках на лестницу. Придворные дамы, состоявшие при особах принцессы Терезы и дофина, увели своих воспитанников. Кормилица и две статс-дамы королевы спешили за нею, неодобрительно качая головой. Вместо того чтобы в последней передней отпустить своих дам, Мария-Антуанетта прошла прямо в свои покои и заперла за собой двери.
– Что же нам делать? – с недоумением спросили дамы дежурного камергера, но тот только пожал плечами.
– Придется ждать, – сказала маркиза де Мальи, – может быть, ее величество соблаговолит вспомнить о нас и дозволит нам удалиться!
– А если королева забудет про нас, нам придется простоять здесь весь день, пока ее величество будет разыгрывать в Трианоне свои пастушеские комедии, – возразила принцесса Шимэ.
– Разумеется, – подхватил граф де Кастино, – сегодня в Трианоне как раз праздник, и очень возможно, что мы простоим здесь весь день, подобно статуям жен Лота.
– Нет, вот где наше освобождение, – шепнула маркиза де Мальи, указывая на экипаж, показавшийся вдали, у решетки Версаля. – Вчера в интимном собрании у графа Прованского было решено, что принцесса Аделаида еще раз попытается образумить ее величество и внушить ей, что приличествует и что не приличествует королеве Франции.
В это время карета дочери Людовика XIV, тетки короля, въехала на дворцовый двор. Впереди скакали два пикера, на запятках стояли два лакея, а на каждой подножке паж в роскошном костюме. Карета остановилась перед подъездом, предназначенным только для членов королевской фамилии, и из нее вышла дама с бесформенной фигурой и угрюмым, изрытым оспой лицом, на котором не выражалось ничего, кроме холодного высокомерия и гордого равнодушия. Тяжело опираясь на плечо пажа, она начала медленно подниматься по лестнице. Предшествовавший ей скороход постучал длинным жезлом в двери первой приемной и громким голосом провозгласил:
– Мадам Аделаида!
Лакей повторил его доклад и отворил дверь второй приемной; там доклад был повторен собственными камер-лакеями королевы и так достиг наконец до комнаты, в которой находилась Мария-Антуанетта.
Королева слегка вздрогнула, и по ее ясному лицу пробежала тень неудовольствия. Она обняла и нежно поцеловала герцогиню Полиньяк и сказала:
– Уходите, дорогая моя, но будьте готовы ехать со мной в Трианон, как только мадам Аделаида, то есть мадам угрюмость, оставит меня. Королеве придется потерпеть полчаса, но зато Мария-Антуанетта отправится потом со своей милой Жюли в Трианон и проведет там счастливо полдня с мужем и друзьями.
– Чтобы наградить этих друзей бездной блаженных воспоминаний, – добавила молодая герцогиня, грациозно наклоняясь для поцелуя над рукой королевы, а затем направилась на половину «детей Франции».
Двери распахнулись, и две статс-дамы, войдя, сделали положенные реверансы. Затем, приблизившись на один шаг, снова поклонились, склонили голову и в один голос доложили: «Мадам Аделаида!» – после чего встали по сторонам дверей. Принцесса переступила порог; за ее спиной виднелись две ее фрейлины, камергер, гофмейстер, пажи и два шталмейстера королевы; все они оставались в первой приемной.
Стоя посреди комнаты, Мария-Антуанетта чуть-чуть улыбалась этому изобилию почета, окружавшего появление принцессы королевского дома.
Мадам Аделаида сделала несколько шагов, но так как королева не двинулась ей навстречу, как она ожидала, то ее лицо омрачилось.
– Я, может быть, некстати? – спросила она с кисло-сладкой улыбкой. – Королева, вероятно, собирается в Трианон, куда, как я слышу, уже отправился король?
– Ваше высочество уже слышали об этом? – улыбаясь, спросила королева. – Я изумляюсь, какой еще тонкий слух у вашего высочества; не то что мои молодые уши, которые не слышали громкого шума, произведенного приездом вашего высочества. Я радостно приветствую неожиданное появление любящей и благосклонной тетушки.