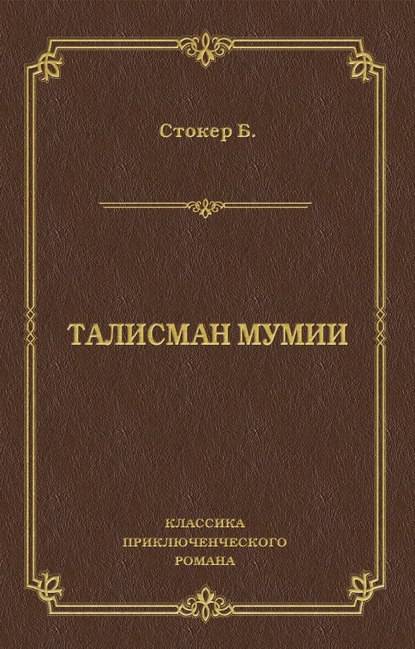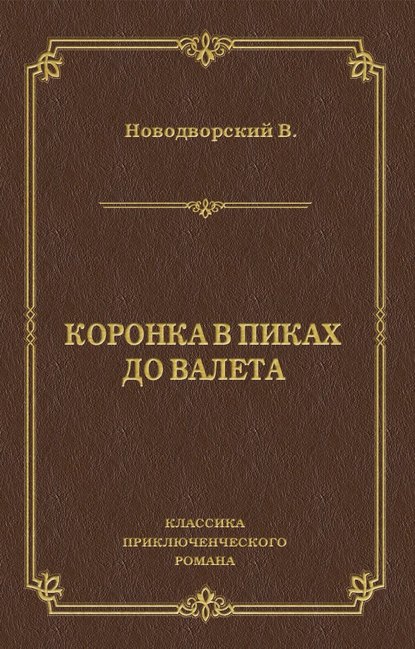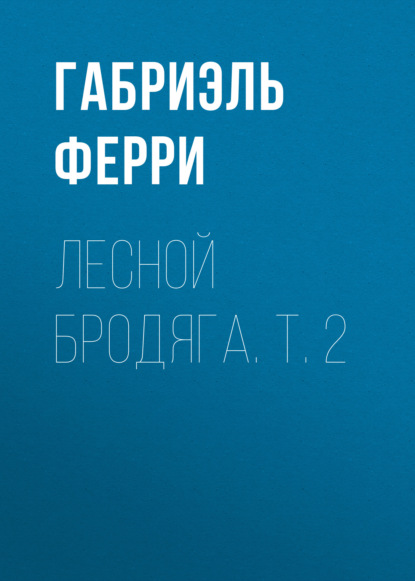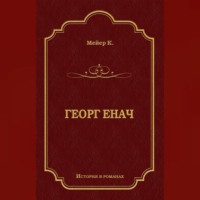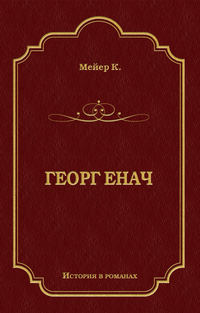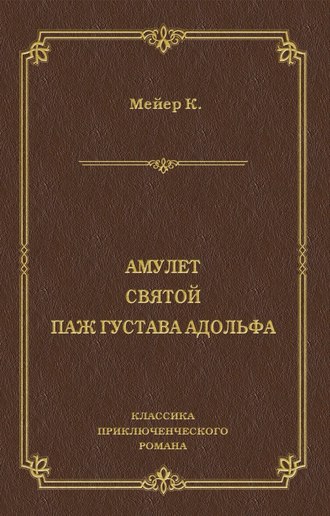
Полная версия
Амулет. Святой. Паж Густава Адольфа
– Логично? – спросил Боккар. – Что значит логично?
– Логично то, что не противоречит само себе, – вымолвил советник, которого, по-видимому, забавляла моя горячность.
– Божество всемогуще и всеведуще, – продолжал я с уверенностью победителя, – в Его воле – предвидеть и не предотвращать, поэтому наша судьба предрешена с колыбели.
– Я бы с удовольствием опроверг вас, – сказал Боккар, – если бы только смог припомнить аргумент моего дяди! У него был убедительнейший аргумент против этого…
– Вы бы доставили мне большое одолжение, – заметил советник, – если бы постарались вспомнить этот прекрасный аргумент.
Фрибуржец налил себе полный бокал вина, медленно опорожнил его и закрыл глаза. После некоторого раздумья он весело сказал:
– Если господа обещают мне не прерывать меня и дать мне возможность беспрепятственно развивать мои мысли, я надеюсь, господин Шадау, что вы вашим кальвинистским Провидением с колыбели обречены на муки ада, – впрочем, сохрани меня Бог от такой невежливости, – предположим лучше, что осужден на мучения я; однако я ведь, слава богу, не кальвинист.
Он взял несколько крошек прекрасного пшеничного хлеба, вылепил из них человека и поставил его на свою тарелку, говоря:
– Вот стоит обреченный с рождения на адские муки кальвинист. Теперь внимание, Шадау! Верите вы в десять заповедей?
– Что вы говорите! – возмутился я.
– Ну-ну, ведь можно же задать вопрос. Вы, протестанты, ведь упразднили много старого! Итак, Бог повелевает кальвинисту: «Делай это! Не делай того!» Не жестокий ли обман такая заповедь, если человеку уже заранее предначертано не иметь возможности творить добро и быть вынужденным творить зло? И такую нелепость вы приписываете высшей мудрости? Это так же ни к чему, как сие творение моих пальцев!
И он щелчком сбил хлебного человечка с тарелки.
– Недурно! – выразил свое мнение советник.
В то время как Боккар старался не проявлять своего чувства удовлетворения, я поспешно взвешивал возражения, но в данный момент ничего подходящего не приходило мне в голову, и я сказал с некоторым стыдом и недовольством:
– Это темный и трудный догмат, который нелегко разъяснить. Впрочем, вовсе не необходимо признавать его, чтобы осудить папизм, очевидные злоупотребления которого вы сами, Боккар, не сможете отрицать. Вспомните о безнравственности попов!
– Да, среди них попадаются скверные личности, – подтвердил Боккар.
– Слепая вера в авторитет…
– Благодеяние для человеческой слабости, – прервал он меня. – В государстве и в церкви, как в самом маленьком судебном деле, должна быть последняя инстанция, дальше которой нельзя идти.
– Чудотворные реликвии!
– Исцеляли же тень святого Петра и плат святого Павла больных, – очень спокойно возразил Боккар, – отчего же мощи святых не могут творить чудеса?
– А это дурацкое поклонение Деве Марии?..
Не успел я выговорить эти слова, как ясное лицо фрибуржца изменилось, кровь бросилась ему в голову, он покраснел, вскочил со своего кресла и схватился за шпагу, восклицая:
– Вы хотите лично оскорбить меня? Если таково ваше намерение, обнажайте оружие!
Девушка тоже испуганно приподнялась со своего кресла, а советник умиротворяюще протянул обе руки к фрибуржцу. Я был крайне удивлен неожиданным действием моих слов, но не терял присутствия духа.
– О личном оскорблении тут не может быть и речи, – спокойно сказал я. – Я не подозревал, что вы, Боккар, человек, во всем обнаруживающий светскость и образованность и к тому же, как вы сами говорите, проявляющий мало интереса к вопросам религии, в этом единственном пункте проявите такую страстность.
– Разве вы не знаете, Шадау, что известно не только в области Фрибурга, но и далеко за ее пределами, что Эйнзидельнская Божья Матерь явила чудо мне, недостойному?
– Нет, уверяю вас, – возразил я. – Садитесь, дорогой Боккар, и расскажите нам об этом.
– Это известно всему миру и даже изображено на памятной доске в самом монастыре. На третьем году жизни я тяжко заболел, и следствием болезни явился полный паралич. Все средства оказывались бесполезными, ни один врач не мог помочь мне. Наконец, моя милая добрая мать ради меня предприняла босиком паломничество в Эйнзидельн. И вот свершилось чудо милости Божьей! С часу на час мне становилось легче, я окреп и оправился, и теперь, как видите, стал человеком со здоровыми и прямыми руками и ногами! Только Эйнзидельнской Божьей Матери я обязан тем, что могу радоваться своей молодости, а не влачу своих дней ненужным, безрадостным калекой. Теперь вы поймете, дорогие собеседники, и найдете естественным, что я на всю жизнь обязан благодарностью моей заступнице и от всего сердца предан ей.
С этими словами он вытащил из-под куртки шелковый шнурок, который он носил на шее: на нем висел образок, и он набожно приложился к нему.
Шатильон, наблюдавший за ним со странным выражением, в котором насмешка сочеталась с умилением, начал с обычной своей любезностью:
– А как вы думаете, господин Боккар, каждая мадонна могла бы так счастливо исцелить вас?
– Конечно, нет! – возразил Боккар с оживлением. – Мои родные пытались найти помощь во многих местах, пока не постучались в верную дверь. Эйнзидельнская Божья Матерь – единственная в своем роде.
– Тогда, – продолжал старый француз с улыбкой, – легко будет примирить вас с вашим земляком, если только это еще необходимо при вашем добродушии и веселом нраве, примеры которого вы уже являли неоднократно. Господин Шадау к своему резкому осуждению культа Марии не забудет в будущем сделать оговорку: за почетным исключением Эйнзидельнской Богородицы.
– На это я охотно соглашаюсь, – сказал я, подражая тону старика, однако внутренне не особенно одобряя его легкомыслие.
Тут добродушный Боккар схватил мою руку и сердечно пожал ее. Разговор принял другой оборот, и вскоре молодой фрибуржец поднялся и пожелал нам покойной ночи, извиняясь за то, что завтра с раннего утра намеревается продолжать свой путь.
Только теперь, когда закончились волнующие разговоры, я стал более внимательно вглядываться в молодую девушку, которая с большим напряжением, молча следила за нашими речами, и изумился ее несходству с ее отцом или дядей. У старого советника было тонко очерченное, почти боязливое лицо, которое освещали умные темные глаза, то грустные, то насмешливые, но всегда выразительные. У юной девицы, напротив, были белокурые волосы, и ее невинное, но решительное лицо одухотворяли удивительно лучистые голубые глаза.
– Разрешите задать вам вопрос, молодой человек, – сказал советник. – Что именно влечет вас в Париж? Мы с вами одной веры, и, если я могу быть вам полезным, я к вашим услугам.
– Сударь, – отвечал я, – когда вы произнесли имя Шатильон, сердце мое забилось сильней. Я сын солдата и хочу изучать войну, ремесло моего отца. Я ревностный протестант и хотел бы сделать все, что в моих силах, для доброго дела. Достичь этих целей я могу, только если мне удастся служить и сражаться под предводительством адмирала. Если вы можете помочь мне в этом, вы мне окажете величайшую услугу.
Теперь девушка нарушила свое молчание и спросила:
– Разве вы так преклоняетесь перед господином адмиралом?
– Это первый человек в мире! – ответил я.
– Что ж, Гаспарда, – прервал меня старик, – при таких его прекрасных убеждениях ты, я думаю, замолвишь в пользу молодого человека словечко у твоего крестного.
– Почему же нет, – спокойно сказала Гаспарда, – если он на деле столь же доблестен, как кажется? Другой вопрос, принесет ли мое словечко пользу. Господин адмирал все это время, накануне войны с Фландрией, занят с утра до вечера, осажден просителями, не знает покоя, и я не уверена, есть ли в его распоряжении свободные места. Нет ли у вас рекомендации получше моей?
– Быть может, – ответил я, немного робея, – имя моего отца небезызвестно адмиралу. – Только теперь мне стало ясно, как трудно будет лишенному рекомендации чужестранцу получить доступ к великому полководцу. Я продолжал подавленным тоном: – Вы правы, сударыня, я чувствую, что мало приношу ему: лишь сердце и шпагу, каковых у него уже тысячи. Если б только брат его Дандело был жив! Тот был мне ближе, к тому я отважился бы пойти! С юных лет он во всем служил мне образцом: не полководец, но отважный воин; не государственный деятель, но стойкий единомышленник; не святой, но у него доброе и верное сердце!
Пока я говорил эти слова, Гаспарда, к моему удивлению, начала слегка краснеть, и ее загадочное для меня смущение все возрастало, пока краска не залила всего ее лица. Старый господин тоже как-то странно смутился и резко сказал:
– Почем вы знаете, был Дандело святым или нет? Однако меня клонит ко сну, пора разойтись. Когда вы приедете в Париж, господин Шадау, почтите меня своим посещением. Я живу на острове Святого Людовика. Завтра мы, вероятно, больше не увидимся. Мы на денек останемся отдохнуть в Мелене. Напишите мне только ваше имя в эту записную книжку. Прекрасно! Всего хорошего, спокойной ночи.
Глава IV
На второй вечер после этой встречи я въезжал в Париж через ворота Сент-Оноре и, усталый, постучался в дверь ближайшего, находившегося, быть может, на расстоянии ста шагов постоялого двора.
Первая неделя прошла в осмотре огромного города и в напрасных поисках одного из соратников моего отца по оружию, о смерти которого я узнал лишь после долгих расспросов. На восьмой день, с бьющимся сердцем, я отправился к жилищу адмирала, находившемуся на узенькой улице невдалеке от Лувра.
Это было мрачное старинное здание, и привратник принял меня неприветливо, даже с недоверием. Я должен был написать свое имя на клочке бумаги, который он отнес своему господину, и лишь тогда меня впустил; я прошел через большую приемную, где было много народу, воинов и придворных, пристально разглядывавших проходившего мимо них, и вступил в маленькую рабочую комнату адмирала. Он сидел и писал и жестом пригласил меня обождать, пока не закончит письма. Я имел достаточно времени с умилением рассмотреть его лицо, которое до того я видел на одной очень выразительной гравюре, дошедшей до Швейцарии и врезавшейся мне в память.
Адмиралу было тогда около пятидесяти лет, но волосы его были белы как снег, а на впалых щеках играл лихорадочный румянец. На его мощном лбу, на сухих руках выступали синие жилки, и во всем его существе ощущалась глубокая сосредоточенность. Он походил на судью во Израиле.
Окончив работу, он подошел ко мне в нишу окна и пронизывающе устремил на меня свои большие голубые глаза.
– Я знаю, что привело вас ко мне, – сказал он, – вы хотите служить доброму делу. Если война вспыхнет, я дам вам место в моей немецкой коннице. А пока… Вы владеете пером? Вы знаете французский и немецкий языки?
Я утвердительно поклонился.
– Пока я дам вам работу у себя. Вы можете принести мне пользу! Добро пожаловать. Я буду ждать вас завтра в восьмом часу. Будьте точны.
Он отпустил меня жестом и в то время, как я склонился перед ним, очень приветливо добавил:
– Не забудьте навестить советника Шатильона, с которым вы познакомились в пути.
Когда я, направляясь к своему постоялому двору, снова очутился на улице, я начал вспоминать все только что пережитое, и мне стало ясно, что для адмирала я не был незнакомец. У меня не оставалось ни малейших сомнений, кому я был обязан этим. Столь легкое достижение цели, казавшейся мне трудной, было в моих глазах хорошим предзнаменованием, а мысль о предстоящей работе с самим адмиралом давала мне новое ощущение своей ценности, которого я не имел раньше. Все эти радостные мысли, однако, совершенно отступали на второй план перед чем-то, что меня одновременно привлекало и мучило, захватывало и тревожило: перед чем-то бесконечно неопределенным, в чем я не мог дать себе отчет. Наконец, после долгих бесплодных поисков, мне вдруг стало ясно, в чем дело. Это были глаза адмирала, следившие за мной. Почему они преследовали меня? Потому, что это были ее глаза. Никакой отец, никакая мать не могли вернее передать своему ребенку это зеркало души! Меня охватило несказанное смятение. Может ли это быть, чтобы ее глаза были от него? Возможно ли это? Нет, я ошибаюсь. Моя фантазия сыграла со мной скверную шутку. И, чтобы опровергнуть эту увлекающуюся особу при помощи действительности, я решил поспешно вернуться в мою гостиницу, вслед за тем отправиться на остров Святого Людовика и разыскать моих знакомых из «Трех лилий».
Час спустя я входил в узкий и высокий дом парламентского советника, находившийся у самого Святого Михаила и одной стороной выходивший на набережную Сены, а другой – на готические окна маленькой церкви в переулке. Двери первого этажа были заперты. Когда же я поднялся на второй этаж, я неожиданно очутился перед Гаспардой, с чем-то возившейся у открытого ящика.
– Мы вас ждали, – приветствовала она меня, – я провожу вас к дяде, он будет очень рад видеть вас.
Старик сидел, удобно устроившись в кресле и перелистывая большой фолиант, поставленный на приспособленную для этого боковую ручку. Вся большая комната была переполнена книгами, расставленными в дубовых шкафах, украшенных красивой резьбой. Статуэтки, монеты и гравюры, со вкусом расположенные, оживляли это мирное, уютное убежище мыслителя. Ученый старец, не вставая, предложил мне пододвинуть к нему кресло, приветствовал меня как старого знакомого и с видимым удовольствием выслушал повествование о моем поступлении на службу к адмиралу.
– Дай бог, чтобы ему удалось это сделать на сей раз, – сказал он. – Для того чтобы дать нам, протестантам, к сожалению, представляющим меньшинство по сравнению с остальным населением нашей родины, дышать свободно без проклятой гражданской войны, существует два пути, только два: или переселиться за океан, в открытую Колумбом землю, – эту мысль долгие годы лелеял адмирал, и, если бы не представилось неожиданных препятствий, кто знает! – или же воспламенить национальное чувство и начать большую внешнюю, исцеляющую человеческую войну, в которой гугенот и католик, сражаясь бок о бок, объединенные любовью к родине, стали бы братьями и забыли бы про свои религиозные распри. К этому стремится теперь адмирал, а я, миролюбивый человек, не могу дождаться объявления этой войны. Освобождая Нидерланды от гнета испанцев, наши католики против воли будут вовлечены в поток свободы. Но время не терпит! Верьте мне, Шадау, над Парижем висят тяжелые тучи! Гизы хотят предотвратить эту войну, ибо она сделала бы молодого короля самостоятельным и не нуждающимся в их советах, королева-мать двулична – она, во всяком случае, не ведьма, какой ее считают горячие головы нашей партии, но она ведет неопределенную политику изо дня в день, эгоистично преследуя только интересы своего дома. Она безразлична к славе Франции и, не имея чутья к добру и злу, способна на противоположные решения, и какая-нибудь случайность может определить ее выбор. Она труслива и изменчива, и потому от нее можно ожидать самого худшего! Центр тяжести в том, что молодой король расположен к Колиньи, но этот король… – Здесь Шатильон вздохнул. – Впрочем, я не хочу влиять на ваше собственное суждение. Так как он часто посещает адмирала, вы его увидите своими глазами.
Старик уставился в пространство, потом, вдруг меняя тему разговора и открывая заглавный лист фолианта, спросил меня:
– Знаете ли вы, что я читаю? Посмотрите!
Я прочел по-латыни: «География Птолемея, изданная Мигелем Серветом».
– Неужели это сожженный на костре в Женеве еретик? – спросил я, пораженный.
– Он самый. Он был выдающимся ученым, поскольку я могу судить – даже гениальным, и его открытия в области естественных наук принесут потом, быть может, больше пользы, чем его богословские рассуждения. А вы тоже сожгли бы его, если бы заседали в женевской ратуше?
– Конечно, сударь! – ответил я убежденно. – Подумайте только об одном: что было опаснейшим орудием, которым паписты боролись против нашего Кальвина? Они упрекали его в том, что учение его есть отрицание Бога. И вот в Женеву является испанец, называет себя другом Кальвина и издает книги, в которых отрицает Троицу, как если бы это был совершенный пустяк, и злоупотребляет евангелической свободой. Разве Кальвин не был обязан, ради тысяч и тысяч страдавших и проливавших свою кровь за истинное слово Божье, изгнать этого ложного брата перед глазами всего мира из лона евангелической церкви и передать его в руки светского судьи, для того чтобы его не могли смешивать с нами и чтобы мы невинно не пострадали за чужое безбожие?
Шатильон грустно улыбнулся и сказал:
– Так как вы столь прекрасно обосновали свое суждение о Сервете, вы должны доставить мне удовольствие и провести этот вечер со мной. Я подведу вас к окну, выходящему на часовню Святого Лаврентия, по соседству с которой мы имеем удовольствие жить, где знаменитый францисканец, патер Панигарола, сегодня вечером будет произносить проповедь, тогда вы услышите, как судят о вас. Этот патер силен в логике и к тому же пламенный оратор. Вы не упустите ни одного из его слов – и получите большое удовольствие. Вы пока живете в гостинице? Я должен был позаботиться о постоянном помещении для вас, – что ты посоветуешь, Гаспарда? – обратился он к девушке, только что вошедшей в комнату.
Гаспарда весело ответила:
– Портному Жильберу, нашему собрату по вере, приходится прокармливать многочисленное семейство, и он был бы очень рад и польщен, если бы господин Шадау согласился занять его лучшую комнату. В этом еще то преимущество, что ревностный, но боязливый христианин смог бы под защитой смелого воина вновь отважиться посещать наше евангелическое богослужение. Я сейчас схожу к нему сообщить ему эту радостную весть.
С этими словами стройная девушка исчезла.
Как ни кратко было ее появление, я все-таки успел внимательно всмотреться в ее глаза, и снова меня охватило изумление. Неудержимая сила толкала меня найти разрешение этой загадки; теперь же я лишь с трудом удержал вопрос, который нарушил бы всякое приличие. Но старик сам помог мне, насмешливо спросив:
– Что вы находите особенного в этой девушке, что вы так пристально рассматривали ее?
– Нечто совершенно особенное, – решительно ответил я, – необыкновенное сходство ее глаз с глазами адмирала.
Советник отшатнулся, словно прикоснувшись к змее, и с принужденной улыбкой сказал:
– Разве такая игра природы невозможна, господин Шадау? Разве вы можете воспретить жизни создавать схожие глаза?
– Вы спросили меня, что особенного я нахожу в барышне, – возразил я хладнокровно, – на этот вопрос я вам и ответил. Теперь разрешите и мне задать вопрос. Так как я надеюсь, что и впредь буду иметь дозволение посещать вас и меня привлекает ваше расположение и ясный ум, то позвольте мне узнать, как мне называть эту прекрасную девушку. Я знаю, что ее крестный Колиньи дал ей имя Гаспарда, но вы еще не сказали мне, имею ли я честь говорить с вашей дочерью или с одной из ваших родственниц.
– Называйте ее как хотите! – хмуро ответил старик и снова начал перелистывать географию Птолемея.
Благодаря его странному поведению я окончательно уверился в том, что тут царит какая-то загадка, и начал строить самые смелые предположения. Адмирал опубликовал небольшую статью о защите Сен-Кантена, которую я знал наизусть. Заканчивал он ее довольно неожиданно несколькими таинственными словами, указывавшими на его переход к евангелической вере. В них говорилось о мирской греховности, к которой он, как сам признавался, тоже был склонен. Не имело ли рождение Гаспарды отношения к этому периоду доевангельской жизни? Я всегда строго относился к таким вопросам, но в данном случае мое впечатление было иным, я был далек от мысли осуждать человека за ложный шаг, который открывал мне невероятную возможность приблизиться к родственнице по крови моего лучезарного героя – и, кто знает, быть может, даже посвататься… В то время как я давал волю своему воображению, по моему лицу, вероятно, проскользнула счастливая улыбка, так как старик, украдкой наблюдавший за мной из-за своего фолианта, вдруг обратился ко мне с неожиданным оживлением:
– Если вам, молодой человек, доставляет удовольствие мысль, что вы нашли слабость в великом человеке, то знайте: он безупречен! Вы ошибаетесь! Вы в заблуждении!
Он поднялся, словно расстроенный, и начал шагать взад и вперед по комнате, затем он остановился рядом со мной, схватил меня за руку и, неожиданно меняя тон, сказал:
– Молодой друг, в это тяжелое время, когда мы, протестанты, зависим друг от друга и должны относиться друг к другу как братья, доверие возрастает быстро; между нами не должно быть недосказанного. Вы хороший человек, а Гаспарда – милое дитя; Боже сохрани, чтобы что-нибудь скрытое омрачило ваши встречи. Вы умеете молчать, я в этом уверен; притом же об этом уже идет молва, и вы могли бы узнать обо всем из недоброжелательных уст. Выслушайте же меня!
Гаспарда мне не дочь и не племянница, но она выросла у меня и считается моей родственницей. Ее мать, умершая вскоре после рождения ребенка, была дочерью одного немецкого рейтарского офицера, которого она сопровождала во Францию. Отец Гаспарды, – здесь он понизил голос, – Дандело, младший брат адмирала, удивительная храбрость и ранний конец которого вам небезызвестны. Теперь вы осведомлены. Называйте Гаспарду моей племянницей: я ее люблю как родное дитя. Пускай все это останется между нами, и будьте непринужденны в общении с ней.
Он смолк, и я не прерывал его молчания, потому что вся моя душа была полна услышанным. В это время, очень кстати для нас обоих, нас прервали и позвали ужинать, причем прелестная Гаспарда указала мне место около себя. Когда она передавала мне полный бокал и рука ее коснулась моей, меня охватила дрожь при мысли, что в этих юных жилах течет кровь моего героя. И Гаспарда также почувствовала, что я смотрю на нее другими глазами, чем незадолго до этого, она задумалась, и тень недоумения скользнула по ее лицу, но оно скоро вновь посветлело, когда она весело стала рассказывать мне, как лестно портному Жильберу дать мне приют в своем доме.
– Это важно, – сказала она, – что у вас под рукой будет христианский портной, который сможет изготовить вам платье по строгому гугенотскому покрою. Если крестный Колиньи, который теперь в такой высокой милости у короля, введет вас в придворную жизнь и прелестные фрейлины королевы-матери окружат вас, вы погибли бы, если бы не ваше строгое одеяние, которое удержит их в должных границах.
Во время этого оживленного разговора, при каждом перерыве, мы слышали с улицы то тягучие, то резкие звуки, походившие на отрывки речи, и когда во время случайного молчания целая фраза почти полностью донеслась до наших ушей, Шатильон поднялся с досадой.
– Я покидаю вас! – сказал он. – Жестокий петрушка там, напротив, выгоняет меня.
С этими словами он оставил нас одних.
– Что это значит? – спросил я Гаспарду.
– В церкви Святого Лаврентия, напротив, – сказала она, – читает проповедь патер Панигарола. Из наших окон можно видеть набожную толпу и странного патера. Дядю возмущает его болтовня, на меня нагоняют скуку глупости, которые он говорит, и я перестаю слушать его. Ведь даже в наших протестантских собраниях, где проповедуется одна только истина, мне трудно внимательно дослушивать речь до конца с тем благоговейным вниманием, с которым подобает относиться к священному слову.
Тем временем мы подошли к окну, которое Гаспарда спокойно открыла.
Стояла теплая летняя ночь, и освещенные окна часовни тоже были открыты. В узком просвете, высоко над нами, мерцали звезды. Патер, стоявший на кафедре, молодой бледный францисканский монах, с южными пламенными глазами и судорожной мимикой, вел себя так необыкновенно, что сначала вызвал улыбку на моем лице; однако вскоре его речь, из которой не ускользало от меня ни одного слова, завладела всем моим вниманием.
– Христиане, – призывал он, – что такое терпимость, которой требуют от нас? Есть ли это христианская любовь? Нет, скажу я, трижды нет! Это проклятия достойное безразличие к судьбе наших братьев! Что бы вы сказали о человеке, который, увидев другого спящим на краю пропасти, не разбудил бы и не оттащил бы его? А между тем в данном случае речь идет лишь о жизни и смерти тела. Насколько меньше права имеем мы безжалостно предоставить нашего ближнего своей судьбе, когда речь идет о вечном спасении или вечной гибели! Как? Разве возможно жить рядом с еретиками и не вспоминать, что души их находятся в смертельной опасности? Именно наша любовь к ним заставляет нас призвать их к спасению и, если они упорствуют, принудить к спасению, а если они неисправимы, истребить их, дабы они своим дурным примером не втянули своих детей, соседей и сограждан в огонь вечный! Потому что христианский народ – это тело, о котором сказано: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его! Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и отбрось ее, ибо лучше, чтобы погиб один из членов твоих, чем все тело твое было ввергнуто в огонь вечный!»