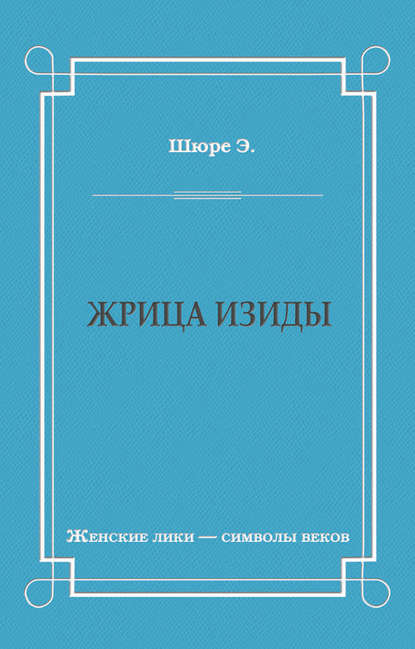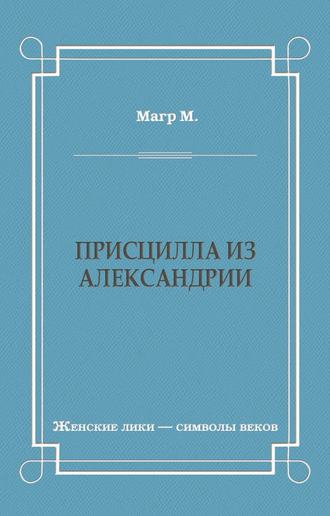
Полная версия
Присцилла из Александрии
Он не знал, что в эти секунды решал вопрос о жизни и смерти сорока тысяч евреев – своих александрийских единоверцев.
Если бы он это знал, то упал бы во прах, моля Бога оставить ему его смирение, которым он всегда отличался, и дать спокойно торговать свечным воском в самой скромной лавчонке на самой узенькой улочке в Дельтском квартале.
Но человеку не известна его судьба, особенно когда он так простодушен и невежествен, как Амораим.
Он не любил долго выбирать. Когда в его голове возникали два решения, он всегда выбирал то, которому суждено было иметь печальные последствия.
Как бы далеко он ни заглядывал в свои воспоминания, он видел, что его всегда окружали неудачи, которые следовали за ним, как тень. Ребенком он во время игры сломал ногу и остался хромым. Отправившись в паломничество в Иерусалим, он подхватил злокачественную лихорадку в Яффе, где высадился с корабля. Там он пролежал три месяца у одного рыбака, дом которого сгорел во время его выздоровления, поэтому вынужден был вернуться в Египет, так и не приложившись к месту, где некогда возвышался храм.
Его жена умерла, родив ребенка, который не пережил ее. Он был арестован по подозрению в краже, потому что его приняли за другого Амораима, который был на него похож, и ему лишь с большим трудом удалось доказать свою невиновность. Он был некрасив и косноязычен. У него был маленький участок земли в окрестностях Александрии, но в прошлом году град уничтожил его жатву; это был какой-то необыкновенный град, который не тронул полей его соседей, но ограничился лишь маленьким квадратом его владения, точно сам Господь Бог пожелал подчеркнуть свою особую немилость к недостойному созданию. В довершение всех бед, раб, обслуживающий это поле, умер, и Амораим лишился последнего дохода со своего маленького имения.
Но он привык к ударам судьбы. Каждый раз он со все большей покорностью склонял голову. Он чувствовал, что его преследует злая сила. Вот почему, боясь последствий, он старался как можно меньше действовать. Он редко выходил из дома. Он испытывал тревожный страх, продавая свечи своим малочисленным покупателям, и, делая это, всегда произносил про себя молитву, чтобы пламя этих свечей освещало только счастье его ближнего.
Он остался добрым и кротким. Он не знал зависти, и радость для него заключалась в служении другим. Он не пенял на несправедливость своей участи. Но иногда наивно пытался обойти свою судьбу. Именно это он и сделал в тот вечер.
– Я пойду по улице Садов, – выразил он свое решение почти вслух.
И зашагал. Но, сделав два-три шага, он повернул назад, решив, что таким образом обманул враждебные силы, и направился прямо по Высокой улице, в конце которой начинался еврейский квартал.
Он споткнулся и едва не упал. Протянув руку, он нащупал что-то горячее и влажное. Он коснулся бороды, шеи, человеческого туловища. При неверном свете звезд он увидел кровь на руке. Кто-то лежал здесь недвижно.
Он наклонился и узнал лицо некоего Гиероса, известного в Александрии христианина, который имел школу и преподавал теологию.
Первая мысль Амораима была – бежать. Если обход солдат застигнет его возле этого человека, который был, вероятно, убит, как он докажет, что не он убийца? По делам, происходившим в тесных границах их квартала, евреев судил их этнарх, но убийство христианина было подсудно императорскому трибуналу, и еврей, попавший туда, никогда не выходил оправданным.
Он пошел по Высокой улице, но сейчас же в его ушах прозвучало имя, произнесенное суровым тоном:
– Амораим!
Это он сам окликнул себя. Хотя ему никогда ничего не удавалось, он поставил себе за правило, чтобы никогда себя не упрекать, исполнять лишь то, что его совесть полагала справедливым.
А оставить мертвеца в канаве было несправедливо. Кругом все окна были закрыты. Надо было, конечно, постучаться в христианский дом, чтобы попросить помощи. С большим трудом он взвалил тело на спину и заковылял по улице. Он вспомнил, что церковь Святого Марка была недалеко, а рядом с ней находился красный кирпичный домик, где жил псаломщик.
Гиерос был человек большой и тучный. Амораим, который не был слишком силен, спотыкался под тяжестью своей ноши. Он шел потихоньку, маленькими шагами.
«Это за твои грехи, Амораим, Господь послал тяжесть на твои плечи. Ты не был ни достаточно набожным, ни достаточно смиренным».
Что-то текло по его уху, и это казалось ему более теплым, чем собственный пот. Несколько раз ему приходило в голову отказаться от своей затеи и положить тело у стены. Он вспомнил, подвигаясь вперед, что этот самый Гиерос ненавидел евреев и несколько раз публично выступал против них.
«Амораим, иди, Амораим!»
Как далеко эта церковь Святого Марка! Она как будто отступала назад на темном горизонте. Теперь ему казалось, что она кружилась вокруг него среди фарандолы колоннад и обелисков.
«Смелее, Амораим, чтобы исполнить доброе дело, которое готовит беду для твоих соплеменников! Сегодня ночью старый праведный человек должен донести эту тяжелую ношу, этот труп для того, чтобы восторжествовала несправедливость».
Амораим остановился перед узким окошком, едва не упав от усталости. Он дышал изо всех сил. Затем прислонил тело Гиероса к стене и постучал в ставень. Он стучал долго, ибо церковный сторож спал очень крепко.
Амораим услышал наконец ворчание человека, доносившееся изнутри дома. Ставень открылся, и громадная голова Петра-сторожа, лысая и страшная, показалась в окне.
Но это уж было выше Амораимовых сил. Кто угодно, только не этот человек! Он знал о его дурной славе. Он всегда сворачивал в сторону, встречая его на улице. Он боялся его, боялся скверны его дыхания, боялся зла, которое исходило от него благодаря взгляду маленьких глаз.
Впрочем, надо ведь было оказать помощь христианину. А он был на пороге обители другого христианина.
– Гиерос! Это Гиерос, которого убили! – сказал Амораим ошеломленному Петру.
И, подстегиваемый ужасом, спасаясь от злой судьбы, которая теперь становилась уже навсегда неизбежной, он бросился бежать и исчез в ночи.
Петр, открыв дверь, успел различить, что убегавший был хромой человек, а заметив его широкие, как крылья, рукава и квадратную шапку, сказал:
– Да ведь это еврей!
Епископ Кирилл совмещал в своей душе пылкую веру, глубокую посредственность и безграничную любовь к богатству. Он был красноречив, ибо оратору не надо иметь много мыслей, и легко воодушевлял толпу, потому что своим высоким ростом, длинной бородой и голубыми глазами походил на изображение первых апостолов Христа. Он был лишен всякой чувствительности, хотя и обладал сангвиническим темпераментом и, вследствие этого, был подвержен приступам внезапного гнева, когда грубость его натуры давала себе полный выход. Он умел ненавидеть и был безжалостен к тем, кто думал иначе, чем он. Золото возбуждало в нем физическое влечение, с которым он никогда не мог справиться.
С обнаженной головой, при свете факелов, которые несли шестеро вооруженных слуг, он крупно шагал, сжимая руку своего спутника, который с трудом поспевал за ним.
Петр повторял свои объяснения:
– Их, должно быть, целая шайка. Они, без сомнения, убили его в своем квартале, куда он отважился забрести. После чего они в насмешку принесли его к церкви. Я слышал, как они богохульствовали и смеялись, убегая.
– Да, – сказал Кирилл. – Это так. У Гиероса были странные привычки. Он любил гулять по ночам один. И вот куда это его привело!
И он бросил строгий взгляд на Петра, который тоже блуждал иногда ночью по тем же самым причинам, что и Гиерос, по Ракотийскому кварталу и темным припортовым улочкам.
– Я его поднял на улице и положил в своей комнате. Мне показалось, что у него раны на голове и груди. Наше тело, должно быть, содержит много крови, ибо три ступеньки моего крыльца были совершенно красные.
Кирилл, уйдя в свои мысли, возбуждал сам себя:
– Церковь погибнет, если она не будет защищаться тем же оружием, каким ее бьют. Ни Константин, ни Феодосий не осмелились пойти до конца, и вот почему мы оказались в таком положении. Терпимость становится преступлением, если она порождает преступления. Язычники и евреи готовы были бы вновь распять Христа, если бы они могли это сделать. У нас нет ни императора, ни папы. Есть только сила верующих. Каждый должен действовать по мере сил своих. Бог доверил мне людей смелых и страстных, воодушевлению которых я сам же способствовал. Неужели же я не воспользуюсь ими, чтобы защитить Господа Бога?
Он ударил по плечу Петра, который почтительно поддакивал ему.
– Время настало, – продолжал епископ, как бы охваченный внезапной мыслью. – Вот уже триста семьдесят лет, как все христиане были изгнаны из Александрии. Куда направились они тогда? В Ливийские пустыни, в Фиваиду. Вот чего требует справедливость! Подъявший меч от меча и погибнет! Если евреи убивают наших, мы вышлем их в те места, куда некогда были изгнаны христиане. Они найдут почерневшие камни, где когда-то наши мученики разводили свой огонь, и будут пить из тех же колодцев, если гнев небесный их не иссушил.
Вдруг воображение Кирилла как бы зажглось. Он представил себе еврейский квартал после насильственного изгнания его обитателей. Этот квартал не был велик, хотя и имел население в сорок тысяч человек по причине необычайной способности еврейского народа к скученной жизни. Но он содержал несметные богатства. Кирилл знал старинные предания, которые гласили, что, когда два с половиной века тому назад император Адриан сжег Иерусалим, могущественные фамилии Гамалиилов и Гилелей разделили между собой сокровища храма, дворца Ирода и крепости Антония. Гамалиилы отправились к берегам Евфрата, но Гилелеи, которые были многочисленнее и владели большей частью сокровищ, прибыли в Александрию, обосновались возле восточного некрополя и положили начало еврейскому кварталу.
Кирилл знал также легенду, которая переходила из уст в уста среди портовых матросов и бедняков предместья.
Лет сто тому назад один карфагенский моряк, напившись, пошел гулять после захода солнца по Александрии. Сам не зная как, он достиг Дельтского квартала и теперь бродил наудачу среди маленьких перекрещивающихся улиц. По рассказам стариков, эти улицы были так узки, что иногда, вытянув руки, можно было коснуться обеих противоположных стен, и это позволяло моряку удерживать равновесие, когда он шатался. Он наткнулся на раскрытую дверь дома, которого впоследствии так и не смог найти, и переступил через порог. Ему показалось, что он попал на праздник или, может быть, погребение, которое собрало в одной части дома господ и слуг вместе: ему почудилось, что он слышит бормотание голосов, подобное тому, что бывает, когда большое количество людей молится одновременно. Он спустился по лестнице, которая попалась ему на пути, и остановился, созерцая неожиданное зрелище.
Три канделябра, поставленные треугольником, освещали квадратную комнату, которая показалась ему сплошь выложенной золотом. Он заметил в больших бронзовых кувшинах груды монет всевозможных стран. Мехи из верблюжьей кожи были плотно набиты золотым песком, который, местами просыпавшись, усыпал землю, как простой песок. Там были слитки более темного золота, загораживающие отверстие галереи в глубине, где трепетали, теряясь из виду, золотые песчинки. Направо и налево были в беспорядке нагромождены предметы необыкновенного вида, подвешенные к потолку, прикрепленные к стенам, разбросанные по полу: это были рукоятки мечей, зеркала, диски, массивные шары, крупные ожерелья – они переливались желтым блеском рядом со статуями, исполненными в натуральную величину, с золотыми лицами, золотыми одеяниями и цоколями из того же металла. Посредине возвышалось нечто вроде алтаря, перед которым стоял сверкающий золотой подсвечник. И на алтаре, как на священной дарохранительнице, покоился ковчег, изношенный, стершийся от времени, украшенный голубыми сапфирами, с четырьмя большими золотыми кольцами по бокам: крышка его имела с обеих сторон по херувиму из массивного золота – они стояли друг против друга с распростертыми крыльями. Это был тяжелый, древний дивный ковчег из позеленевшего золота, золота тысячелетнего, так отполированного веками поклонений, пожаров и скитаний, что оно уже не блестело, но испускало таинственное сияние святости.
Пьяный матрос, внезапно отрезвев, подумал об опасности, которой он подвергнется, если будет схвачен в этом зале, перед этими баснословными сокровищами. Он потихоньку выбрался наверх и вышел на улицу.
Впоследствии он таинственно исчез. Этот конец придал веру его неправдоподобному рассказу. Полагали, что евреи убили человека, который мог найти место, где хранились их сокровища.
Кирилл вспомнил эту историю. Она подтверждалась другими фактами, которые он знал. Поэтому святыня Моисеева племени, святая святых, ради чего царь Соломон воздвиг из порфировых глыб, скрепленных свинцом, храм на холме Мориа – ковчег, содержавший закон, ковчег, потускневший от южного солнца в изгнании, облитый волнами Красного моря, мог находиться в его руках, в подземельях Александрии.
Он вздрогнул от реальности этой мечты. Ирод-старший присоединил к богатствам династии Асмонеев чудовищные богатства Аравии, завещанные его отцом Гирканом.
Кирилл мог проследить судьбу еврейских сокровищ в продолжение осады и разрушения Иерусалима в эпоху Тита, до момента, когда Адриан сжег храм в последний раз. Ничего невероятного не было в том, что карфагенский матрос проник вечером в дом Гилелей, где втайне покоилось среди богатств Ирода святое святых царя Соломона.
И это золото могло принадлежать ему! Он не испытывал никаких угрызений совести, желая его так страстно. Он употребил бы большую часть этого золота на защиту церкви, поддержку монастырей и сооружение соборов. Ведь, в конце концов, он составлял с церковью одно целое. Будучи патриархом Александрии, он имел право взять золото, чтобы заботиться о своих единоверцах и строить им убежища. Золото было необходимо религии. Оно должно пойти на отливку потиров и дароносиц. Таинственное вино причастия нуждалось в чаше из чистого божественного металла. Подобно Коринфской и Библосской Афродите, изображения Девы Марии должны были состоять из цельной золотой глыбы.
Его видение было так реально, что, подобно карфагенскому матросу, он был почти ослеплен им. Он шатался как пьяный в золотистом тумане. Он испытывал такое ощущение, словно погрузился до лодыжек в рассыпанный золотой песок.
– Осторожно, – сказал Петр, – здесь кровь.
Они пришли.
Кирилл, наклонившись, увидел, что его сандалии запачкались.
– Он лежит за дверью, – прибавил Петр с некоторым смущением, сторонясь, чтобы пропустить Кирилла.
Но тотчас же у него вырвался крик изумления: трупа не было на том месте, где он его оставил.
Комната Петра была очень обширна и освещалась единственной свечой; ее пламя трепетало от ветра, который ворвался через оставленную открытой дверь. Комната была грязна, в ней царил беспорядок. Паутина затянула углы потолка и спускалась с железного фонаря, подвешенного к крюку. Грязная тряпка лежала на виду на столе. На середину комнаты был вытащен раскрытый деревянный сундук с грязным бельем и лохмотьями. Тысячи насекомых ползали по черному каменному полу среди объедков, которые не выметались. А в глубине находилась вавилонская кровать, громадная, пышная, вся покрытая позолотой, под пологом из ярко-малинового дамасского бархата, на четырех колоннах, покрытых скульптурой; оттуда спускались звериные шкуры, дорогие, но рваные меха и шелковые подушки, почерневшие от копоти.
Кирилл не успел удивиться контрасту между грязью комнаты и пышностью ложа, столь не подходящего для духовной особы. Прямо против себя он увидел прислонившуюся к стене, посиневшую человеческую фигуру, бледную пародию на того, кто был Гиеросом, преподавателем теологии; это был бескровный призрак с лицом, напоминающим просфору, с прозрачными глазами и руками, сквозь которые просвечивали кости.
Он в ужасе попятился к двери. Но человек, лишенный крови, разбитый последним усилием, осел под тяжестью собственного тела, дрожа губами, бледнее воска.
Тогда Кирилл понял, что это был сам Гиерос и что он превратился в бескровный призрак лишь для того, чтобы вся его пролитая кровь преобразилась в золото для вящей славы Христа.
Он подошел к нему, стремясь обрести уверенность в подозрении, и стал на колени возле умирающего.
Петр последовал его примеру и приподнял качающуюся от слабости голову Гиероса.
– Это евреи? Тебя убили евреи? Говори!..
Голова, еще теплившаяся жизнью, качнула справа налево в знак отрицания.
– Я – епископ Кирилл. Я дам тебе отпущение грехов. Скажи мне, кто тебя поразил?
Восковой рот задрожал и произнес несколько слабых звуков. Еле внятная вибрация слогов достигла слуха обоих мужчин. Это было как бы дуновение, но в этом дуновении они уловили слова, подобие фразы.
– Нет! Не евреи! Христиане! Никанор из Эфеса, его любовница Олимпия… На Высокой улице… Это они меня убили!.. _
И голова заколебалась снова, прежде чем стать совершенно неподвижной. Кирилл машинально бормотал отходную, когда раскрылась дверь и на пороге появился человек.
Он был высокий, полный, с птичьей головкой, не соответствующей всей его фигуре. Он подошел, с недоуменным и скучающим видом, по очереди окинув взглядом стоящего Петра, коленопреклоненного епископа, мерзкую комнату и пышную кровать. Это был префект Орест, которого Кирилл приказал спешно вызвать. Он нервно потирал свои выхоленные и унизанные перстнями руки. На улице слышался звон оружия.
– Ну, – сказал он, – Гиероса убили. Я всегда думал, что это случится. Прокуратор Ракотийского квартала предупреждал меня несколько дней тому назад об опасности, грозящей человеку с его репутацией…
Он не докончил. Кирилл внезапно выпрямился. Его решение было принято. Да разве величие церкви, слава Христа не оправдывали какую угодно ложь?
Он поднял руку театральным жестом.
– Его убили евреи. Он сказал мне это, умирая. Кроме того, Петр видел их. Если императорское правосудие бессильно защитить нас, мы вооружимся и защитимся сами.
Префект сделал усталый жест. Уже давно организованные Кириллом христиане составляли отряды фанатиков, более многочисленные и дисциплинированные, чем его собственные солдаты.
Он наклонил голову, заранее утомленный всей предстоящей ему скукой, тяжестью решения и несправедливостью, в которой ему придется принять участие. Он меланхолично закутался в свою тогу и осторожно, чуть не почтительно раздавил носком своих котурн с серебряными шнурами паука, подползавшего к лицу мертвеца…
В узкой каморке, в которой обычно спал Амораим, позади лавки, он рассматривал свое платье, разложенное на убогой кровати. Его единственное черное суконное платье, почти новое, с широким поясом, было запачкано нечистой христианской кровью. Тщательно обследовав пятно, он все свернул в узел, чтобы сжечь на следующий день.
Конечно, он не гнался за изяществом, но когда человек стар и одинок, он имеет мало радостей. Приличное, хорошо сидящее платье, гибкий широкий пояс, удерживающий тепло, доставляли маленькие ежедневные удовольствия, которых он отныне будет лишен. Он подумал, что теперь у него нет ничего, кроме нескольких жалких лохмотьев, чтобы прикрыть свое тело.
Но неважно! Он принимал без горечи это новое унижение. Он избег большой опасности, совершив то, что казалось ему справедливым. Старый Амораим будет похож на нищего, но он облачен в прекрасное одеяние исполненного долга. Кроме того – разве нельзя усмотреть в том, что только что произошло, знак маленького благоволения? Может быть, Господь становится немного милостивее к старому набожному человеку?
И он перед тем, как уснуть, несколько раз повторил:
– Ты всегда грешил гордыней. Смирись, Амораим!
Глава V
Три философа
Аврелий выронил из рук книгу, которую перечитывал в пятый раз, – житие Аполлония Тианского, составленное его учеником Дамисом. Он перешел во внутренний дворик своего маленького квадратного дома и очутился среди зарослей белых роз, которые цвели в его саду и вились вокруг колонн террасы.
Его лицо, всегда печальное, теперь светилось. Он выпрямился во весь свой высокий рост, и седеющие виски его густых волос казались двумя белыми пятнами, словно то были две розы, срезанные с одного из этих кустов.
Только раз в день он прерывал свои ученые занятия или выходил из скучной дремоты. Это было, когда его рабыня Тута возвращалась из Александрии, куда она ходила на рынок. Ибо он жил у Канопийских ворот, за городской стеной, рядом с сикоморовым леском, который простирался вдоль Мареотийского озера.
Каждый раз он взглядом вопрошал Туту, и она, вынимая из своей ивовой корзины овощи, масло или плоды, отвечала ему приблизительно одно и то же:
– Я ее встретила недалеко от храма. Мне пришлось долго ждать, потому что она поздно вышла. Она была сегодня со своим отцом.
И почти всегда прибавляла:
– Присцилла, несомненно, самая прекрасная девушка в Александрии.
Это было все. Взгляд Аврелия терял свой блеск, интерес к жизни исчезал, он возвращался в свою библиотеку и садился среди свитков в деревянных футлярах, папирусов, написанных на всевозможных языках, и дощечек, наполовину стершихся и почти неразборчивых.
Эти книги были его утешением. Семь лет назад он пережил большое и тайное горе, о котором ни с кем не говорил. Печаль, не выражающаяся вслух, производит опустошение в глубине. Какая-то внутренняя пружина остановилась в душе Аврелия и убила его волю. У него не хватало смелости выходить за пределы своего сада, и он прекратил всякие сношения с окружающим миром. Его друзья думали, что он отправился путешествовать. Он погрузился в полное одиночество. Он отпустил своих слуг, за исключением Туты, молодой рабыни-армянки, которая закупала платья и пищу, платила налоги и была единственным звеном, соединяющим его с внешним миром.
Он отдался философии с пылом любовника, приникающего к телу своей возлюбленной. Книги, которыми он владел, были неоценимы. Два человека, с которыми он еще продолжал встречаться, Соклес и Олимпиос, старые друзья его отца, доставили ему часть драгоценной библиотеки Серапеума. Эти два старца, которые некогда преподавали в Музее науки и философию, регулярно приходили, раз в неделю, посидеть среди белых роз Аврелиева сада и поспорить о мудрых вещах в тот час, когда заходящее солнце заливает пламенем воды Мареотийского озера.
Двадцать шесть лет назад оба они участвовали в революции, происшедшей в Александрии. Император Феодосий издал тогда приказ о разрушении языческих храмов, и епископ Феофил, предшественник Кирилла, выполнял это указание с фанатичным ожесточением. Олимпиос и Соклес возвели укрепления вокруг старинного храма Сераписа, оплота язычества, пытаясь бороться с яростью христиан. Они хотели спасти духовные богатства храма – громадную библиотеку, ибо Серапеум содержал шестьсот тысяч свитков, подаренных некогда Антонием царице Клеопатре: они были собраны Эвменом, образованным царем Пергама, в Греции, Сирии, Персии и многих других странах мира.
В одной золотой трубке хранился папирус, исписанный рукой Пифагора, с пометками Аммония Сакка и Плотина; ученые разворачивали его с благоговейным трепетом. Там хранились неизвестные произведения еврея Филона и несколько рукописей легендарного Досифея, который слыл учителем легендарного Симонамага. Там были произведения, начертанные на тонких камнях работы друидов Бретани. Там можно было найти пергаменты, пропитанные маслом такого высокого качества, что они хранили линии руки халдейского мага, который коснулся их тысячу лет назад. Другие, вывезенные из Индии, представляли собой бесчисленный ряд медных пластинок. Ящик из зеленчака хранил несколько страниц из Книги перемен китайца Фо-Хи. Там можно было увидеть письмена на зендском и деванагарском языках, клинопись и иероглифы. Там были папирусы, составленные из примитивных триграмм, а также написанные на языке, на котором не говорил ни один народ. Маленькая красноватая дощечка, по преданию, происходила из исчезнувшей Атлантиды.
В ночь, предшествовавшую решительному штурму Серапеума, Олимпиос и Соклес, предвидя гибель библиотеки, захватили большое количество наиболее ценных книг и спрятали их в Александрии. А утром они были свидетелями пожара, во время которого сгорела остальная часть библиотеки.
Они скрылись, чтобы избежать расправы, и не появлялись до самой смерти Феодосия, когда наступил покой. Тогда Соклес вернулся к себе. Но Олимпиос, проведя год в хижине собирателя трав, среди болот, окружающих солончаки Шедии, нашел, что эта уединенная жизнь была лучшей, какая только может быть для искателя истины. Прошли годы. Распространились слухи о его смерти, которых он не стал опровергать. Подобно анахоретам Фиваиды, он спал на жесткой земле, укрываясь под тростниковой крышей, скудно питаясь овощами или плодами. Каждую неделю он проходил пятьдесят стадий, которые отделяли его от дома Аврелия, где встречался с Соклесом. Эти три человека, одинаково влюбленные в философию и одиночество, проводили всю ночь за рассуждениями о бессмертии души, могуществе экстаза и таинствах перевоплощения.