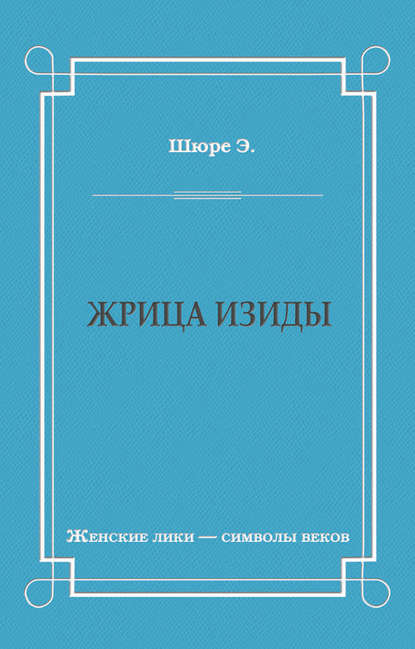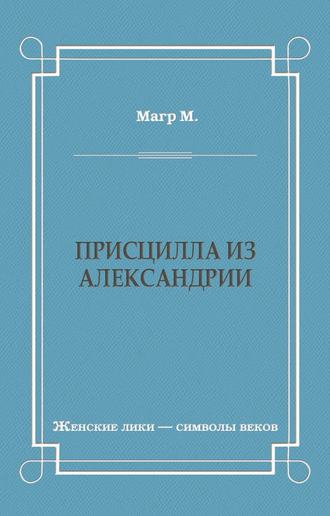
Полная версия
Присцилла из Александрии
Издали монастырь имел вид крепости. Но вблизи он представлял собой лишь круглую белую стену, огораживающую небольшое пространство, посреди которого находилась часовня без колокольни. На это пространство выходило с полсотни келий, в которые свет проникал лишь через узкое отверстие в форме креста, проделанное в двери. Позади часовни находились амбары, где хранили рожь, ячмень, масло и где помещалось стойло для верблюдов.
Этот монастырь назывался монастырем Жажды, потому что там не было колодцев, а наиболее близкие находились в двух днях пути. Каждую неделю несколько монахинь отправлялись на верблюдах сделать запас воды, которой должно было хватить общине на семь дней. Они отправлялись в путь на заре, ибо только при особом усердии можно было возвратиться лишь через два дня к вечеру. Некоторые из них были растерзаны львами. Другие погибли во время смерча. Были и такие, что заблудились на обратном пути несмотря на то, что сама сирийка Зенобия звонила тогда в продолжение всей ночи в колокол, но они углубились в пустыню, чтобы никогда не возвратиться вновь. Но что за важность! Зенобия была святая с суровым сердцем. Она с легкостью вручала в руки Господа жизнь своих овец, так же как и свою собственную, и когда колодцы высыхали и монастырь страдал от жажды несколько дней, она утверждала, что самая чистая молитва исходит из уст пересохших, когда губы трескаются из-за недостатка воды.
Ежегодно Присцилла и ее брат под надзором дворецкого Лонгиниана отправлялись в монастырь Жажды. Это далекое путешествие было большой радостью для детей. Радость начиналась уже за несколько дней до отъезда, когда на двор вытаскивались палатки и рабы осматривали, все ли необходимое для путешествия в порядке.
Она продолжалась, когда готовили мешки с провиантом и большие мехи с вином. Чудесной минутой в жизни детей была та, когда отец целовал их, прежде чем они вскарабкивались на самого сильного из верблюдов каравана. Но что им доставляло особенное удовольствие, так это общество нескольких солдат, которых епископ Кирилл предоставлял в распоряжение Диодора, чтобы охранять детей в пустыне. Дети восхищались их оружием, выправкой и шуточками.
Проезжали по плодородным равнинам, изрезанным каналами, где росла пшеница и где дома казались золотыми пятнами. Видели поля, кишащие обнаженными, бронзовыми мужчинами, которые собирали огурцы и сеяли хлопок. Иногда за пальмовой рощей вставало селение, состоящее из землянок, крытых соломой и тростником, и нескольких каменных домишек, которые своими плоскими крышами напоминали шестигранники с прорезями для окон и дверей. На этих шестигранниках возвышался иногда другой шестигранник, поменьше, а на нем – третий. Они были выкрашены в различные цвета ярких тонов, которые пылали на солнце, и Присцилла указывала на них своему брату, громко выражая свое восхищение.
Первый привал был наименее приятным, потому что останавливались у одного из чиновников Диодора, владеющего там большими плантациями хлопка. Это был человек строгий и скучный; он жил в большом дворце, разрушенном в эпоху Птолемеев. Ветер гудел там заунывно, и большая, квадратной формы зала, где дети проводили ночь, была окружена барельефами красноватого цвета, которые становились как бы подвижными под переменчивым светом лампы.
Занавес делил комнату на две части, но Присцилла не любила проводить ночь рядом с братом. Марк содержал в себе признаки вырождения. Его развитие шло чрезвычайно медленно. Он часто смеялся идиотским беспричинным смехом. С возрастом его уши стали чрезмерно оттопыренными, наподобие веера, нос сделался слишком длинным, губы толстыми, и весь он, со своей немного сутулой спиной и огромными кистями рук напоминал животное. Его сестра возбуждала в нем болезненное физическое влечение. Он не мог находиться возле нее без того, что не обнимать ее за шею, щупать ее руки, ласкать кожу. Иногда она была вынуждена его ударить, чтобы он оставил ее в покое. Таким образом, в этой комнате, где Марку было страшнее, чем ей, она боялась, что он придет к ней спать. Она разговаривала с ним, чтобы его успокоить, и долго смотрела на его тень с ушами, похожими на два смешных крыла, которую он отбрасывал на занавеси, сидя на своем ложе.
Но на следующий вечер Присцилла наслаждалась тем великим волнением красоты, которое вызывает в детях великолепие природы, когда это волнение примешивается к страху.
Делали привал недалеко от пруда, в глубине песчаного ущелья, возле нескольких карликовых пальм. Рабы бегали взад и вперед, чтобы разложить огонь, разбить шатры и напоить верблюдов. Солдаты растягивались на земле, и, когда луна появлялась на небе, ее маленькие золотистые блики плясали на их блестящих доспехах. Некоторые из них метали дротики, чтобы развлечь детей. Наконец составляли большой круг и приступали к ужину.
Тогда при свете огня, как призрак, вышедший из тьмы, появлялся старый анахорет с длинной, до пят, седой бородой. Он поднимал маленький деревянный крест и благословлял всех, даже тех солдат, которые не были христианами, но и они преклоняли колена, как и все остальные. Потом он садился и не отказывался принять участие в еде, питье и шутках. Он пристально глядел на Присциллу своими необычайно умными, смеющимися и добрыми глазами и рассказывал, держа над огнем свои морщинистые руки, дивные сказания о чудесах. Затем он оставлял лагерь и исчезал, словно возвращаясь в другой мир. При этом однажды раздалось рычание льва, и когда Присцилла выразила тревогу за старика, ей объяснили, к ее великому восхищению, что для того, чтобы дикие звери пустыни начинали лизать ноги пустынников, тем надо только протянуть средний палец, оставляя другие сжатыми, и прошептать имя Христа.
Поздно ночью кто-нибудь из солдат, родом с севера, затягивал песню, протяжную и печальную, от которой в воображении вставали широкие реки среди сосновых лесов, селения, косо освещенные низким солнцем, и дым, стелющийся над снежными долинами. И Присцилла засыпала под эту песнь с сердцем, сладостно охваченным тревогой, сжимая в каждой руке по горсти горячего песку земли Египетской.
Не без боязни дворецкий Лонгиниан и солдаты каравана приближались к монастырю. Они издали рассматривали его ужасный каменный силуэт, вырисовывающийся на горизонте, спрашивая себя, не превратилась ли в могилу эта обитель. Это место покаяния сделалось знаменитым в Александрии. Там было известно, какие муки скрывались за этими стенами, какие опасности угрожали этому уединенному месту, и к благочестивому восхищению, которое оно вызывало, примешивалось немного жалости и немного ужаса.
Ибо не все монахини добровольно поступали в этот монастырь. Знатные семьи ссылали туда девушек, одержимых демоном похоти, а мужья – неверных жен. Лицом к лицу с огненным небом и мрачной протяженностью пустыни, палимые жаждой, грешницы должны были неизбежно раскаяться в своих грехах. И многие в узкой келье, откуда они могли убежать лишь на верную смерть, кончали тем, что покорялись.
Но не все! Подчас случались ужасные возмущения, которые подавлялись только энергией Зенобии.
Крестьяне, которые четыре раза в год снабжали провиантом монастырь, слышали там множество жалоб, призывов на помощь и уезжали, крестясь, сомневаясь в своих простых сердцах, чтобы столько страданий могло быть угодно Богу.
Ежегодно, по неизменному обету, Присцилла и ее брат посещали монастырь Жажды. Караван располагался у подножья холма. Лонгиниан проходил с детьми, держа их за руки, по узкой тропинке, которая вела зигзагами к воротам монастыря. Три раба шли за ними, нагруженные бананами, финиками и оливами – единственными дарами, которые Зенобия соглашалась принимать. Неизменно она стояла на пороге. Она не улыбалась и почти ничего не говорила. Она провожала детей через двор. Тогда из одной кельи, которая была напротив, выходила женщина с огромными глазами, полными слез, и с лицом, черты которого с каждым годом все больше обострялись. Она по очереди целовала Присциллу и Марка, особенно Присциллу – изо всех сил. Это длилось лишь несколько мгновений, это не должно было длиться больше в силу условия, правда принятого, но тем не менее жестокого. Женщина всякий раз делала умоляющий жест, Зенобия делала другой, оставаясь безмолвной, как Божественное правосудие, и уводила детей. Она провожала их до ворот и протягивала руки, благословляя их.
Это было все. Это длинное путешествие не имело другой цели, кроме свидания на несколько секунд. После этого – назад в Александрию.
Дети покорно относятся ко всяким событиям, какими бы странными они им ни казались, видя в них следствие судьбы, в которой они ничего не могут изменить. Перед глазами Присциллы разворачивались акты одной драмы, но она их плохо связывала между собой и, не понимая основных причин, не понимала и жестокости драмы.
Она помнила отдаленное время, когда жизнь вдруг резко переменилась в доме Диодора. Сперва ей сказали, что ее мать больна и лежит у себя в комнате. Ей запретили ходить к ней. Прошло несколько дней. Присцилла заметила, что ни один из домашних врачей не являлся и только епископ Кирилл стал часто бывать у ее деда. Ее отец плакал беспрестанно, и Присцилла слышала, как Кирилл и старый Диодор, указывая на него, говорили, что они должны его спасти.
Ее мать была больна, а речь шла о спасении отца. Она ничего не понимала.
Как-то, играя в саду, она заметила мать у окна комнаты. Никогда еще та не была так полна жизни. Никогда еще не смотрела она так страстно на лазурь неба своими блестящими большими глазами. Волосы, заплетенные в тяжелые косы, отягощали ее затылок, подобные живому растению. Ее шея молочной белизны и край белоснежного плеча свидетельствовали о благородной роскоши крови. Этот образ, полный желания, на фоне ветвей сикоморы, казалось, пил послеполуденное солнце, и от него исходило столько молодости и любви, что Присцилла замерла в ослеплении.
Следующей ночью она проснулась от раздирающего душу крика матери. К этому крику примешивался голос ее деда, сухой, неумолимый. На лестнице были слышны чьи-то шаги. На дворе ржал конь. Присцилла встала с постели, приоткрыла дверь своей комнаты и наклонилась над каменной балюстрадой.
Она не могла вполне разобрать слова. Ее мать о чем-то умоляла. Она повторяла имена Присциллы и Марка. Она просила о чем-то, на что ей не давали согласия.
– Ты будешь видеть их раз в год, я клянусь в этом перед Богом, – сказал Диодор.
– Сжальтесь надо мной! Сжальтесь надо мной!
Присцилла бросилась бегом по лестнице. Но необъяснимый страх вдруг удержал ее.
О! Почему она тогда не спустилась вниз?! Всю свою последующую жизнь она не переставала упрекать себя за это тысячи раз, тысячи раз вопрошая себя, какая сила помешала ей это сделать. В этот миг решалась судьба ее семьи и ее собственная. Если бы, повинуясь своему инстинкту, она внезапно появилась в своей длинной полотняной сорочке, подобно ангелу-спасителю, на которого, без сомнения, уповала ее мать, непреклонность ее деда была бы поколеблена и сменилась бы состраданием к ней. Но нет! Она не осмелилась. Медленно вернулась она в свою комнату. Она еще вслушивалась. Большой портал закрылся. Она уснула.
Присцилла знала, что все это сделал ее дед, следуя советам епископа Кирилла. Ее отец умел только плакать и повиноваться. В первый раз, отправляясь в прекрасное путешествие, она услышала распоряжения, которые отдавал старый Диодор дворецкому Лонгиниану:
– Я обещал ей, что она будет видеть их раз в год, но я не давал никаких обещаний относительно длительности свидания. Вы должны позволить ей бросить на детей лишь один-единственный взгляд, не более.
И так как Лонгиниан стоял перед ним в позе человека, с губ которого вот-вот должна сорваться неосторожная фраза, он прибавил:
– Сам патриарх так постановил.
Диодор распространил слух, что она добровольно ушла в монастырь в результате мистического настроения. Те, кто знал ее, конечно, не могли в это поверить. Один богатый александриец, с которым ее иногда встречали, исчез в то же самое время, но это исчезновение не было поставлено в связь с ее уходом в монастырь. Годы проходили. Все забывалось.
Присцилла привыкла видеть свою мать только там, в течение нескольких мгновений, под пылающим небом, в царстве камней и песка; она привыкла видеть, как ее чистое и прозрачное лицо, снедаемое мукой вечной жажды, с каждым годом теряет свою красоту и делается после каждого их посещения все более замкнутым, отчаявшимся, принимая все большее сходство с мрачной пустыней.
Что случилось в этом году? Не стала ли жизнь Присциллы и Марка более привлекательной? Не раздражаются ли смирившиеся души неожиданным взрывом возмущения, подобным волне, идущей со дна и внезапно приводящей в волнение спокойное море?
Все произошло обычным порядком. Лонгиниан и дети поднялись по извилистой тропинке, рабы опустили плоды на порог, и несколько молчаливых женщин унесли их в амбары за часовней. Поцелуй, ожидаемый в течение целого года, был дан, слезы пролиты, и Присцилла, удаляясь со двора, унесла одну слезу на своей щеке, и эта слеза так быстро высохла! Ворота закрылись, дети сошли по тропинке вниз, и верблюды, вытягивая свои шеи, отправились в обратный путь.
И тогда послышался странный крик. Это был не призыв каравану остановиться и ждать, это не была человеческая жалоба, – это был звук хриплый, как рев зверя, голос, исходящий из самой глубины существа, крик ужасный, протяжный, вызванный не страданием, но чем-то худшим, не имеющим названия, превышающим всякую меру ужаса, который только можно вообразить.
Показалась фигура, спускающаяся вниз, размахивающая руками и бегущая по камням так быстро, что, не веря своим глазам, люди оцепенели.
Растрепанная женщина, с глазами, полными ужаса, скользила по склонам, то исчезая, то вновь появляясь. Она добежала до подножья холма и вступила на песок.
Все поняли, в чем дело, ибо история дома Диодора была известна в Александрии, и теперь в ужасе переглядывались.
Лонгиниан отдал приказание нескольким солдатам. Нужно было увести мать обратно в монастырь, применив в случае надобности силу, и удалить детей.
Дикое и ужасное существо цеплялось теперь за большой кожаный мех, подвешенный к боку верблюда, не переставая испускать жуткий крик. Этому крику, под властным влиянием необъяснимой общности, ответил другой, подобный первому. Он рвался из груди Марка несмотря на то, что его глупое лицо выражало полное непонимание происходящего.
Одна минута прошла в необычайном замешательстве. Присцилла соскользнула на песок, пытаясь кинуться к матери. Лонгиниану удалось ее схватить, и она забилась в его руках. Тогда один из солдат, которого называли варваром, человек простой и молчаливый, с длинными белокурыми волосами, выхватил свой меч и, прежде чем кто-либо успел опомниться, с размаху ударил им по голове одного из своих товарищей, который в это время с силой отрывал руки женщины от кожаного меха на боку верблюда. Варвар был бледен и весь дрожал. Его удар, нанесенный вслепую, пришелся по каске солдата и не причинил ему ни малейшего вреда.
Солдаты окружили варвара, который только повторял:
– Нужно иметь к ней жалость! У меня тоже были дети!
Все это произошло очень быстро, но навсегда запечатлелось в памяти участников этой сцены. Наконец явилась сама Зенобия. Ее сопровождали несколько монахинь, но это оказалось излишним. Мать Присциллы, совершенно покорно, маленькими шажками, как напроказившее и боящееся наказания дитя, направилась к монастырю, сжавшись, съежившись, согнувшись пополам под своими драными покрывалами, похожая на груду лохмотьев. Вся ее энергия, накопившаяся за много лет, выплеснулась наружу. Она даже не обернулась…
В тот же самый год старый Диодор был убит. Его сын был жалким, слабым и безвольным человеком. Он сделался еще более неуверенным и робким, и у него вошло в привычку не принимать никаких решений и даже не помышлять о чем-либо без того, чтобы не доложить об этом епископу Кириллу.
А тот отменил ежегодное путешествие детей в монастырь Жажды: произошедший скандал уничтожал силу прежнего обещания.
Диодор однажды попытался вступиться.
– Но ведь это не только в интересах твоих детей, но даже в интересах несчастной грешницы, – возразил епископ.
Следующей осенью, когда пальмы пустыни покрылись багрянцем, а земля испускала тяжелые испарения – предвестники самума, несчастная грешница смотрела в продолжение многих дней в оконный крест, впускавший немного света в ее комнату: этот крест не принесет ей больше никогда никакой надежды.
Глава III
Ипатия
В удушающем послеполуденном зное тамариски, росшие в саду, были неподвижны, грозди глициний казались нарисованными на лазури небес, Ю кругом с жужжанием вились пчелы.
Присцилла слегка закинула голову назад и, устремив взгляд вдаль, как будто выражая уже давно явившуюся мысль, вдруг сказала:
– Я хотела бы повидать Ипатию.
Лицо Майорина, который исполнял для Присциллы и ее брата роль гувернера и в данный момент давал им урок истории, при этом имени приняло выражение грусти, смешанной с ненавистью. Его веки сморщились, лицо пожелтело. У него была болезнь печени, и малейшая неприятность сейчас же отражалась на его лице.
– Правда ли, что нет в Александрии женщины более прекрасной? – спросила Присцилла.
– Злые никогда не бывают прекрасными, – сказал Майорин, придавая своим губам выражение отвращения. – Каждый по-своему понимает красоту. В тех редких случаях, когда мне приходилось встречать эту женщину, я испытывал ощущение самого мерзкого безобразия, безобразия души, и я тотчас убегал прочь. Ограниченные язычники, которые услаждаются ложью, могут ценить ее лицо и находить в нем красоту. Если и есть в ней какая-то красота, то лишь та, которую порождают самые низкие пороки. Может быть, линия ее рта правильна, но когда я вижу, как этот рот раскрывается, чтобы говорить, я вспоминаю о сточных трубах Бруциума, которые отводят в море нечистоты Александрии.
Похожий на скелет, в черном одеянии, Майорин сидел напротив детей на каменной скамье, в тени одной из пальм сада.
Позади него стоял садовник с большой лейкой, которой он поливал мимозы. Вода, распыляясь веером через широкое сито лейки, окружала Майорина лучистым ореолом серебряного цвета, который подчеркивал желтизну его кожи, его худобу, морщины, скрытую злость, делая его похожим на карикатуру святого.
Ипатия!.. Для одних она была славой Александрии, для других – ее позором. Никогда еще ни в Афинах, ни в Риме женщина публично не занималась обучением философии. Это была неслыханная дерзость, которая в общественном мнении вызывала и возмущение и восхищение. Ее величавая красота, строгий образ жизни и несколько театральное тщеславие, с каким она подчеркивала и то и другое, еще более усиливали ее очарование. Префект Орест искал ее советов, Синезий, которого Птолемеев град провозгласил епископом за его справедливость, называл ее своей матерью, сестрой и любовницей по духу. Поэт Паллад сравнивал ее с Астреей и Минервой, посвящая ей гимны наподобие тех, что греческие поэты слагали в честь богов. Она нанесла удар по авторитету епископа Кирилла в Александрии, и возрастающее число учеников, приходивших слушать ее лекции в Музее, давало ее сторонникам основание утверждать, что благодаря ей философия восторжествовала в Египте над христианским учением. Многие ее любили, но до последнего времени она пренебрегала любовью. Ее черные, пышные, вьющиеся волосы были распущены, и в них красовался большой драгоценный камень зеленоватого цвета, неизвестной породы, причем говорили, что этим магическим камнем, сообщающим своему владельцу духовное могущество, некогда владел Ямблик – философ неоплатонической школы.
Она выписывала из Аравии редкие ароматные эссенции, которыми умащивалась, а ее покрывала были сотканы из столь тонкой материи, что как бы сливались с ее телом и открывали все ее гармоничное изящество. Вместе со своим отцом, математиком Феоном, она жила в небольшом доме неподалеку от церкви Цезареи, и над входной дверью дома возвышалась сова из камня, эмблема Афины Паллады. К дому примыкал небольшой садик, в котором росли только лавровые деревья.
Взгляд Майорина выражал презрение и глубокое раздражение. Марк сладко спал с полуоткрытым ртом.
– Однако, – все же сказала Присцилла, – есть много философов и учителей, которые прибывают из Коринфа, Антиохии и Рима, чтобы ее послушать. Говорят, что никогда в Музее не было столь большого стечения народа, какое бывает на ее лекциях.
Майорин разразился горьким смехом:
– Философы? Учители? Учители чего? Лжи? Чему они учат? Трем ипостасям Аммония, гностической мудрости. Да это курам на смех! Поистине в печальные времена мы живем! Дают распространяться заблуждению, забывают, что оно имеет скрытую силу, которая позволяет ему распространяться легче, чем истина, и что демон снабжает заблуждение своими крыльями. У нас же связаны руки. Нам нужен другой префект!
– Я хотела бы увидеть Ипатию, хоть бы один раз, – прошептала Присцилла, которая не слушала его больше.
Майорин пожал плечами. Он пустился порицать неприличие подобного желания, утверждая, что оно никогда не осуществится.
Маленькая гусеница, желтая, как капля золота, упала на его черное одеяние, образовав на нем живое пятнышко. Он встал, чтобы его стряхнуть. Это его развлекло. Марк крепко спал. Присцилла смеялась. Он прервал урок и поднялся в свою комнату, находившуюся под крышей. Он не сомневался, что таинственный закон, который связывает события и выводит великие последствия из незначительных причин, еще сегодня столкнет его ученицу с Ипатией и что это только первая сцена большой драмы, которой суждено будет разыграться.
Теперь Присцилле было пятнадцать лет. Ее груди развились, тело нежно розовело, ее глаза приняли выражение необычайной глубины, и мужчины смущались в ее присутствии, словно вдыхая частицу наслаждения, исходившего от всего ее существа и оставлявшего за собой след.
Многие дивились этому, ибо казалось, что логике природы присуще дарить чувственную красоту тела только тем, кто способен ею пользоваться.
Присцилла отдавалась религии со всем своим пылом. Естественно, что дочь самого богатого человека в Александрии имела тысячу претендентов на свою руку. Но вскоре распространилась молва, что она склоняется к монастырской жизни. Тесная дружба патриарха Александрийского и Диодора подтверждала это мнение, ибо Кирилл считал, что переход большого состояния в распоряжение монастыря мог послужить лишь к вящему могуществу Христа. К тому же он видел в этих деньгах источник дохода церкви.
В период созревания Присциллы желания мужской любви действовали на нее, подобно стрелам, вонзающимся в плоть. Ее целомудрие восторжествовало над первым любопытством, свойственным этому возрасту, и взамен пришло непрестанное страдание, от которого она не могла избавиться. Это страдание происходило от непристойных надписей, которые она, против воли, прочитывала на стенах, от некоторых слов или жестов, которые она схватывала на лету и смысл которых угадывала, и, наконец, от выражения некоторых глаз, смело устремленных на нее.
Когда она проходила вдоль гавани, ветер мучил ее тем, что плотно обвивал покрывало вокруг ее стана, неприлично подчеркивая прелести ее юного тела. Она опускала глаза, чтобы не видеть наготы негров, выгружавших товар, но все-таки эта нагота, столь близкая, хотя и не видная ей, оскорбляла ее. Она не могла молиться в церкви, если возле нее на коленях стоял мужчина. Когда весенними утрами она открывала свое окно, то вдыхала вместе с цветочной пыльцой и растительной пылью сада что-то такое чувственное, что заставляло ее обмирать от отвращения.
Брат, со своей стороны, пытался ее ласкать, и его ласки, хотя и редкие, были ей ненавистны. Развитие Марка не подвигалось с годами. Периодами он впадал в совершенный идиотизм. Тогда он смеялся не переставая и думал лишь о том, чтобы приблизиться к сестре. Когда он находился с ней наедине, в саду или в комнате, он неожиданно схватывал ее в объятья и прижимал к себе, пока ей не удавалось силой высвободиться из его рук. Иногда он целовал ее в шею и, сопя, вдыхал аромат ее кожи или же смеялся без конца, заворачиваясь в ее вышитый плащ, в котором чувствовал что-то собственное. Строго говоря, все это не выходило за пределы проявлений нежности, которые брат может позволить себе по отношению к сестре, но Присцилла, осознанно или нет, чувствовала в этом тайный порыв, любовь к ее плоти, которая обладала силой греховного притяжения, и это пронизывало ее страданием.
К ее отцу часто приходил некто Петр, псаломщик церкви Святого Марка, который пользовался доверием епископа Кирилла. Это был геркулес, задыхавшийся при ходьбе; от него исходил запах чеснока и ношеного белья. Его коротко стриженные волосы начинались у самых глаз, совсем маленьких, так что казалось, что у него совсем нет лба; благодаря заостренной форме головы, выдающейся челюсти, испорченным зубам, лоснящимся щекам, он наводил на мысль о чудовищной свинье. Его руки, вследствие какого-то особенного недуга, были всегда покрыты липким потом, что не мешало ему протягивать их встречным людям с такой настойчивостью, что приходилось их пожимать.