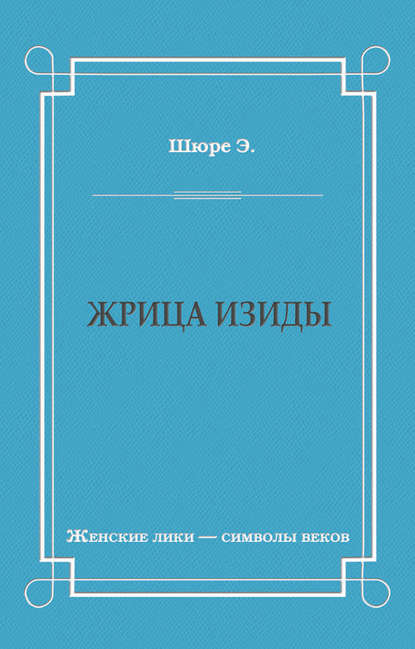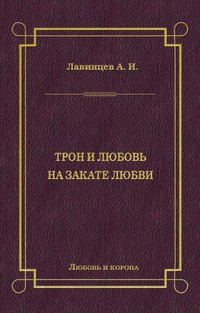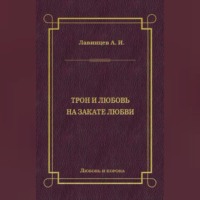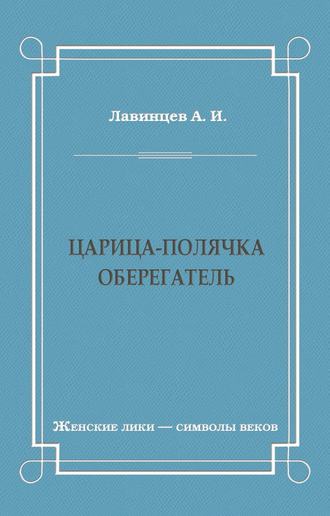
Полная версия
Царица-полячка. Оберегатель
– Ну, здравствуй, что ли, старый пес!
Только услышав эти слова, Дрот поднял голову и прошамкал:
– А, это ты, забубенная твоя голова? Каким ветром занесло? Небось носился все эти дни ветром, ветер погоняя, или у своей персидской прелестницы торчал, на некрещеную красу глаза пяля?
Князь Василий промолчал. На него, обыкновенно вспыльчивого, эти грубые слова как будто не произвели впечатления.
– Тетушка-то не легла в постель? – спросил он. – Молитвы на сон грядущий не прочитала?
– Тебя ждет, – опять шамкнул старик, – ты смотри, не гневи тетушку… Ишь, к погоде, надо полагать, что-то занедужилась она.
– Что с ней? – тревожно спросил князь, чувствуя, что его мгновенно охватила боязнь потерять единственное дорогое для него существо. – Дюже немощна?
– Говорю, погоду чует, может статься, оттепель начнется, так и ноют старые кости… Да ты иди, иди, чего растабариваешь попусту? Ведь, поди, ждет она тебя…
– Ну, ин быть так, – даже вздохнул князь Василий, – пойду! – И с этими словами он робко, осторожно отворил дверь в тетушкин покой и перешагнул через порог.
Прямо на него так и пахнуло теплом, лампадной гарью и запахом различных травяных настоек. В покое была полутьма; единственным освещением здесь были огоньки многочисленных лампадок у образов, еще не завешенных на ночь убрусами. Неподалеку от переднего угла в глубоком кресле с высокой резной спинкой сидела сама тетушка Марья Ильинична. В сумраке почти не видно было ее, к тому же она совсем глубоко ушла в кресло, что при ее малом росте и совершенно тщедушной фигурке делало ее совсем незаметной. Но князю Василию незачем было разглядывать ее. Дорогое, сморщенное старушечье лицо всегда было перед его глазами, и теперь он, едва перешагнув порог, радостно крикнул и с распростертыми объятиями кинулся к креслу.
– Тетушка милая, матушка богоданная, – лепетал он, опускаясь на колена и покрывая поцелуями маленькие морщинистые, сухие руки тетки, – прости ты меня, путаника, за то, что я давно у тебя не бывал…
– То-то, – проговорила с лаской в голосе старушка, – забывать ты меня начал, Васенька! Видно, молодое-то к старому не может липнуть…
– Ой тетенька, родимая, – совсем по-детски говорил князь Василий, – да и как же я могу забыть тебя? Ведь один я одинешенек на белом свете и одна ты у меня кровиночка родимая. Те, что на Москве у нас есть, только по имени родные, а истинная-то родная у меня только ты одна…
Он продолжал целовать руки Марьи Ильиничны и теперь – обычно неукротимый сорванец, не знавший удержу в своих порывах, – был совсем другим человеком. И в голосе, и в движениях у него было что-то детское, искренне покорное, отражающее неподдельную любовь, душевную ласку.
Старушку тронуло это обращение племянника. Она ласково положила на его голову руку и сказала:
– Ну, так быть по-твоему: прощаю тебе, ежели ты в чем-либо провинился… Господь да пребудет с тобою вовеки, как мое благословение пребывает с тобою… Говори теперь, что приключилось, зачем в такую позднюю пору летел?
Услыхав этот вопрос, князь Василий вскочил с колен и выпрямился во весь свой рост. Он как бы весь преобразился. На его лице уже не видно было недавнего детски-доброго выражения, оно стало прежним, мрачно-хищным; его глаза сверкали, он дышал так тяжело, что грудь высоко вздымалась.
Старуха зорко следила за своим племянником.
– Ох Василий, – промолвила она, – не люблю я тебя таким-то!
– Не любишь?! – воскликнул тот со страстной пылкостью. – Не любишь, когда я счастлив? Ха-ха-ха! Такое, тетушка, дело мне судьба послала, что, как сделаю его, хоть и умереть не жалко…
– Что? Какое такое дело? Что у тебя, Василий, случилось? – заволновалась Марья Ильинична.
– Доброе дело, тетушка. Такая птичка в мою берлогу залетела, что не знаю, какого бога и благодарить за это! – И он, прерываясь и путаясь в словах и выражениях, рассказал о появлении в его доме боярышни Грушецкой.
Марья Ильинична слушала его с большим вниманием.
– Ну что же, – тихо сказала она, когда князь Василий кончил свой рассказ, – чем худо-то? Гость в дому – дар Божий.
Агадар-Ковранский злобно расхохотался.
– Слыхал я это! – проговорил он сквозь смех.
– И хорошо, ежели слыхал, – прервала его старуха, – ежели так, то чего же гогочешь, как жеребец невыезженный? Поди, боярышня-то и годами молода, и собой куда как пригожа?
– Ой, тетушка, как пригожа! – пылко воскликнул князь Василий. – Что ангел небесный!
– Уж и ангел! – усмехнулась старушка. – Вот все-то у вас так! Чуть пригожую девку где увидите, сейчас же и ангел… Видно, защемило сердце-то?
Князь Василий усмехнулся, усмехнулся зло, нехорошо; его красивое лицо так и исказила эта дьявольская усмешка.
– А ты помнишь, тетушка, кто такие Грушецкие? А? Не помнишь? Так я тебе скажу, что мой дедушка, царство ему небесное, вора-деда этой самой Агашеньки Грушецкой за бороду таскал…
– Ну так что же из того? – спросила Марья Ильинична, и в ее голосе послышалась тревога.
– А то, что потом мой дед вору-Грушецкому царем головой был выдан, и тот его срамил и позорил, как хотел…
– Давно то было, Васенька, – печально проговорила старушка, – больно давно!
– Верно, тетушка, давно! Старики-то в земле, поди, сгнили, а вот в моем сердце дедовская обида жива. Мутит она меня, жить мне мешает… Как бываю я на Москве да войду во дворец, так и кажется мне, что все-то там старики на меня с укором смотрят, а молодые прямо так и смеются: ведь дедовская обида неотплаченной осталась, честь не восстановлена, память деда от позора не очищена… Как прослышал я, что Сенька Грушецкий в Чернавске, так с тех пор и покоя мне совсем не стало. Дал я зарок великий при первом же случае с злым ворогом рассчитаться, и вот судьба так-таки прямо на меня его дочку нанесла. Раньше, чем я думал, рок мне счастье послал… У-ух! – дико взвизгнул князь Василий. – Уж я не я буду, ежели теперь своего сердца не утолю… С тем и пришел я к тебе, тетушка родимая, чтобы счастьем своим поделиться. Что скажете мне, мама богоданная?
Ответ последовал не сразу.
Князь Василий стоял перед теткой, меча на нее огненные взгляды. Он тяжело дышал, страсти так и кипели в его неукротимом сердце.
– Что я тебе скажу, Васенька? – тихо заговорила наконец Марья Ильинична. – А то я скажу, что вижу я, будто негожее ты задумал. Оставь старые обиды! Ссорились старики, меж них потасовка вышла, они в грехе, они и в ответе; что меж них было, то прошло и быльем поросло; отец твой об этом былье не вспоминал, с чего же ты-то старые дела поднимать из могилы вздумал? Оставь, укротись! В. чем повинна перед тобой, а тем паче перед твоим дедом Грушецкая? Ты это мне скажи!
– Ни в чем! – глухо ответил князь Василий.
– Ну вот видишь, а ты ей зло – какое, не ведаю, а догадываться догадываюсь – причинить желаешь! Подумай сам, что ты замыслил! Деды дрались, а внуки рассчитывайся…
– Пусть, пусть! – закричал князь Василий. – Что мне она? Мало ли таких-то у меня перебывало? Одной больше, одной меньше – счета не испортишь… А через нее я Сеньку Грушецкого помучиться да пострадать заставлю, его седую голову навеки позором покрою… Любо мне будет, когда он ужом от муки душевной извиваться будет, узнав, что его дочка единственная к нему покрыткой вернулась… Хороша она, тетушка! Как ангел, говорю, хороша, и Сенька-то поди гадает, что она царицей стать может: ведь царевичу Федору Алексеевичу жениться время приспело, а царь Алексей Михайлович недужится и на ладан дышит; невест собирать будут со всей земли и Агашку Грушецкую на смотр возьмут. То-то позора будет, когда дознаются, что Агашка – покрытка!.. Грязной метлой погонят тогда всех Грушецких с царского двора, и любо будет это моему сердцу: вот когда долг платежом станет красен… Не отговаривай, тетушка, не послушаюсь…
Он оборвался. Старушка вдруг, повинуясь порыву, поднялась с кресла.
– Не смеешь ты худо сделать боярышне Грушецкой, – заговорила она задыхающимся голосом, – твоей чести княжеской доверилась она, войдя в дом твой…
– Судьба ее нанесла! – прервал тетку Василий.
– Молчи, – собрав весь свой голос, выкрикнула та, – молчи и слушай! Вот тебе мой сказ: ежели ты только посягнешь на боярышню, то и не подходи ко мне… прокляну тебя тогда, окаянного, а сама на старости лет возьму Дрота и уйду куда глаза глядят из твоего дома… Пусть я замерзну, пусть меня звери лесные разорвут; это тоже твое дело будет. Я ни малой минуточки не останусь… Прокляну, анафемой будешь!
– Пусть, пусть! – хватаясь руками за голову, не своим голосом закричал князь Василий. – Не могу я жить, пока дедовская обида не отомщена… Как знаешь, делай, государыня-тетушка, убей меня завтра, а эта ночь моя… Завтра я, может быть, сам с собой покончу, ну а теперь… Прощай, прощай!.. Подойти бы к тебе по-прежнему хотел, да не могу: злой дух во мне, он меня не пускает… Родная, прощай!
Князь горько и бурно зарыдал и выбежал из покоя, оттолкнув подвернувшегося ему под ноги Дрота, так что тот далеко отлетел в угол.
Марья Ильинична бросилась к окну. Внизу у крыльца она увидела при свете смоляных факелов, как князь Василий, выбежав, словно безумный, из хором, вскочил на коня, дико взвизгнул и, нахлестывая своего скакуна нагайкой, исчез, словно злой призрак, в чаще леса.
– Бедная, злосчастная! – едва проговорила старушка и, не будучи в силах справиться с волнением при одной только мысли о том, какая участь ожидает несчастную Ганночку Грушецкую, опустилась без чувств на пол у окна.
IX. Темный умысел
Когда Агадар-Ковранский так бешено умчался из своего лесного домика, там все вдруг повеселели. Люди переменились, разговоры пошли громче, в людской даже кто-то песню затянул… Еще немного – и там, как говорится, «дым коромыслом пошел».
Старый холоп Серега выпил порядочно, но его голова все еще была свежа. Крепок был старик на питье! Старые литовские меда приучили его голову не поддаваться хмелю, да и душа у него в эти часы была все еще настолько неспокойна, что нервное волнение превозмогало опьянение. Серега, как на каменку, лил внутрь себя все, что ему предлагали Гассан и Мегмет, но оставался трезвым.
«И с чего это мне все не по себе? – думалось ему. – Кажись, все благополучно: ишь какое угощение, словно всамделишние гости, а сердце-то так вот тук да тук!»
И чем дальше шло время, тем все более росла тревога старого холопа. Он ясно видел, что угощают их неспроста…
– Пей, душа моя, пей, – то и дело подливал ему в ковш крепкой хмельной браги Гассан, – спать крепче будешь… Ай-ай, какие тебе сны приснятся!.. Молодым себя во сне увидишь, гурий увидишь, целовать их будешь! – И Гассан, лукаво смеясь, дружески толкал старика под бок.
– Да неохота что-то, – отнекивался тот, – довольно уже, премногим благодарны!
– Чего неохота, чего довольно? Пей! Вот как твои-то молодцы стараюся…
Действительно спутников Сереги не мучили никакие предчувствия. Они обрадовались возможности выпить и беззаботно пили без всякой думы о будущем. На них хмель действовал. Обе горничные девки крепко спали и так храпели, что их храп был слышен даже среди шумного разговора нетрезвых мужчин. Да и эти-то были совсем близки к тому, чтобы свалиться под стол.
«А что, как нас всех спаивают? – промелькнула мысль у старого холопа. – Ведь похоже на то! Вон и Федюшка совсем посоловел… Ой западня, чувствует это мое сердце! Что делать? Как быть? Ведь беда-то не нам, а боярышне нашей грозит… Ее спасать нужно, но только как?»
Мозг старика, раздраженный и выпитым хмельным, и не отступавшим от него волнением, быстро-быстро заработал. Как-то так случилось, что ни Серега, ни его спутники ни одним словом не обмолвились о вершниках, которых недоставало среди них. Увлекшись изобильным угощением, они просто-напросто позабыли о товарищах, и только теперь Серега вспомнил об отсутствующих.
«Это хорошо, совсем хорошо! – решил он. – Мы-то здесь в западне, а они на свободе остались… Только как мне весточку подать, чтобы стереглись да не попадались?»
И вдруг новая мысль прорезала и осветила в голове старого холопа весь хаос мыслей. Он даже весело улыбнулся, когда его мозг начал работать в том направлении, которое указала внезапно сверкнувшая мысль.
«Была не была, а попробую!» – решил он и, весело подмигнув своему соседу Гассану, задорно выкрикнул: – А и в самом деле, чего кочевряжиться? Все равно раньше утра не выехать, а коли добрый хозяин угощает, грех отказываться… Давай, что ли, татарская твоя образина, выпьем!
– Вот и хорошо, душа моя! – словно обрадовался Гассан. – Пить так пить… Нам вон Коран запрещает, а и то, когда никто не видит, отчего с хорошим человеком не выпить…
– Верно! – ответил холоп. – Во спасение души всегда выпить можно… Наливай, что ли!..
Спустя совсем мало времени, он уже говорил заплетающимся языком всякие несуразности, то и дело вскидывал на стол локти и примащивался головою на протянутых руках, как бы одолеваемый дремотой, закрывал глаза, зевал и наконец вдруг замер без движения. Видя все это, Гассан и Мегмет переглядывались между собой и загадочно улыбались.
– Выпьем, что ли, еще душа моя? – сказал первый и толкнул Сергея.
Тот промычал в ответ что-то несуразное, бессмысленное.
– Готов, – тихо произнес Мегмет. – Ты, Гассан, сильнее его потряси да потолкай.
– Чего еще? Разве не видишь? – отозвался тот, но все-таки последовал совету и сильно затряс Сергея за плечо.
– Пшоль! – отмахнулся тот и вдруг скатился с лавки на пол.
Гассан и Мегмет переглянулись.
– Связать его, что ли? – спросил первый.
– Чего там! – отозвался второй. – До утра проспит… И сонного зелья не понадобилось… Вон и те уже готовы!
Действительно, все люди Грушецкого, кто где сидел, там и заснули…
– До утра проспят, не просыпаясь, – проворчал Гассан, – а там вернется господин, скажет, что делать… Теперь пойти к Асе, сказать ей, что и как…
В своеобразном «гареме» князя Василия немедленно после его отъезда начался горячий спор. Как только вернулась от своего господина старая Ася, к ней сейчас же кинулась красавица Зюлейка.
– Что, что он? – так и застрекотала она, обнимая старуху и по-детски, нежно ласкаясь к ней. – Сказал что-нибудь?
Ася, сумрачно глядя в сторону, утвердительно кивнула головой.
– Что, что он приказал? – впилась в лицо старухи своими огненными взорами красавица-персиянка. – Ну, скажи, Ася, не томи меня!..
Ася молчала.
– А, не хочешь говорить! – пылко вскрикнула Зюлейка. – Ты, стало быть, не любишь меня? Разлюбила? Уж, верно, об этой русской он тебе приказ отдал? Скажи, о ней?
– Да!
– Ну, я так и знала это. Сердце мое бедное чуяло беду! О горе мне, горе! В чужой, дикой стране, пленница я горемычная… одна, никого у меня нет, все недруги только кругом…
Зюлейка, как сумасшедшая, заметалась по горнице. Она разорвала у себя на груди одежду, царапала ногтями обнажившееся тело, дико визжала, а потом стала прямо-таки выть.
– Перестань! – попробовала уломать ее Ася.
– Не перестану! – упрямо ответила персиянка. – Скажи, что он тебе приказал?..
– Да пойми ты, дитя неразумное, что не могу я: ведь господин приказал ни одним словом не обмолвиться… Убьет он меня…
– А ежели ты мне не скажешь, так я убью себя. Ну Ася, ну милая, пожалей ты меня! Отца у меня убили, мать сама зарезалась, сестер в Турцию увели, одна ты у меня… И ты-то меня пожалеть не хочешь? – Она плакала так искренне, ласкалась так нежно, что Ася стала заметно сдаваться.
– Ну что тебе эта русская девчонка? – спросила она. – И чего ты за нее так беспокоишься, голову теряешь, беснуешься… Жалко, что ли, тебе! Пусть господин позабавится, если ему охота на то пришла.
– Позабавится! – воскликнула Зюлейка. – А я-то?
– Ты что же? Ты останешься, как была…
– Кто знает! Хороша эта русская девушка, таких я еще и не видывала… Как я могу ей господина отдать? Он теперь думает, что только позабавиться хочет, а потом ее из сердца легко не выбросит… Полюбит он ее, а на меня и глядеть не станет. Вот чего я боюсь. Ну, скажи, Ася, скажи! Ты добрая, ты хорошая… я знаю, что ты меня любишь! Прости ты меня, если я тебя обидела. Не сердись, скажи мне на ушко, что господин тебе приказал!
Говоря так, Зюлейка все с большей и большей нежностью ласкалась к безобразной старухе. Она крепко обнимала ее, осыпала градом поцелуев, называла разными нежными именами. Ася мякла все более и более.
– Вот пристала-то! – притворяясь сердитою, заворчала она. – Скажи да скажи, что господин приказал! А то он приказал, чтобы и старуху, и молодую опоить сонным зельем, а потом, как девчонка заснет непробудным сном, впустить его к ней… Тебя приказал на эту ночь куда-нибудь подальше убрать…
– И как же, Ася, ты осмелишься пойти на это? – спросила Зюлейка, вся дрожа от волнения.
– А разве я могу ослушаться? Я – раба и должна повиноваться своему господину.
– Да, это так, – согласилась персиянка. – Но ты вспомни, что, прежде чем быть рабой, ты служила огню, была жрицей в храме огня и тебе ведомы были многие тайны, другим недоступные…
– Да, это так! – вздохнула Ася.
– А теперь ты осмеливаешься начать дело, не зная, угодно ли оно Всемогущему Существу? Ты хочешь, чтобы гнев его обратился на твою голову? Берегись! Всемогущее Существо жестоко покарает тебя… Ты что? Ты стара, но у тебя в твоей стране остались сыновья, дочери. Они будут страдать из-за твоей покорности…
Эти слова произвели на Асю впечатление. Она дрожала всем телом; видно было, что испуг овладел ею.
– Что же мне делать? – простонала она. – Что делать?
– Ты не знаешь? – уже торжественно спросила Зюлейка.
– Ох когда бы я знала! – захныкала старуха. – Научи меня, скажи, разум мой помутился…
– Вызови духа огня, спроси его! Пусть он покажет тебе судьбу этой русской, и поступи так, как желает божество. Или твои чары уже перестали действовать?
– Нет, нет! Дух огня благосклонен ко мне, но, чтобы узнать, что нам нужно, необходимо присутствие этой русской девчонки.
– Только-то? – воскликнула Зюлейка. – Ну, я помогу тебе, моя бедная добрая Ася: я приведу ее к тебе, а ты вызови духа огня, и пусть он поведает тебе свою волю.
Х. Среди женщин
Оставшись одна, старая Ася сперва заулыбалась отвратительной улыбкой, а потом беззвучно засмеялась. От этого она стала еще омерзительнее, еще безобразнее. Ее нос загнулся книзу еще более, беззубый рот зиял, как расщелина, а глаза заблестели, как блещут глаза волка, почуявшего близкую добычу.
– Ой, молодость, молодость, – закивала она в такт шепоту своей безобразной головой, – самонадеянная, бесшабашная молодость! Бедная Зюлейка! Она и впрямь думает, что она и умнее, и хитрее меня… Она теперь уверена, что старая Ася пошла на ее удочку, а между тем она сама же попалась в расставленные мною тенета! Да, да! Господин приказал мне сделать так, чтобы эта русская девчонка полюбила его, полюбила без ума, без памяти наяву, когда проснется завтра. Я должна сделать заклинания над ней и непременно не над сонной, а над бодрствующей, и непременно нужно сделать так, чтобы она сама, по доброй своей воле, пришла к моему огню. Она боится старой Аси, а теперь Зюлейка сама приведет ее ко мне…
Наступило молчание. Старуха прислушалась. Кругом царила глубокая тишина.
– Русскую страшит моя старость, – забормотала опять Ася, – и не может она понять, что Ася когда-то была молода и прекрасна, как она, что Асю любили удальцы, прославившие Иран своей храбростью, что певцы слагали ей свои чудные песни… Да, было время! И Испагань, и Тавриз говорили с восторгом об Асе, прекрасной жрице огня. Все прошло! Все унесло злое время… Теперь Ася безобразна, теперь она ненавидит молодость и красоту. Она мстит им за то, что они ушли от нее. Да, да! Пусть страдает эта русская девчонка! Я отдам ее господину, он сделает ее несчастной, а проснется она еще больше несчастной: она будет томиться любовью к господину, а он, сорвав цветок наслаждения, будет смеяться над ее любовью…
Она остановилась и прислушалась. В соседних покоях было тихо.
Старуха забеспокоилась и заворчала:
– Что же не идет Зюлейка? Где русская девчонка? Гей, мои духи огня, соберитесь на зов вашей повелительницы, послужите мне, как служили прежде!.. Зову вас, сбирайтесь со всех сторон света, есть дело! Сбирайтесь, приказываю вам, молю вас!
Выкрикивая все это, старуха кривлялась, корчилась, извивалась, ее всю так и дергало: очевидно, Ася приходила в экстаз и уже теперь, когда у нее под руками ничего не было, она способна была произвести потрясающее впечатление на нервного или суеверного человека.
Послышались шелест тяжелых материй и легкие шаги.
Дверь распахнулась, и в покой вошли, почти впорхнули Зюлейка и Ганночка. Молодая персиянка зорко поглядела на старуху. По всей вероятности, она уже не раз видела Асю в таком состоянии. Ее глаза заискрились, она не удержалась и громко захлопала в ладоши.
– Так, так! – даже слегка припрыгнула впечатлительная Зюлейка и шепнула Ганночке: – Ты – счастливица, сестричка: Асю посетили ее духи огня, и теперь она скажет тебе всю правду… Только не нужно бояться, они не сделают зла.
Ганночка смотрела на безобразно кривляющуюся и дергавшуюся старуху с отвращением и испугом; вообще она начинала чувствовать, что вокруг нее творится что-то особенное.
Правда, Зюлейка была с нею бурно ласкова, но Ганночка совсем не привыкла к таким ласкам, и они не на шутку пугали ее. Она очень удивилась тому, что ее мамушка вдруг размаялась в тепле, не могла преодолеть дремоту и заснула столь крепко, что как ни тормошила ее боярышня, а разбудить не разбудила. Старушка что-то мычала во сне, но глаз не открывала, и лежала пласт пластом. Ганночке это сперва показалось очень смешным – старушка уморительно морщилась, пыталась разомкнуть глаза; но потом девушке стало и скучно, и грустно. Зюлейка, уговаривавшая Асю, долго не приходила, и Ганночка от души обрадовалась, когда наконец увидела ее. Все-таки это была женщина, молодая, красивая, и притом же она казалась Ганночке и доброй, и полюбившей ее.
Зюлейке было легко уговорить скучавшую гостью пойти узнать свое будущее: ведь девушки так любят всякие гадания, кто из них не поддается соблазну заглянуть в неведомую даль грядущего и видеть, что их там ожидает?
– Да, может быть, страшно будет? – боязливо спросила Ганночка.
– Нет, нет, – поспешила успокоить ее Зюлейка, – зачем страшно! Ася – ворожея умелая… Она все тебе покажет… Суженого увидишь… А я буду с тобой рядом, никуда не убегу. Я буду тебя за руку держать, и ты меня держи… Вот и не будет страшно…
Ганночка все еще колебалась.
– Идем, идем скорее, – заторопила ее молоденькая персиянка, – а то еще твоя старуха проснется, она тебя не отпустит… Пойдем скорее, пока она спит!
Молодая девушка боязливо поглядывала на спящую мамку и не решалась последовать за своей пылкой подругой. Та заметила эту нерешительность.
– Ай-ай, какая же ты! – заговорила она. – Ну, не хочешь, как хочешь, не пойдем!.. А как Ася гадает-то хорошо! Еще у нас в Испагани все, кто хотел свою судьбу узнать, к ней шли. И всем она правду говорила… ай, как верно говорила! Расскажет, как на ладони выложит! Так-то верно, так-то верно!
Голос Зюлейки звучал так вкрадчиво, ее убеждения были так соблазнительны, что Ганночка в конце концов поддалась искушению.
– Ну пойдем, милая, что ли, – сказала она и даже вздохнула при этом. – Только, чур, уговор: ежели очень страшно будет, так я убегу…
Зюлейка с радости осыпала свою молодую гостью градом поцелуев.
– О, ты увидишь, что все хорошо будет! – воскликнула она. – Я за тебя рада, ты увидишь все, что тебя ждет в грядущем. Скорее, скорее пойдем!
Что заставляло Зюлейку так радоваться? Пылкая персиянка была искренна в проявлениях своих чувств. Она не считала русскую гостью соперницей себе, не считала, быть может, потому, что не любила князя Василия и даже ненавидела его со всею пылкостью своего горячего, порывистого сердца. Поддаваясь именно порыву, она решила во что бы то ни стало спасти Ганночку, вырвать ее из нечистых объятий Агадар-Ковранского, хотя бы только для того, чтобы досадить ему.
Чем была ей в самом деле эта молоденькая гостья? Так, красивой звездочкой, мелькнувшей в кромешном мраке ее неволи. Но Зюлейка не думала об этом; для нее было главным во что бы то ни стало разбить все замыслы ненавистного ей человека, и ради этого она сама пошла бы на все! Она была уверена в своей власти над старой Асей, единственным живым существом, с которым она могла вспоминать свою далекую знойную родину, но вместе с тем знала, что Ася считала себя рабою, и потому воля ее господина была для нее священна. Но для Аси было нечто высшее, чем дикая воля князя Агадар-Ковранского: Ася была огнепоклонницей и веровала, что священный дух огня правит миром и судьбою всех живущих. На родине она была служительницей огня, но и в неволе ее благоговение перед ним нисколько не ослабло, а, напротив того, еще усилилось, потому что старуха, потерявшая в жизни все, только и жила надеждой, что священный огонь возвратит ей потерянную свободу, и все, чего лишила ее тяжкая неволя.