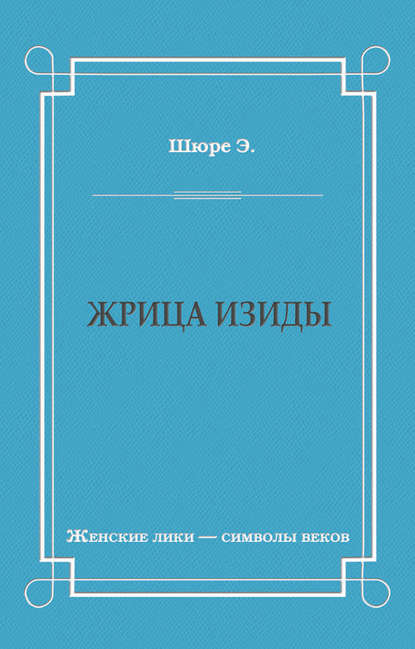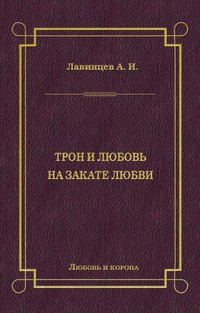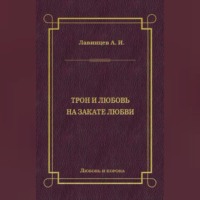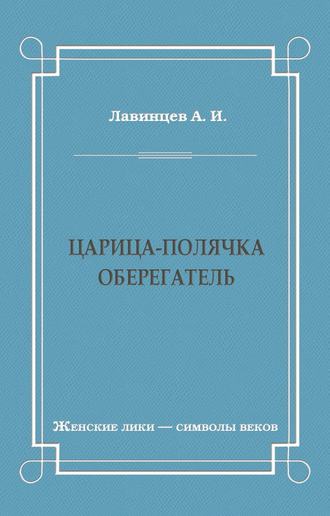
Полная версия
Царица-полячка. Оберегатель
– О хороша, хороша! – воскликнула персиянка. – Я тебя полюбила, я буду твоей сестрой и стану защищать тебя. Хочешь ты быть моей сестрой?
– Хочу! – ответила Ганночка, сразу же покоренная этою ласкою.
– И будешь, и будешь! – захлопала в ладоши персиянка. – Я – Зюлейка, да, я Зюлейка, – ударяя себя в грудь, прибавила она, – а ты? Как зовут тебя?
– Ганна…
– Ганна! – протянула Зюлейка и несколько раз подряд повторила: – Ганна, Ганна! Какое имя!.. У нас так не называют девушек. Но вы – другой народ, совсем другой… Так Ганна! Теперь я буду помнить, как тебя зовут. Ты не бойся, я всегда буду около тебя… О-о, как я ненавижу его! – вдруг с пылкой злобностью воскликнула Зюлейка и даже сжала кулачки.
– Кого? – встревоженно спросила Ганночка, которой были совершенно чужды такие быстрые смены душевных настроений, – кого ты ненавидишь?
– Его, который ушел… князя…
– Князя? – вмешалась в разговор мамка. – Да нешто это – князь?
– Да, да! – закивала головой Зюлейка, – большой князь… могучий… все может, все!.. Он много зла творит, ой много, и никого не боится…
– Ой святители! – взвизгнула мамка, услышавши эти слова. – Да куда же занесло-то нас?.. Уж не к злодеям ли окаянным попали?
Старушка уже успела с помощью безобразной персиянки снять верхние одежды. Тепло сразу растомило ее, и она с ужасом думала, что вот-вот придется одеваться снова и снова идти на холод.
– Оставь, мамушка, – перебила ее причитания Ганночка, и в ее голосе на этот раз даже послышалась строгость. – Слышала ты, чай, что вот Зюлейка говорит: князь – этот добрый молодец, не простец, не смерд, а государев слуга. Так злого на нас он не умыслит. Притом же он знает и про батюшку… Будь, родная, покойна! Побудем здесь, пока полозье поправят, а там и опять с Богом в путь-дорогу.
Зюлейка, слушая эти полные бодрости слова, радостно кивала головой и хлопала в ладоши.
V. Наследственная обида
Старый Серега покорно следовал за молодым красавцем-князем, хотя его сердце было далеко не спокойно. Старик нюхом чувствовал опасность: хотя вокруг него не было заметно ничего угрожающего, но ему сильно не нравился этот заносчиво-дерзкий, надменный молодец, смотревший на все вызывающе, нагло, так нагло, как будто на него во всем московском государстве и управы не было.
Еще более смутился старик, когда приметил, что хозяин ведет его не в сенцы, откуда были двери на крыльцо, а куда-то в глубь таинственного жилья.
– Позволь, батюшка, слово спросить, – наконец не выдержал Сергей. – Куда же ты меня теперь ведешь? Ведь наши возки там у ворот приткнулись, и мне у моих людей место…
Князь глухо засмеялся, а затем грубо сказал:
– Поспеешь еще к своим, старый сыч, допреж этого должен ты мне ответ держать.
– Уж на чем – и не знаю, – недоуменно развел руками Сергей, – кажись, ни в чем перед твоею милостью не провинился.
– Иди, иди! – крикнул в ответ князь и, сам распахнув двери, слегка толкнул в них Сергея.
Они очутились в просторной горнице, светлой днем, а теперь поверженной в сумеречные тени. Ее стены были увешаны тяжелыми медвежьими шкурами, среди которых эффектно выделялись громадные кабаньи головы с оскаленными клыками. Под ними были навешаны рушницы, самопалы, мечи и кинжалы в ножнах с роскошной оправой. Широкие лавки вдоль стен также были покрыты звериными шкурами; в углах стояли светцы, а на столах – жбаны, кубки и чаши, форма которых была заимствована из Немецкой слободы и сделана по-новому – в виде длинных, высоких, на тоненькой ножке стаканов.
– Ну, стань, старый хрыч, вот здесь, – указал хозяин Сергею место против стола, за который он уселся сам, сейчас же небрежно развалившись на широкой лавке. – Отвечай, как попу на духу, и не моги соврать… Солжешь, худо будет.
Произнося эту угрозу, князь так сверкнул глазами, что по спине бедного Сергея мурашки забегали.
– Воля твоя, батюшка, – с заметной дрожью в голосе проговорил он, – а ежели я ничего дурного не сделал, не тать я ночной, не вор государев разбойный, так и таить мне нечего… Ехали мы к господину нашему Симеону Федоровичу в Чернавск, никого по пути не обижая.
– Довольно! – перебил его хозяин. – Ты давно у Сеньки-вора Грушецкого в холопах?..
Старик встрепенулся. Новая грубость этого приютившего их человека обидела его до глубины души.
– Кто ты, батюшка, будешь, то мне неведомо, – с достоинством ответил он, – а господин мой Симеон Федорович своему царю-государю не вор, а от его царского величества службою пожалован. Ты же вот в лесной трущобе живешь и – кто тебя знает – может, у лесных душегубов атаманствуешь. Мало ли кто теперь лихими делами промышляет!
Старый холоп проговорил все это медленно, твердо, не спуская взора с обидчика.
– А ежели про меня тебе узнать желательно, – продолжал он, – так я тебе скажу, что я батюшке господина моего теперешнего с малолетства служил, ребеночком махоньким, несмышленочком его помню, и на смертном ложе обряжал его, и в гроб клал, и в могилу опускал, а теперь верою и правдою, не за страх, а за совесть, его сыну служу и чести его в обиду не дам.
– Замолчи! – громко и грозно вскрикнул молодой князь. – Не для того я тебя призвал, чтобы твои песни слушать. Ежели ты вору Федьке Грушецкому служил, так и на Москве с ним был до того, пока его царь-государь от себя на вотчину отослал?
– Был.
– Неотлучно?
– Может, и отлучался, того не припомню…
– А князя Агадар-Ковранского помнишь? – яростно закричал молодой человек и так стукнул кулаком по столу, что стоявшая на нем посуда ходнем заходила. – Помнишь, как он царем вору Федьке головою был выдан? Помнишь, а?
Голос молодого человека переходил в бешеный крик. Его лицо покраснело, и на лбу показались капли холодного пота, белки глаз налились кровью, он весь так и трясся от охватившей его ярости.
Очевидно, это была чрезвычайно пылкая, страстная, быстро подчинявшаяся впечатлениям натура, которая во всем предпочитала крайности и не признавала уравновешивающей их золотой средины.
В свою очередь припомнил и Серега то, о чем говорил молодой князь.
Это было уже давно; десятки лет уже прошли, а старик при первом же воспоминании увидел перед своими глазами, как живого, высокого, с нерусским лицом старика в пышных боярских одеждах, приведенного по царскому веленью на их двор «для бесчестья». Гордый, надменный стоял он, этот старик, потомок древнего рода прикаспийских властителей, у крыльца своего ворога и молча, без слов выслушивал сыпавшийся на него град ядовитых насмешек, в которых поссорившийся с ним Федор Грушецкий отводил свою душу за нанесенную ему обиду. Смутно припомнил теперь Серега, что старики поссорились «из-за мест» у царского стола. Сел Агадар-Ковранский выше Грушецкого и места своего ни за что не хотел уступить сопернику, а тот шум поднял и о бесчестье кричал. Агадар-Ковранский в долгу не остался и всяким воровством Грушецкого корить начал, каждое дарение припомнил, которое получил Федор Грушецкий, когда на воеводстве был. Такой тогда шум в столовом покое спорщики подняли, что повелел им великий государь обоим вон выйти. Но они и тут не унялись: на крыльце потасовку завели, Агадар-Ковранский Грушецкого за бороду таскал, всю так и вырвал бы, если бы их боярские дети да дворцовые дворяне не развели. А потом царь великий сам разобрал все это дело, и вышло, что не Агадар-Ковранский, а Грушецкий прав. И выдан тогда был обидчик головою обиженному.
Видел Серега гордого князя теперь, как живого. Стоит он у крыльца, не шелохнется, только так огнями глаза и взблескивают да рука сама к поясу по привычке тянется. Хорошо, что нож у него отобрали, а то затуманила бы пылкая южная кровь голову и кончилось бы «бесчестье» смертоубийством.
Только кто же этот молодец? С лица как будто похож на Агадар-Ковранского: те же сверкающие из-под тонких, точно вычерненных бровей очи, та же осанка – гордая, властная, та же пылкость без удержу; да и с голоса он похож: говорит глухо, как будто слова откуда-то изнутри вылетают.
– Ну что, – услышал Серега новый вопрос, – припомнил ли?
– Прости, батюшка, – тихо ответил старик, – господа спорят, так не нам, холопам, разбирать, кто из них прав, кто нет… Не наше это дело холопское! Да и кто ты такой, не ведаю. С чего ты старую свару поднимать вздумал?
– А с того, – так и загремел молодой князь, – что тот Агадар-Ковранский мой дед был, и его позор мне до сих пор душу жжет; как вспомню, так все равно что полымем охватит. И вот теперь сама судьба привела меня старый долг сторицей заплатить. Неспроста, видно, внучка Федьки в мои хоромы залетела: судьба нанесла ее ко мне. Ха-ха-ха! Умница-разумница, золото, а не девка… Вот посмотрю я, как она у меня запляшет… Вдоволь натешусь, а там будь что будет… Эй, кто там! – И молодой человек громко захлопал в ладоши.
VI. От гнева к гневу
Старый Серега был далеко не труслив и видал на своем веку всякие виды, но так и вздрогнул, услыхав это призывное хлопанье в ладоши. Он теперь уже не предчувствовал, а видел беду и страшился – правда, не за себя, а за свою ненаглядную боярышню, доверенную его попечениям.
– Батюшка князь! – сдавленным голосом выкрикнул он. – Что ты задумал?
– А вот сам, коли поживешь, увидишь! – загадочно усмехнулся Агадар-Ковранский.
– Смотри, Господь тебя накажет! – снова крикнул окончательно терявший голову старый холоп. – Он-то все видит…
– Накажет? За что? – опять зло и загадочно усмехнулся молодой человек.
– Ежели ты что-либо злое против боярышни Агафьи Семеновны задумал… Гостья она твоя, твоей чести княжеской доверилась… И думать не могли мы, что к разбойнику-атаману попали.
– Молчи! – весь багровея, выкрикнул Агадар-Ковранский. – Молчи, или я тебе сейчас глотку заткну!
Он злобно сверкнул глазами и схватился за рукоять заткнутого за пояс ножа; но в это мгновение в покое, из-за дверей, завешенных тяжелой медвежьей шкурой, бесшумно появились двое людей с нерусскими лицами, скулы и узкие, словно прорезанные щели, глаза выдавали их восточное происхождение.
Оба были высоки ростом, широки в плечах и, очевидно, обладали громадною физическою силою. Они смотрели на князя таким же подобострастно-собачьим взглядом, каким смотрела на него и старуха Ася, приставленная к красавице Зюлейке. Ясно было, что достаточно взгляда повелителя, чтобы эти преданные рабы без рассуждений исполнили всякое, даже самое ужасное дело.
– Болтает холопий язык без разумения, – проговорил князь, видимо сдержав страшным усилием воли свой гнев, – все вы, псы потрясучие, на один лад… Гассан, Мегмет! – обратился он к своим приспешникам. – Возьмите этого сыча, угостите его вместе с другими холопами на славу… так угостите, чтобы долго, всю жизнь помнил наше гостеприимство!
Дольше он не мог сдерживать клокотавшие в нем ярость и гнев и разразился неестественным, скорее всего, истерическим смехом, быстро перешедшим в неистовый хохот.
– Ну, пойдем, душа моя, – проговорил Гассан, кладя руку на плечо Сергея, – ты иди, иди себе, не бойся ничего: наш господин куда какой добрый… Он тебя угостить велел… Иди же, а то другие-то твои, куда пить лихи, выпьют все, съедят все, и тебе, душа моя, ничего не останется…
– Иди, иди, – слегка подтолкнул старика и Мегмет, – а то господин осерчает, тогда худо будет.
Сергей понимал, что сопротивление с его стороны было бы бесполезно.
– Князь! – торжественно проговорил он. – Помни: Господь не попускает злу и наказывает обидчика…
– Иди прочь! С глаз долой! – закричал и затопал ногами Агадар-Ковранский. – Вы что, – сжал он кулаки на своих слуг, – чего еще язык чесать даете!
В одно мгновение Сергей, словно вихрем выброшенный, очутился за дверью в другом покое.
– Ну, какой ты, душа моя! – укоризненно покачивая головой, проговорил Мегмет. – Ну зачем тебе господина нашего гневить?.. Ведь никто с тебя шкуры еще не спускает…
– В вашей я воле, – тихо и печально проговорил старик, – делайте что хотите, ежели креста на вас нет…
Гассан и Мегмет, перемигнувшись между собою, громко захохотали.
– Смейтесь, смейтесь! – воскликнул Сергей, которого морозом по коже подрало от этого хохота. – На том свете за все про все рассчитаетесь…
Его возбуждение пропало, отчаяние уже овладело им. Старик не видел выхода из создавшегося ужасного положения и машинально передвигал ноги, следуя за своими проводниками, все время пересмеивавшимися и весело болтавшими на непонятном ему наречии.
Но каково же было его изумление – он даже рот с диву разинул и глаза выпучил, – когда после нескольких переходов открылась дверь в длинный просторный покой, очевидно бывший людскою в этом странном доме, и там он за столами, уставленными всякими яствами – окороками, пирогами, мисками с варевом и жбанами с питиями – увидел кучеров своего поезда, двух горничных девок боярышни и мальчугана Федьку, нашедшего это таинственное жилье. С ними были еще незнакомые Сергею люди, очевидно слуги князя Агадар-Ковранского. Все они весело и беззаботно угощались, на их лицах не было заметно никаких признаков страха. Из челядинцев Грушецкого не хватало только троих вершников. Сергей сразу приметил это, но его удивление было так велико, так сильно, что он на первых порах и слова выговорить не мог.
Между тем челядинцы Грушецкого заметили своего набольшего.
– Эй, дядя Сергей, Серега, кум Сергей, – закричали все они разом, – вот и ты, живые мощи, явился… Куда запропал?.. Ишь, как князенька здешний – дай ему Бог всякого здоровья! – угощает…
– Садись, душа моя, садись скорее за стол! – слегка и даже дружелюбно подтолкнул в бок старика Гассан, – будь гостем!..
Сергей все еще нерешительно приблизился к столу. Сидевшие на скамьях пораздвинулись, очищая ему место.
«Уж не во сне ли я все это вижу? – подумал старик, опускаясь на скамью. – Может, и в самом деле я понапрасну князя изобидел, может, никакой беде и не бывать?.. А ежели так, то с чего же он, как ерш, ерепенился?»
Однако сердце старого холопа ныло, предчувствия не оставляли его, но он понимал, что в такой обстановке невозможно было выражать подозрения.
А между тем мрачные предчувствия отнюдь не обманывали старого холопа.
Князь Василий Лукич, оставшись один в своем покое, забегал по нему, как бегает разъяренный зверь по своей клетке. В его душе так и ревела буря, думы и мысли в его распаленном мозгу словно вихрем крутило и рвало. Горячая южная кровь так и бурлила, кидаясь в голову, туманя ее до того, что князь видел ясно созданные воображением образы.
Дедовское оскорбление, так и оставшееся в наследство внуку неотмщенным, всегда сушило князя Агадара, всегда давило страшной тяжестью его гордую душу, и теперь сама судьба как бы посылала ему полную возможность отмстить так, как могло подсказать только болезненное, распаленное воображение.
Пылкий князь уже теперь начинал чувствовать сладость мести. Ему до жуткости сладко было представлять себе, как он будет утолять свою ярость. Он не торопился, а как тигр, уже захвативший жертву, отдалял решительный миг, наслаждаясь пока тем, что создавал его мозг. По временам из груди князя вырывался дикий хохот, мрачный и грозный. Только почувствовав усталость, он грузно опустился на скамью и, громко свистнув, захлопал в ладоши. На этот зов сейчас же явилась старая безобразная Ася. Грозно нахмурив брови, заговорил с ней князь Василий на понятном только им одним восточном наречии. Старуха слушала его, то и дело кланяясь.
– А теперь проведи меня к Зюлейкину покою, – уже по-русски крикнул Агадар, покончив с приказаниями, – я хочу видеть ее… да, видеть, но так, чтобы она меня не приметила…
Ася снова в знак повиновения склонила голову, приложив ко лбу руку. Потом она тихо, по-кошачьи, шмыгнула вперед. Князь последовал за нею.
Покои Зюлейки были отделены от комнаты князя длинным переходом, в конце которого была также завешенная звериной шкурой дверь.
Слегка приподняв эту своеобразную портьеру, Василий Лукич заглянул внутрь покоя. Ганночка сидела на скамье у окна рядом с нежно обнявшей ее Зюлейкой. В глубине покоя у лежанки дремала, облокотившись на нее, мамка.
– Как хороша! Ангел небесный! – невольно вырвался у князя Василия восторженный лепет. – Как хороша! – Но на его губах так и зазмеилась нехорошая, злобная улыбка. – Пусть, пусть! Слаще будет моя месть… Да, судьба отдает мне эту красавицу…
VII. Лесное логово
Должно быть, Ганночка почувствовала на себе чужой горящий взор. Она забеспокоилась, зашевелилась и даже привстала со своего места. Князь Василий сейчас же отпрянул прочь и, схватив Асю за руку, потащил ее за собою назад…
– Смотри, ведьма, – прерывисто крикнул он, – чтобы все было исполнено, как я приказал… Весь твой поганый дух вышибу, ежели слукавишь, а теперь убирайся, вернусь ночью!.. Чтобы у тебя все было готово… Вон!
Ася бесшумно, как тень, скрылась.
– Эй, Гассан, – закричал и захлопал в ладоши Агадар, – коня!
– Прикажешь мне быть с тобой, господин, – спросил появившийся на зов словно из-под земли Гассан.
– К дьяволу на рога! – закричал на него Агадар. – Один на усадьбу еду!.. У вас здесь свое дело… Что наезжие холопы?
– Угощаются по-твоему велению, господин, – было ответом, – все исполнено, как ты приказал…
– То-то! Чтобы к ночи все они замертво перепоены были… Сонного порошка в брагу подсыпь, но чтобы все они пластом лежали, когда я вернусь… Запорю, жилы вытяну, ежели что не так будет…
– Будь спокоен, господин! – ответил Гассан. – Верою и правдою мы тебе всегда служили и теперь послужим. Не наше дело – раздумывать, что зачем; что ты приказываешь, должно нам исполнять, не прекословя.
По виду Гассан был совершенно спокоен, но его узкие глаза так и бегали из стороны в сторону. Видно было, что его душа далеко не была так спокойна, как лицо.
– Все, господин, будет исполнено, все! – повторил он еще раз, – за это я отвечаю тебе!..
Эти слова были сказаны уже вдогонку Агадар-Ковранскому, быстро вышедшему из покоя. Гассан так ловко шмыгнул, что очутился впереди своего повелителя, и, когда князь вышел на крыльцо, здесь уже ожидал его великолепный горячий конь, которого еле-еле могли сдержать под уздцы двое дюжих конюхов монгольского типа.
Князь легко и лихо вскочил на седло. По всему было видно, что он – превосходный наездник. Очутившись в седле, князь огрел коня плетью по крутым бедрам. Тот, храпя и дико озираясь налитыми кровью глазами, взвился было на дыбы, стараясь сбросить с себя всадника, но напрасно: князь Василий словно прирос к седлу, и град ударов нагайкой заставил смириться могучее животное перед человеком. Конь опустил передние ноги и рванулся вперед. Как раз в это мгновение князь дико гикнул, взвизгнул, и испуганный конь вихрем помчался вперед, роняя на белый снег клубья багрово-кровавой пены. Все это заняло минуты полторы, не более. Трудно было заметить, как скрылся князь за поворотом дороги, – так быстро унес его конь. Конюхи и Гассан стояли на крыльце как очарованные.
– Лихо, шайтан его пополам разорви! – пробормотал один из них, приходя наконец в себя.
– И вот постоянно он так-то, – ответил другой, – столько в нем силы да удали молодецкой, что и размыкать где их не знает…
Гассан, слыша эти слова, вздохнул полной грудью и тихо, с явным сожалением в тоне голоса, произнес:
– В степи бы родимые вернуться ему! Там простор по нему, а здесь, в Москве, он – что орел в клетке. А кровь дедовская так вот и играет… Эй, да что… Воля Аллаха такова, и против нее не пойдешь… Идем, что ли, к гостям-то?.. Поди, заскучали без нас!
Он повернулся и побрел в дом.
У дверей в сени Гассан остановился и как-то нехотя сказал:
– Не по сердцу мне затея господина нашего!
– А что? – недоумевая, спросил следовавший по пятам за ним конюх, – будто зло какое затевает: ишь, угощать велел…
– Ну-у! – Гассан раздумчиво покачал головой, махнул рукой и перешагнул порог.
А в это время князь Василий мчался по наезженной дороге. После нескольких минут бешеной скачки он свернул в сторону и, сдержав коня, заставил его войти в кустарник, окаймлявший дорогу. За кустарником вилась чуть заметная тропинка, и по ней-то Агадар-Ковранский и направил коня.
Мглистые весенние сумерки уже переходили в ночь. Однако было достаточно светло, когда после довольно далекого пути князь добрался через лес до обширной поляны, со всех сторон окруженной вековыми соснами. Посредине этой поляны стояли богатые – похожие, впрочем, на крепость хоромы, около которых раскинулись разные службы. Это было поместье Василия Лукича.
Каждый устраивается по своему вкусу, и дикость места, должно быть, в совершенстве соответствовала дикой натуре Агадар-Ковранских, этих недавних выходцев из прикаспийских степей. Они как будто хоронились от людей в этой лесной глуши, и все, по крайней мере и князь Василий, и его отец, и дед, жили двойственной жизнью. На Москве, близ царя, они были совсем другими людьми. Там они сдерживали свои порывы и казались не хуже остальных царедворцев, но, попадая из Москвы в свое поместье, сразу же обращались в дикарей; все наносное спадало с них, души как будто освобождались от всех внешних покровов, от всего, что сдерживает порывы, и в своем поместье князья Агадар-Ковранские были тиграми в логовищах.
Князь Василий Лукич был последним представителем своего рода. Он был единственным сыном своего отца, уже давно умершего. Матери князь Василий даже не помнил – она умерла, когда он был еще ребенком. Единственной родной душою у него была старуха-тетка по матери, которую он обожал со всею пылкостью своей страстной натуры. Марья Ильинична, так звали тетку князя Василия, вдова незнатного дворянина, воспитала его, сироту. Она заменила ему мать, но не могла справиться с дикостью и пылкостью племянника в детстве, а потом, когда он вошел в зрелые годы, справляться с ним было уже поздно. Все-таки Марья Ильинична была во всем мире единственным существом, которое имело хотя какое-нибудь влияние на буйного, своевольного удальца. Старушка была уже дряхла и от лет слаба телом, но ее разум был светел и душа чиста от всякого зла и житейской скверны. Она безвыездно жила в лесном поместье племянника и благодаря этому всем, кто был около нее, жилось довольно сносно.
К ней-то и помчался из своего дома на опушке леса князь Василий, чтобы поделиться с нею тою радостью, какую доставила его душе мысль об отмщении за дедовскую обиду.
Неукротимый нрав молодого князя был хорошо известен всей его дворне и челяди. Известна была его жестокость в расправах, и это заставляло всех постоянно быть начеку. Едва только конь вынес Василия Лукича на поляну, как в хоромах уже заметили его, и навстречу кинулись десятки людей. Одни спешили принять коня, другие просто суетились вокруг, третьи рвались, чтобы приложиться к княжеской ручке.
– Государыня-тетушка не легла еще опочивать? – не глядя ни на кого, громко спросил князь, быстро взбегая на крыльцо, и, когда услышал, что Марья Ильинична только что еще повечерять изволила, отдал новое приказание: – Пусть к ней кто-нибудь бежит и доложит, что, дескать, опять Василий прибыл и позволения просит к ней пойти… – Он остался на крыльце, глядя, как усердные конюхи вываживали перед ним коня. – Чтобы через час он у меня в порядке был! – крикнул князь. – Я назад поеду.
В это время бегом возвратившийся холоп доложил ему, что государыня-тетушка Марья Ильинична рада видеть своего племянника и ожидает его.
VIII. Разбушевавшаяся буря
Несколько робея, вошел неукротимый Агадар-Ковранский в покой своей престарелой тетки.
Перед ним, пока он шел по дому, везде распахивались двери, многочисленная челядь и приживальцы – последних у щедрых князей Агадар-Ковранских всегда было множество – отвешивали ему низкие, подобострастные поклоны. Князь Василий не замечал этого.
У дверей тетушкина покоя сидел низенький дряхлый, седой как лунь, со сморщенным в кулачок, похожим на печеное яблоко лицом старикашка, единственный собственный холоп Марьи Ильиничны. Его звали Дротом, хотя крестовое имя у него было совсем другое, но вряд ли он и сам его помнил и откликался только на свою привычную кличку. В качестве не принадлежащего ни к дворне, ни к челяди князей человека, он держал себя самостоятельно и, бывало, не спускал даже князю Василию, и не только перечил ему, но иногда и дерзил, что, впрочем, всегда благополучно сходило ему: так сумело поставить себя в этом логове «диких князей» это беспомощное, бесправное, дряхлое и хилое существо.
И теперь Дрот, хотя и видел подходящего князя, сделал вид, что даже не замечает его. Он не встал с низенькой скамеечки, на которой сидел у дверей, даже головы не поднял, а остался сидеть, как сидел, и вдобавок ко всему замурлыкал себе что-то под нос.
Князь Василий, подойдя почти к порогу, остановился, нерешительно поглядел на Дрота и несколько заискивающим тоном вполголоса выговорил: