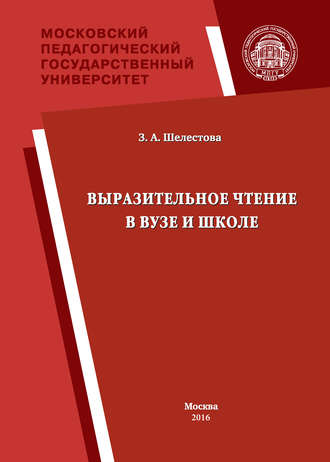 полная версия
полная версияВыразительное чтение в вузе и школе
Вместе со зрительными представлениями должны сочетаться звуковые, вкусовые, осязательные и другие представления. В своих видениях чтец может широко использовать личные воспоминания, ассоциации, наблюдения. Герои произведения могут напомнить ему реальных людей, те или иные ситуации и чувства – лично пережитое в жизни. Возьмем, например, отрывок из рассказа И. С. Тургенева «Певцы»: «Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо, – оно было бледно, как у мертвого: глаза его едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел… "Не одна во поле дороженька пролегла", – пел он, и всем нам сладко становилось и жутко». Работая над этим текстом, необходимо не только представить Якова и окружающих его людей, их внешний облик, поведение, внутреннее состояние, но и услышать пение Якова, звук его голоса, все его переливы и изменения, интонации, паузы.
Наряду с мыслями и видениями исполнитель должен понять и искренно разделить отношение автора к событиям и людям, т. е. сделать своими и его чувства. Однако чувства нельзя вызвать по заказу, насильно. Но если мы представим, что нас публично оскорбили, нарисуем себе очень живо, ярко эту сцену – наглость оскорбившего, недоумения и улыбки окружающих, поймем, как незаслуженно оскорбление, – у нас невольно возникнет чувство возмущения, негодования. Следовательно, «осмысление текста и накопление видений, – считает Н. А. Бендер, – есть органический путь возникновения живых, искренних чувств рассказчика» [13а, с. 44].
Исполнительские задачи чтеца, его мысли, видения и чувства в совокупности составляют подтекст исполнителя. «Подтекст – это то, что заставляет нас говорить слова роли», – писал К. С. Станиславский [13а, с. 46]. Главное для чтеца – правильно вскрыть и донести подтекст, который рождает слова исполнителя.
После того как подтекст найден и исполнитель вжился в него, он может начать «действовать» словами – произносить текст в соответствии с поставленными задачами. Главное в процессе словесного действия – это умение рисовать свои видения. Станиславский считал, что стремление актера передать свои видения, заразить ими других является основой словесного действия при передаче любого текста. «Говорить – значит рисовать зрительные образы» [108, с. 88]. Передавая видения, надо стремиться к тому, чтобы другие увидели так же, как видите вы сами, как бы вашими глазами. «Но, передавая видение, – предостерегает Н. А. Бендер, – надо умело распределять краски. Нельзя все рисовать одинаково подробно и ярко. Когда вы хотите привлечь к чему-то внимание слушателя, ваши видения должны быть переданы выпукло, зримо, подробно» [32, с. 31]. Во всех же второстепенных, проходных моментах рассказа их надо рисовать легко, бегло, не задерживая на них внимание слушателей.
Словесные действия требуют от чтеца подлинного и непрерывного общения со слушателями. Общение – это не только наше стремление действовать на кого-то, но и «учет того, как наш собеседник воспринимает наши слова, как он реагирует на них» [13а, с. 51]. Общение, таким образом, требует учета ответного воздействия – воздействия слушателя на чтеца. Оно выражается в реакции слушателей, степени их понимания, смехе, слезах и т. д. В зависимости от количества зрителей и их состава реакция может быть различной. Чтец каждый раз должен заново воспринимать и учитывать эту реакцию.
Н. А. Бендер советует еще в репетиционный период проследить свою внутреннюю взаимосвязь с будущим слушателем, исходя из текста произведения. Выступления чтеца в противоположность драматическому артисту всегда представляют монолог. Партнер чтеца – зрители – слушают его молча. Но когда люди молчат, это не значит, что они мысленно не реагируют на наши слова. У чтеца с аудиторией должен происходить «внутренний диалог». Работая над текстом, чтецу полезно проследить этот «внутренний диалог», знать, на что направлен в каждый отдельный момент интерес слушателей, какие могут возникнуть вопросы, когда и какие они получат на них ответы.
Общение не надо понимать как непрерывное «глядение» на партнера, обязательное прямое обращение к нему. Когда исполнитель все время как бы вдалбливает текст слушателям, ни на минуту не отрываясь от них, его чтение становится утомительным и назойливым. К. С. Станиславский в творчестве актера различал три вида общения: 1) с реально существующим партнером, 2) с воображаемым партнером, 3) самообщение. Все эти виды используются и в искусстве художественного чтения. Общение – это непрерывная внутренняя связь со слушателями и виды и способы этой связи могут быть различными. Когда мы в жизни рассказываем о чем-либо, мы можем временами задуматься, вспомнить, представить что-то и не глядя на людей, которые нас слушают. Так же может поступать и чтец, но важно, чтобы в эти моменты он не терял внутренней связи с аудиторией, внутреннего посыла к ней.
Общение с партнером (и слушателями) продолжается и в паузах. Паузы бывают необходимы чтецу для того, чтобы дать возможность слушателям воспринять и оценить какую-то важную мысль, факт, сообщение. Паузой чтец может усиливать, развивать заинтересованность слушателей, прерывая рассказ в моменты наиболее острых, неожиданных сюжетных поворотов. Паузы помогают воздействию на слушателей. Выбор вида и способа общения зависит прежде всего от содержания текста, а также от художественных особенностей произведения. Общение с воображаемым партнером и самообщение можно применять при исполнении лирической поэзии и прозаических произведений, написанных в форме писем или дневников. Начинающему чтецу прежде всего надо научиться общению с реальным партнером-слушателем. Таким путем легче добиться правдивости и действенности исполнителя.
Важным моментом в работе чтеца является передача прямой речи персонажей. Нередко чтецы пытаются полностью перевоплотиться в образ персонажа. И это неправильно. Однако рассказ об образе включает в себя возможность яркого показа этого образа. Для этого необходимо ясно представить себе человека: его внешность, походку, голос, манеру поведения. Важно понять цель действия и слов персонажа, проанализировать его внутреннее состояние, учесть обстоятельства, в которых он находится. Передавая слова персонажа, надо все время помнить: вот что он или она сказали, вот что он или она ответили, вот как реагировали. Надо помнить, советует Н. А. Бендер, что это не вы говорите, а кто-то другой, о ком вы только рассказываете, кого только показываете. Иначе можно потерять ощущение своей личности рассказчика.
Детально проработав текст каждого отдельного куска, чтец должен вернуться к восприятию всего произведения и почувствовать перспективы своего рассказа. К. С. Станиславский под перспективой понимал «расчетливое, гармоническое соотношение частей при охвате всего целого пьесы или роли» [108, с. 135]. У чтеца, по мнению Н. А. Бендер, такое соотношение и распределение частей всего рассказа должно быть особенно четким, потому что как рассказчик он заранее знает весь ход событий. Только в том случае, если чтец будет все время ощущать взаимосвязь отдельных частей, его исполнение приобретет необходимую целеустремленность, стройность и он сумеет выделить наиболее важные места за счет второстепенных.
Важно, чтобы чтец всегда стремился к подлинности своего действия. Станиславский подчеркивал, что актер должен подлинно мыслить, подлинно чувствовать, подлинно общаться, подлинно действовать, а не притворяться мыслящим, чувствующим, общающимся, действующим. Для этого исполнителю надо воспитывать в себе «чувство правды». Кроме того, для подлинного общения необходим сценический покой, который позволит исполнителю по-настоящему видеть, слышать, воспринимать поведение живого, конкретного сегодняшнего слушателя и избавит от растерянности при неожиданных реакциях зала. «Сценический же покой можно воспитывать в себе только частыми публичными выступлениями» [13а, с. 66].
А. Д. Познанский исполнительскому анализу посвятил пятое письмо из семи, написанных им в форме советов чтецу-любителю. Для него исполнительский анализ – это процесс перевоплощения чтеца в образ рассказчика. Для этого «мне необходимо конкретизировать весь комплекс внутренних черт того человека, которого я беру за основу образа рассказчика. Я должен знать его во всех проявлениях как самого себя: его походку, манеру говорить, реагировать на разные события» [93, с. 34].
А. Д. Познанский советует ощущать верность характера по тому, насколько органичным, легким для произнесения вслух становится авторский текст. Как говорили старые актеры: «Текст лег на образ». Рассказик должен воспроизвести перед внутренним взором слушателей те события, участником или свидетелем которых он был. Однако не следует путать действенную задачу рассказчика со сверхзадачей, которая принадлежит артисту, а не образу, не рассказчику, и которая выражается в стремлении чтеца воздействовать на зрителей в соответствии с идеей произведения. Ярко, образно и точно можно рассказать только о том, что сам видел или сам пережил. Свои советы очень удачно А. Д. Познанский демонстрирует на рассказе В. М. Шукшина «Сапожки».
Вчитываясь в текст, вживаясь в найденный образ, предстоит увидеть глазами рассказчика все то, что произошло однажды с колхозным шофером Сергеем Духаниным. Вот Сергей стоит в магазине у прилавка и рассматривает сапожки. Надо точно знать этот магазин (большой он или маленький, много в нем покупателей или, кроме Сергея, нет никого). Мы знаем, что продавщица недоброжелательна. Стоит она за прилавком, сидит или прохаживается, справа или слева от Сергея, как смотрит на покупателя или разговаривает, пренебрежительно отвернувшись? Только когда все в рассказе станет материальным, выделенным рассказчиком, и пережитым, когда при одном слове «магазин» в воображении будет возникать совершенно конкретная картина с витринами, прилавками, людьми, «только тогда рассказ сможет вызвать у слушателей ответную реакцию и конкретное видение. Всякая же неправда… может поколебать веру слушателя в достоверность всего произведения» [93, с. 36].
Сергей вышел из магазина и закурил. Это есть в тексте. Но там нет ни слова о том, как он закурил. На улице может быть ветер, значит, он мог закурить, отвернувшись от ветра. А может быть, он курит и не выпускает папиросу изо рта. Сергей пошел к ларьку и стал в очередь за пивом. Наверное, он ни с кем не разговаривает и никого не слушает. И пиво-то ему, наверное, не хочется, а просто необходимо время на принятие серьезного решения. Он думает. И только обмозговав и взвесив все: и тяжелую бабью долю, и ту радость, какую он доставит жене подарком, Сергей возвращается в магазин. Он разговаривает с продавщицей по-деловому, серьезно, и даже такой ее веский аргумент, что сапожки надо примерять, не сбивает Сергея.
Дальнейшее действие переносится в дежурку автобазы. Следует представить себе во всех деталях и эту дежурку (ее размер, обстановку, освещение), и заполнивших ее людей. Сапожки увидели, заинтересовались ими, и Сергей почувствовал что-то вроде гордости за свою покупку, но как только он объявил цену этих сапог, отношение к нему резко изменилось. Вместо ожидаемых похвал на него посыпались насмешки. И самое обидное в том, что он почувствовал, что они правы, что сапоги – не самая необходимая вещь в их с Клавой жизни.
Впереди самое главное испытание: как примет подарок жена? Поймет ли красоту его жеста или укорит за напрасно истраченные деньги? Но умница Клава прекрасно поняла своего мужа. И хоть малы оказались ей эти сапожки, хоть слезы навернулись на ее глазах, она не только ни словом не упрекнула мужа, а даже сделала вид, будто и цена этих сапог ее нисколько не интересует, а улыбнулась она такой улыбкой, что в сердце Сергея снова шевельнулась забытая уже любовь. А это для Сергея было дороже всего.
Для удобства работы над произведением целесообразно разбить его на «куски» и озаглавить их так, чтобы в названии было кратко сформулировано содержание каждого фрагмента:
1. Сергей приценивается к сапожкам.
2. Сергей думает о предстоящей покупке.
3. Он покупает сапоги.
4. Герой в дежурке защищает покупку.
5. Клава оценила поступок мужа.
Деление на куски, конечно, условно. Но каждый кусок имеет свой ритм, свой сюжет и свое настроение, а объединяет их сверхзадача чтеца, т. е. мысль, которая заставляет его выйти на сцену. Прежде чем учить текст, А. Д. Познанский советует «вчитаться в него так, чтобы за каждым словом стояло конкретное явление» [93, с. 40].
Таким образом, примеры исполнительского анализа, предложенные мастерами художественного слова, свидетельствуют о высоком уровне их режиссерско-педагогической компетентности. На таком уровне должен находиться и преподаватель «Практикума по выразительному чтению», чтобы методически грамотно обучать студентов искусству чтения. Главное в их работе с исполнителем – помочь создать художественную интерпретацию произведения, провести по герменевтическому кругу понимания и организовать живое общение с будущими слушателям с целью вызвать у них эстетическое переживание и наслаждение от встреч с произведениями звучащей литературы.
Однако исполнительский анализ невозможен без учета жанрово-родовых особенностей произведений, о которых мы расскажем в следующем параграфе. Материалом послужили тексты, над которыми велась работа со студентами на занятиях практикума по выразительному чтению.
2.2. Особенности чтения произведений различных родов и жанров
2.2.1. Чтение художественной прозы
Воплощение литературного произведения в звучащем слове требует большой предварительной работы и немалого творческого напряжения. Чтение художественной прозы имеет свои особенности, обусловленные родовой и жанровой спецификой произведения, выбранного для работы.
Художественная проза тяготеет к эпическому искусству. Решающую роль в эпическом роде литературы играет повествование, последовательное развитие действия, рассказ об уже происшедших событиях, который ведется как бы со стороны наблюдателем или участником. Для повествователя характерна позиция человека, вспоминающего о случившемся. Это позволяет ему заранее знать, куда приведет его рассказ. Чтец должен прежде всего определить для себя лично линию автора и через свое отношение к ней сделать ее своей, подавая повествование от своего имени.
Основу повествования составляют события и характеры, однако эпическая форма воспроизводит не только рассказываемое, но и рассказывающего, его видение мира, способ мышления, характер, манеру говорить. Чтецу, по выражению Г. В. Артоболевского, важно соблюдать «единство образа повествователя». Заметим, однако, что понятие «образ автора-повествователя» нельзя путать с понятием «автор литературного произведения». Подлинный автор, считает М. М. Бахтин, «не может стать образом, ибо он создатель всякого образа, всего образного в произведении» [10б, с. 203]. Поэтому так называемый «образ автора-повествователя», второго «я» автора, человека определенного времени, определенной биографии и определенного мировоззрения, может быть только одним из образов данного произведения. Неслучайно А. Я. Закушняк, для которого художественное произведение, его творец всегда оставались святая святых, любил повторять: «Писатель – друг мой» [47, с. 174].
Чтец, внутренне слившись с автором, должен сделаться «как бы вторым автором». Для этого ему необходимо перевоплотиться в образ рассказчика. Чтецу не нужен грим, костюм, мизансцена, но всем своим обликом он, как и актер, сливается с образом, образом рассказчика, от лица которого рассказывает о всех персонажах и событиях. Своим отношением он объединяет всех действующих лиц и именно рассказывает о них, а не изображает их. Тут важно помнить совет А. Я. Закушняка: «Рассказывая литературное произведение, ни в коем случае нельзя увлекаться изображением действующих в нем персонажей, нужно именно рассказывать о них» [47, с. 35]. Во время работы у каждого исполнителя вырабатывается своя методика подготовки к чтению. Однако всякая методика имеет общие закономерности. Для того чтобы показать их, обратимся к рассказам А. П. Чехова «Гриша» и М. М. Пришвина «Сочинитель».
Рассказы А. П. Чехова, великолепным мастером которых он является, нередко называют новеллами. Их основные признаки – небольшой объем произведения, включающего в себя обычно один эпизод, готовые сложившиеся характеры, отточенная речь, сжатый и интенсивный сюжет, неожиданная концовка. В них нет ничего лишнего, все точно, сжато. Однако при необычайной лаконичности формы каждое произведение писателя исполнено глубокого внутреннего смысла. Л. Н. Тол – стой называл Чехова «Пушкиным в прозе».
В поэтике короткого рассказа А. П. Чехова существенное место занимает вопрос о творчестве читателя, который, по мнению писателя, на основе каких-либо двух-трех искусно поданных деталей, штрихов должен сам многое довоссоздать в своем воображении, о многом догадаться, дополнить недостающее. Отсюда – стремление чтеца помочь слушателям как можно глубже проникнуть в чеховский мир, осознать чеховский взгляд «со стороны». Писатель тонко и ненавязчиво ведет читателя в мир своих героев. Тем, кто берется читать с эстрады А. Чехова, говорил Д. Н. Журавлев, «надо всегда помнить, что мы, чтецы, прикасаясь к его творчеству, должны прежде всего бережно относиться к авторскому тексту, не допуская всякого рода вольностей» [46а, с. 204–205].
Оригинальность рассказа А. П. Чехова «Гриша» заключается в том, что в основе его лежит не столько воспроизведение внешних событий из жизни ребенка двух лет и восьми месяцев от роду, сколько повествование о мировосприятии мальчика, переполненного впечатлениями пережитого дня.
Исполнительская задача чтеца – показать несоответствие двух восприятий, двух миров – детского и взрослого, то, как А. П. Чехов хорошо понимал детей. Его рассказ написан с рентгенологической точностью проникновения в психологию ребенка, впервые познающего окружающее. Чтецу надо показать, как важен каждый шаг в жизни растущего человека, как зачастую нелегко ему, маленькому и несмышленному, ориентироваться в сложном и противоречивом, таком далеком от его собственной жизни мире, вызвать у слушателей желание стать более внимательными к детям, их заботам и переживаниям, которые порой по своей драматичности не уступают заботам и переживаниям взрослых людей.
Исполнять рассказ «Гриша» может только тот, кто хорошо понимает природу человеческого юмора. Все произведение проникнуто чеховской улыбкой, потому что детское восприятие сопоставляется со взрослым, а они – взрослые – Гришу не понимают. Что для взрослого пустяк, то для ребенка полно значения. Гришу становится жалко, но А. П. Чехов исключает всякий сантимент или умиление. «Перевернутость» детского сознания описана с огромным уважением к маленькому человеку.
Непосредственную работу с текстом следует начать с анализа хода повествования и уяснения построения произведения. При этом важно составить план рассказа, который поможет лучше освоить текст, запомнить его и определить ряд конкретных исполнительских задач. Отработка заголовков пунктов плана и словесных формулировок задач необязательны, так как это бывает трудно и ведет иногда к излишней рассудочности анализа. Но совершенно обязательно проникновение в смысл (подтекст) каждого куска произведения, освоение предлагаемых обстоятельств, работа над видениями, выявление внутренних отношений, намерений героев, уточнение логики их внутренних смысловых задач и целей, анализ выразительных средств, особенностей повествования автора.
Рассказ состоит из следующих частей: 1. Знакомство с Гришей. 2. Описание «четырехугольного мира» мальчика. 3. Гриша на улице. 4. Человек со светлыми пуговицами. 5. В гостях у кухарки. 6. «Болезнь» Гриши.
Мы знакомимся с Гришей во время его прогулки с нянькой по бульвару. Задача 1-й части – нарисовать портрет Гриши, его неуклюжую, смешную фигурку, вызвать сочувствие к его физическому состоянию – мальчику душно, жарко, а «тут еще разгулявшееся апрельское солнце». Затем с легким, мягким юмором рассказываем о знакомом Грише «четырехугольном» мире, в котором бывают няня, мама и кошка, похожая на папину шубу. Этот мир столь привычен для ребенка, что загадкой кажутся папа и тетя, однажды подарившая мальчику барабан.
Новый мир на улице, где солнце режет глаза, стучат экипажи, суетятся люди – такой необычный и удивительный, что Гриша ошеломлен им. Исполнителю важно передать не только уличные впечатления мальчика, странных и нелепых лошадей с длинными ногами, мелькающими перед глазами, толпу солдат с банными вениками под мышками, «бегущих кошек с задранными вверх хвостами», т. е. собак, маленькое «корыто с апельсинами в руках какой-то няни», сверкающее, как лампадка, стеклышко под ногами, – но и заинтересовать слушателей внутренним состоянием Гриши, раскрыть его взаимоотношения с нянькой, которая совсем не считает нужным церемониться со своим подопечным: бьет его по рукам, грубо хватает за плечи, вырывает из рук апельсин, кричит на мальчика: «Дурак!», «Ну-ну-ну! Подождешь!»
Неожиданная для Гриши встреча с приятелем няньки завершает впечатление улицы. В высоком мужчине мальчика больше всего поражают светлые пуговицы, которые для Гриши составляют исчерпывающую характеристику этого человека. Но автор знает о своих героях больше, чем кто бы то ни был другой. Сложность задачи усугубляется лаконичностью автора, что делает особенно необходимой активную работу нашего воображения.
Постараемся путем фантазирования, домысливания построить взаимоотношения героев. Возможно, и кухарка, и нянька – близкие подруги, даже сестры. Нянька, воспользовавшись прогулкой, решает познакомить кухарку с одним своим знакомым. Встреча героев для каждого из них немало значит. Нянька волнуется, нервничает, и присутствие Гриши в данной ситуации раздражает ее.
Ребенок не ведает о переживаниях взрослых, для него в гостях все ново и поразительно. «Душа Гриши переполняется чувством наслаждения, и он начинает беспричинно хохотать». Однако настроение Гриши скоро резко меняется. Во-первых, его забыли раздеть, отчего мальчику становится невыносимо жарко. Во-вторых, ему очень хотелось есть и пить, запахи кухни усилили чувство голода, но нянька, кухарка и человек со светлыми пуговицами так были заняты своими делами, что забыли о Грише. Позже мальчику дают кусок пирога, а кухарка позволит даже отхлебнуть из своей рюмки: «Он таращит глаза, морщится, кашляет и долго потом машет руками, а кухарка глядит на него и смеется». Скорее всего, ей смешно не от того, как Гриша пьет, – она не знает, как ей себя вести в щекотливой для нее ситуации, и по рассеянности протянула Грише рюмку.
«Вернувшись домой, Гриша начинает рассказывать маме, стенам и кровати, где он был и что видел. Говорит он не столько языком, сколько лицом и руками. Показывает он, как блестит солнце, как бегают лошади, как глядит страшная печь и как пьет кухарка…»
В последней части рассказа появляется новый персонаж – мама Гриши, встревоженная бурным поведением сына, который не может никак заснуть, болтает и, не вынеся своего возбуждения, плачет. Повествование последнего куска текста лучше всего вести через восприятие мамы, недоумевающей, отчего у ребенка случился жар. «Вероятно, покушал лишнее, – решает мама. И Гриша, распираемый впечатлениями новой, только что изведанной жизни, получает от мамы ложку касторки». Эта фраза рассказа должна идти уже от чтеца. Исполнительская задача – вызвать у слушателей сожаление, может быть, удивление, что даже мама не поняла Гришу.
После освоения содержания рассказа, работы над его подтекстом, когда можно считать, что текст достаточно глубоко «распахан», чтецу надо попытаться рассказать произведение, стремясь при этом постепенно реализовывать намеченные исполнительские задачи. Рассказав одну из частей, исполнитель снова обращается к тексту с тем, чтобы выяснить, какие слова и выражения не вошли в его рассказ, следовательно, прошли мимо сознания, не запечатлелись в воображении, не затронули его чувства. Важно дать себе отчет в том, почему эти слова в момент чтения остались вне поля зрения, показались несущественными. Например, «мама похожа на куклу» потому, что молодая и красивая как нарядная кукла, или потому, что не хочет выражать своих эмоций при встрече с мальчиком, стремясь быть строгой? Скорее – первое. «Толпа солдат с красными лицами»/солдаты шли из бани, где с удовольствием парились вениками/. «Кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и задравшимися вверх хвостами»/Гриша принял за кошек собак, так как кошка – единственное животное, которое до прогулки ему было известно/.
Каждый чтец, как правило, по-своему заучивает текст. А. И. Шварц, например, мог приступить к работе над текстом лишь после твердого заучивания его наизусть. Но более целесообразным представляется нам выше описанный путь от подробного пересказа к художественному рассказыванию и от него к выразительному чтению. Этот путь характерен был, например, для Д. Н. Журавлева. В качестве примера «вживания» в материал чтец советовал прочитать его несколько раз, а затем пересказать своими словами. Это даст возможность выяснить, что произвело наиболее сильное впечатление и «запало в душу». Затем, снова обращаясь к авторскому тексту, перечитывать его, проверять правильность своих впечатлений. «Такой путь углубления в произведение дает возможность накапливать живое ощущение материала, раскрывать все более новые подробности, подойти "близко к тексту". И только после этого начинать учить текст» [46а, с. 66].


