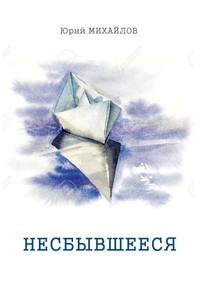Полная версия
Плачущие человечки (сборник)
– Соня! Поздравляю! Вы оба – молодцы! Зас-ран-цы!! Вас заметил Иосиф Виссарионович! Это отлично! – Папанин был готов задушить их в своих объятиях.
* * *Гулянье продолжилось за городом, на дачах у руководства, почти до утра. Иван чувствовал себя скверно. Он был крепок на выпивку, но тут явно перебрал с количеством, перемешал шампанское, коньяк и водку. Соня всё время была рядом, молчала, с любовью смотрела на крепкую фигуру мужа, красивую форму, на орден, так по-свойски разместившийся на широкой груди лётчика.
Иван вышел во двор, рядом с летним туалетом его обильно вырвало. Стало гораздо легче, но хотелось пить, и он направился в дом. На крыльце дачи стояли Соня и заместитель Папанина – Синельников, молодой руководитель, пришедший на эту должность из боевых лётчиков.
– Он теперь не отстанет от вас, Соня, – говорил Синельников. – Я знаю. Это было с моими друзьями. Бедный Иван, он его или возвысит, или тот исчезнет с глаз долой…
– Что вы такое говорите, Станислав Ушерович…
– Я знаю.
Иван, почувствовав, что Синельников пьян, стоял и думал, когда ему объявиться на широком крыльце дачи.
Иван буквально вбежал на ступеньки дачного крыльца:
– Кто с моей женой наедине? С первого раза…
– Ванечка, – сказала Соня, – я тебя искала, жду, замерзла уже.
– Иван, ещё раз поздравляю! – Синельников выглядел трезвым как стеклышко. – Жаль, что не Героя, как всем… Но это не моя вина. И береги жену… Я пройдусь, подышу.
– Милый мой герой… Дай я вытру тебя платочком. – Соня достала из брюк мужа клетчатый заграничный платок, который она привезла с гастролей и который, по уставу, нельзя было носить лётчику в кармане мундира, развернула его и тщательно вытерла лоб, глаза, щёки и рот Ивана. Прикосновения рук были лёгкими, воздушными, нежными, Иван чувствовал, как из него уходят злость, обида на весь мир, на Вождя, Папанина, пьяного-трезвого Ушеровича, на то, что не получил звезду Героя.
Не было здесь, в этой обойме, только Сони. Он так любил её, что боялся даже подумать, что вдруг не увидит свою девочку рядом, на кухне, в постели, в дверях служебного входа в театр. На жену он никогда не обижался, не злился, он считал её своим ребёнком, которому требовалось постоянное внимание.
И Соня смирилась с таким положением при Иване. Она начинала жить своей старой жизнью только тогда, когда он подолгу зимовал в Арктике, из-за непогоды не мог выбраться домой. Соня возвращалась в квартиру к маме, из которой она не выписывалась, и мать с дочерью вместе пытались сохранить огонь в угасающем домашнем очаге.
Мать не то чтобы не любила Ивана: она не могла пока осознать, как и почему необразованный, в широком смысле этого слова, молодой человек смог увести от неё единственное сокровище – дочь. Она одна воспитала Соню, назвала в честь великой русской балерины этим именем, прошла ад отборочных конкурсов в балетные учебные заведения. Мать шутила с немногими подругами, что это она закончила балетную школу, а потом и училище, прошла бесчисленные конкурсы и туры и завоевала все призовые места.
Соня была явно неординарной балериной, это понимали и мать, и члены различных жюри и отборочных комиссий. Но не все, особенно после зачисления дочери в балетную труппу Большого театра. Там уже прижились и процветали свои примы и герои, любимцы Вождя и руководителей рангом пониже. Поэтому мать Сони прекрасно понимала, кем бы через двадцать лет вышла её дочь на пенсию – бывшей балериной кордебалета. Она знала о роли друзей Ивана в карьере дочери, о том, что у Сони состоялась после премьеры спектакля встреча с товарищем Сталиным. Это напугало мать Сони – преподавателя английского и немецкого языков индустриального техникума, где она проработала уже много лет.
Соня смеялась, говорила, что у них теперь есть Иван, и что база у него в Москве, и что он, если что, не дай Бог, сможет содержать их обеих до конца дней. Мама несколько успокоилась, роль и значение зятя в их жизни заметно поднялись и укрепились. На этом компромиссе и строились вся последующая жизнь и отношения с матерью.
* * *Иван узнал, что на даче дежурят две или даже три машины из Главка, и он решил исчезнуть с глубоко надоевшего застолья. Соня не сопротивлялась, хотя в душе была против: ей всё-таки нравилось внимание поклонников.
Машина бесшумно шла по спящему Подмосковью, шоссе было пустынным, только на въезде в столицу светился несколькими фонариками домик сотрудников дорожной милиции. Машина остановилась на мигающий огонёк фонарика, водитель вышел на дорогу, что-то сказал милиционеру.
– Иди врать-то, – сказал молодой, сильно окающий сотрудник поста, – так я тебе и поверил…
Иван вылез из машины, одернул китель, не спеша достал трубку, прикурил от спички.
– Товарищ Афанасьев, – вдруг отдал честь милиционер. – Это точно вы? Разрешите поздравить вас и весь ваш экипаж от имени нашего небольшого, но дружного коллектива. Мы так следили за вами… Ну, за вашим полётом… На полюс, значит. Скажите, а вы правда видели там живого песца?
– Спасибо, – сказал искренне смущённый Иван. – Да, песца мы там увидели. И огромного белого медведя. Правда, когда уже поднялись в воздух… Он помахал нам лапой.
– Ха-ха-ха-хе-ёх, – засмеялся милиционер, – скажи кому, не поверят. А ребята спят, отдыхают, значит. Будить их не буду, только уснули.
Помолчали.
– А что за светомаскировка?
– Ночные ученья. Видите, всё затемнено. От возможной атаки авиации противника, – отрапортовал патрульный.
– Ну, успехов вам, – сказал Иван, выбил трубку о каблук ботинка, пожал руку милиционеру и быстро влез в машину. Успел услышать:
– Расскажу парням… Не поверят.
– Мой хороший герой, – зашептала Соня прямо в ухо Ивана и положила голову ему на плечо. – Тебе приятно? Скажи, тебе приятно купаться в лучах славы?
– Не шуми, – почти шёпотом сказал Иван. – Приятно… Но мне приятнее в тыщу раз целовать тебя…
И он нашёл в темноте её губы, стал целовать их так необычно, будто слизывал с них варенье.
– Во-первых, говорят – «тысячу». Во-вторых, где ты так научился целоваться? Как приятно. Будто горячим обдаёт… Ещё так же поцелуй меня.
Соня совсем расслабилась, голова её раскачивалась в такт движению машины, иногда спадала с плеча Ивана на спинку сиденья. Тогда он брал её голову свободной рукой и снова укладывал на своё плечо. Он недолго держал руку на щеке и подбородке любимой женщины, тут же опускал пальцы в то место вечернего платья, где за вырезом прятались небольшие упругие груди. Соня сжималась от этого прикосновения, вздрагивала, находила в полной темноте губы Ивана и так страстно целовала их, что иногда ей казалось, что она теряет сознание.
Ночная Москва жила своей жизнью даже при учениях по светомаскировке. Люди спешили на дежурства, к открытию колхозных рынков, машины с горячим хлебом едва ползли, обозначая путь небольшими прорезями на фарах. От Белорусского вокзала до дома Ивана машина ехала более получаса, хотя в обычное время на дорогу уходило десять минут. Иван весь измучился: он не знал, куда уложить руки, чтобы не касаться Сони. Та тоже была в напряжении от ожидания прикосновений мужа.
* * *В честь премьеры нового спектакля на современную тему и по поводу награждения Сони Сталинской премией её одну, без мужа, пригласили в Кремль. Она плакала, не хотела идти, знала, что Иван или исчезнет на несколько дней, или напьётся до чёртиков. Что будет молчать, не разговаривая, до самого отъезда в какую-нибудь внеплановую командировку на Север. Но все друзья как будто чувствовали настроение Сони и постоянно твердили ей:
– Не заболей! Вручение Сталинской премии нельзя пропустить.
И вот Сталин увидел грусть в глазах любимой актрисы. Он повернулся к Берии:
– Лаврентий Павлович, надо найти этого таинственного сокола, из-за которого у Сони такие грустные глаза…
Ответ был скор:
– Найдём, дорогой Иосиф Виссарионович!
Папанин, мгновенно протрезвев, выскочил незамеченным из зала приёмов, добрался до телефона, связался с дежурной частью Главсевморпути.
– Срочно, – орал он в трубку, – засранцы!! Афанасьева сейчас же убрать на самую дальнюю точку! Са-му-ю!!! До моего особого распоряжения. Теперь всё это оформи задним числом под грифом «Совершенно секретно» и спрячь. Если просочится куда-то информация, головы вам поотрываю.
Берия опоздал на несколько часов. Если бы Ивана не убрали три часа назад с базы на окраине столицы, не погрузили в самолёт и не отправили в Архангельск, он оказался бы в руках Лаврентия Павловича. Затем штурмана перевезли на остров Рудольфа, а потом – на острова, полуострова, мысы и мысочки, где одиннадцать месяцев зима с пургой, а остальное время – лето. Короче, в Москве Иван не появлялся два года. Соня знала, что случилось: они пересеклись с Папаниным и тот всё рассказал.
Она стала солисткой сразу трёх спектаклей, её приглашали на приёмы в Кремль как самую молодую заслуженную артистку республики. Об Иване никто и никогда не вспоминал и не спрашивал.
А тот последнее время сидел на чукотском аэродроме, выводил суда из ледового плена. Отрастил бороду, заматерел, стал ещё мужественнее и красивее. О Соне ни с кем и никогда не заговаривал. Только раз прилетевший туда Папанин вскользь сказал, что Соня будет на гастролях в Америке.
Иван ушёл бы, точно дошёл бы до Аляски, но он так же точно знал, что погубил бы Соню…
Он попросил Папанина:
– Скажите ей: я дышать без неё не могу.
И тот слово в слово передал фразу Соне.
Миллионщики
Руки впились в обструганные рукоятки, старый отцовский ремень наброшен на шею. С ним отец прошёл всю войну. Теперь засаленная, но прочная парусина служит по хозяйству, ремень привязан к тачке. Резкий толчок, усилие, и самодельная тележка покатила по булыжнику, громыхая литым чугунным колесом. Улица ещё спит. С реки поднимается клочковатый холодный туман. Солнце встало, но чувствуется, что день будет ветреным, нежарким. «Хорошо, что надели душегрейки, – тепло думает Серёга о зелёных безрукавных стёганых курточках. – Мама – фантазёрка, придумает же – душегрейка»
– Куда вас понесло ни свет ни заря? Громыхаете, всех чертей побудите… – Дядя Коля не ругается, ему приятно, что такие трудолюбивые пацаны растут у Маруси, соседки по улице. Жаль, отец ушёл после войны рано. – Езжайте по земляной колее: и вам удобнее, и людям – не в наклад.
– Спасибо, дядь Коль! – ответил звонким голосом младший из мальчиков – Мишка. – Мы на свалку. Костей надо собрать. Утильщик обещал принять у нас с утра у первых.
– Чо ты разорался-то? – одёрнул брата Серёга. – Свалка, свалка… Поори на всю улицу – щас мигом все набегут, у утильщика и денег не останется. – Старший из братьев резко свернул на крупный утрамбованный, как асфальт, песок, колесо затихло, раздавалось лишь шуршание песчинок.
Переехали, умело лавируя между шпалами, трамвайные рельсы, потом нырнули в туннель под железнодорожной насыпью, ведущей на мясокомбинат. Дальше раскинулось царство барачных королей и их подданных. В войну и после неё семья Сергея и Мишки жила во втором бараке. Мама работала дояркой на комбинате, несколько дней до забоя скотины она кормила стадо, доила коров, сдавала молоко в столовую. Дети знали, что в войну семья из пяти человек – отец до тяжёлого ранения воевал почти четыре года – выжила благодаря маме: ей выдавали в день полведра картофельных очисток и банку молока, которое она сама и надаивала.
Мишки тогда, конечно, не было, но Серёга помнит, как ждал прихода мамы: от голода у него сводило живот, а к горлу то и дело подкатывала тошнота. Хлеба почти не видели, из очисток мама варила огромную кастрюлю похлёбки и пекла тонкие блины (забойщики скотины совали ей в карманы халата, зная о четырёх маленьких детях, срезки жёлтого нутряного жира). Вот праздник так праздник, но он выпадал раз в неделю, когда маме давали отдохнуть день. И в ночь она снова отправлялась к стаду, а утром – опять дойка, кормление животных. И всё на себе, вручную, возила воду и корма на двухколёсной тележке. От постоянных доек пальцы на руках разбухали, немели, мама не могла удерживать мелкие предметы. Поэтому кружка под чай – литровая, ложка – деревянная, тяжеленная, до войны отец собирал ею мёд в бидонах на пасеке в деревне, где жил двоюродный брат.
* * *Бараки прошли стороной, возле грязно-коричневого четырёхметрового забора, отделяющего комбинат от жилпосёлка. На двух улицах – тишина, даже бабки, страдающие бессонницей, не сидели на утеплённых старым войлоком скамейках возле длинных серовато-чёрных строений.
– Пока везёт, – сказал нетерпеливый Мишка, – никого!
– Да заткнись ты! Накаркаешь беду, разбудишь кого-нибудь. – Серёга верил в Бога, ходил тайно с бабушкой в церковь и носил крест. – Господи, спаси, сохрани и помилуй нас…
– Стоять! – Команда последовала неожиданно из кустов лебеды, которые прикрывали забор на полтора-два метра. – Ко мне! – Голос мужской, грубый, даже очень грубый, как в трубе: так эхом отзывается подземный туннель.
Серёга понял: надо подчиниться, – остановил тачку, снял ремень с шеи, прошёл два шага к лебеде, стоял по колено в свежем зелёном молочае. Увидел в кустах нестарого человека, лежащего на боку.
– Ты, дядь, чо? Случилось что-то?
– Подходи ближе… Не дрейфь. Я споткнулся вчера вечером, упал, уснул. Вот очухаться не могу. И до тележки не могу доползти.
И тут Серёга понял: перед ним в траве лежит инвалид без обеих ног. Ни встать, ни скоординировать движения не может… Всё у него получается как у ваньки-встаньки: он обопрётся на культи ног, а туловище опрокинет его на спину.
– Помоги мне, сынок, у забора стоит моя коляска, попробуй вытащить её, малого позови, вдвоём будет полегче.
Серёга кивнул Мишке, они пробрались сквозь заросли чертополоха, не спеша, шаг за шагом вытащили трёхколёсную инвалидную коляску с механическим управлением в виде ручных рычагов. Толкаешь рычаги вперёд-назад – они соединёны с колёсами, – и тележка едет. И даже скорость можно развивать приличную: мальчишки видели на рынке, как два-три пьяных инвалида на спор устраивали гонки.
Подвезли коляску, мощными ручищами инвалид облокотился на их плечи, выждал секунд пять и сильно-пресильно бросил тело вверх. Как смогли, братья помогли ему. Но главное, что им удалось, – они удержали его в равновесии. Он сумел-таки попасть на дерматиновое вытертое сиденье коляски. Тут же перехватил культи ног широким солдатским ремнём, перевязал их туго-натуго, распластался по сиденью широкой спиной и задышал медленно и глубоко.
– Ну что, соколики, спасибо… Как звать-то?
Ребята назвались по именам, молчали, готовые в любую минуту улизнуть.
– Зовут меня дядя Петя, работаю сторожем на свалке… Вчера немного перебрали, не обращайте внимания. А вы куда намылились, за костями небось? Берите с краю, мелкие, если кто наедет, скажите, мол, от дяди Петра идёте. Ну, бывайте, поеду пожру, да помыться малость надо. – Он выехал на дорогу и энергично заработал рычагами: коляска зажужжала плохо смазанными подшипниками.
Мальчишки боялись барачных пацанов пуще милиции и сторожа, присматривающего за свалкой. Те здесь – короли, это их территория. Они монополизировали сектора крупных и мелких костей животных, которые ежедневно подбрасывали в вагонетках по узкоколейке рабочие мясокомбината. Кости сдавали в утильсырьё машинами, по несколько штук в день. Хвостами и костями грудной клетки животных занимались взрослые мужики: спившиеся рабочие комбината, опустившиеся на дно жители большого посёлка. Сначала они приходили утром на свалку, получали наряд на работы, разводили костры, коптили скелеты свиней и коров, счищали нагар на обрезках мяса и сдавали «копчёные деликатесы» приёмщику из барачной мафии. Тут же получали деньги или водку, напивались, засыпали, день путали с ночью, костры чадили и коптили, палёная водка и самогон лились рекой.
Потом вовсе перестали уходить со свалки, превратились в рабов барачных баронов. Жили в землянках, купались, изредка мылись-стирались в рядом протекающем ручье, пили эту воду, мастерили собственные самогонные аппараты, гнали сивуху, снова пили, пели, дрались, убивали друг друга… И всё делалось тихо-мирно, без вмешательства милиции. Женщины из бараков продавали на колхозном рынке большого посёлка копчёные кости, за копейки можно было полакомиться непревзойдёнными по вкусу мясными обрезками. А студень из лодыжек, хвостов и хрящей животных превосходил по вкусу ресторанную стряпню. За противнями с холодцом выстраивались очереди ещё до приезда на лошадях жительниц бараков. Чистые белые фартуки, нарукавники, алюминиевые широкие ножи для резки студня, весы с корытцами из выкрашенного магния, улыбки и прибаутки беззубых красавиц – всё это приносило десятки тысяч рублей прибыли. Свалка – большой механизм по зарабатыванию денег, отлаженный, как часы. Он не терпел посторонних рук, глаз, живых свидетелей.
* * *За забором шла широкая дорога в центр свалки. Серёга с Мишкой, конечно, свернули направо, едва заметной тропинкой покатили к дальним участкам. Там и кость старая, мелкая, вымазанная грязью и торфом: такой приправой, смешанной с ДДТ и ядом для крыс, боролись с полчищами грызунов и других паразитов. И народу здесь практически не бывает. Мальчишки, естественно, не знали, что неделю назад этот участок стали осваивать заново, провели узкоколейку, рабочие повезли на выселки самые крупные кости забитых животных. Когда братья подъехали к большому, но мелкому оврагу, обомлели: по краям узкоколейки грудами лежали жёлто-белые кости тазобедренных суставов, лопаток, огромные, с хрящами лодыжки коров и лошадей. Они слышали, что в Казахстане – дикая засуха и табун из тысячи лошадей привезли на мясокомбинат.
Серёга первым очухался, начал разворачивать тачку, решил, от греха, уйти по краю оврага дальше к лесу и ручью. Мишка вцепился в руку брата, зашептал:
– Мы чуть-чуть, пять-шесть лопаток положим, присыплем травой, сверху мелочи навалим, никто и не заметит…
– Прибьют! Отцепись, дурачок, не понимаешь, что ли, чем это для нас может кончиться?! Нас землёй присыплют.
Мишке трудно понять рассуждения брата, но тот в шестом классе учится, авторитет для второклашки. И ещё Мишка очень любит своего старшего брата: тот всегда защищает его от наглых и сильных пацанов из других классов. И всё-таки не удержался Сергей, поднял пяток самых крупных костей, бросил на дно тачки, нарвал пахучей лебеды и закрыл ею груз. Они развернулись и не спеша стали выбираться по пологому спуску. Опоздали выйти на дорогу: на кромке оврага стояли шесть пацанов от десяти до пятнадцати лет, курили, делали вид, что не замечают братьев.
– Ой, хтой-то к нам в гости пожаловал? – начал дурачиться старший, единственный из всех, на котором обуты белые тапочки. – А вы думали, нас и нету? А мы – вот они, тутотки… Чо в тачке-то схоронили?
Серёга молчал, понимал: будет показательная порка, поэтому, что бы он ни говорил, ни веры, ни пощады не жди. Пошёл ва-банк:
– Нам дядя Петя разрешил пару костей взять… Мы ему помогаем сторожить.
– Ха-ха-ха, – заржала дружно компания, – им дядя Петя культями из кювета помахал. Идите, мол, забирайте самые здоровенные кости, сдавайте, получайте денежки и будьте миллионщиками. Видели его в кювете лежачим? Мы видели. Он ещё три-четыре часа проспит… После вчерашнего бухала.
– Неправда, – не унимался Сергей, – мы помогли ему в коляску залезть, он поехал поесть и снова вернётся сюда. А нам приказал взять немного костей и дождаться его. Они кореша с нашим отцом, вместе воевали в танковых войсках.
– Ты за кого нас держишь, салажонок?! – начал накручивать группу старший. – Мы из бараков, это наша свалка, наши запасы… Кто на нас мазу тянет, тот фраер! Мы его будем больно бить, резать и жечь. Гроши есть? Можете откупиться, только сразу, не в долг. Тачку нам оставите, куртяжки сымайте, сапоги резиновые… Нам всё сгодится здесь.
Серёга взял брата за руку, успел посмотреть в глаза, успокоил, второй рукой стал снимать с него душегрейку. Тихо говорил:
– Сапоги сам снимай, но потяни до выхода из оврага… Будем драпать. Если что, беги до наших, скажи пацанам. Может, дядю Петю увидишь, пожалуйся ему.
Серёга отпустил руку брата, подошёл к старшему по возрасту пацану и, передав две куртки, начал снимать старые обрезанные отцовские сапоги. Мишка первым снял резиновую обувку, бочком-бочком почти обошёл компанию. А те смотрели на униженного Серёгу, ржали. Один худющий и подкашливающий без конца пацан содрал с рукояток на тачке ремень, предложил связать руки Сергею. И уже вплотную подошёл к мальчишке, как получил сильнейший удар в печень, скрючился от боли, упал на землю и кряхтел, не мог выговорить ни слова. Мишка видел, как ударом в челюсть брат свалил старшего пацана с ног. На него набросились остальные, повалили на землю, двое вязали ремнём ноги. Серёга отбивался, но силы покидали его. Он поднял голову, нашёл глазами брата, закричал:
– Беги! Сильно беги! Найди наших…
Мишка ещё несколько секунд стоял в нерешительности: он не мог бросить брата. Но понял: сейчас и его скрутят, тогда точно никто не узнает, что убили их на свалке. Он рванул так, что засверкали голые пятки. Не прошло и минуты, как его фигурка скрылась за поворотом высоченного забора. Один из барачных бросился за мальчишкой, но где ему угнаться за вихрем в поле.
* * *Мишка, не чувствуя усталости, добежал до первого барака, остановился, стал искать инвалидную коляску. Рядом – вход во второй барак, коляски опять не видно. Подошёл к стенке кирпичного туалета, облокотился руками на шершавую штукатурку: его вырвало, наверное, от пережитого страха и такого быстрого бега. Поискал глазами колонку с водой, не нашёл, вытер ладонями рот и побрёл к другим баракам. Возле четвёртого жилища увидел у широких ступенек, ведущих на веранду, коляску. Видимо, с них дяде Пете легче взбираться на сиденье.
Мальчишка открыл дверь, в серой темноте разглядел несколько керогазов, святящихся ярким голубым пламенем: жители грели воду, готовили завтраки. Запахов не чувствовалось, где-то в глубине коридора светился дверной проём: на лето жители открывали и вторую, запасную дверь. Мальчик прошёл больше половины коридора, встал, не зная, что ему делать, куда идти. И вдруг заревел, сначала тихо, поскуливая, потом всё громче и громче. Через пару минут он ревел в голос, всхлипывая и размазывая слёзы и сопли по щекам.
Открылась ближняя дверь, вышла женщина, ещё не старая, в одной ночной рубашке, посмотрела на Мишку, сказала:
– Ты чей? Чо орёшь с утра пораньше?
– Брата убивают… На свалке… Мишка я, а он – Серёга. Дядя Петя нужен, инвалид.
– Вон чо творится-то… Тебе в первую дверь, у входа. Там Петька-то живёт.
Когда Миша подбежал к выходу, открылась дверь из комнаты слева, в проёме, держась за ручку, сидел-стоял дядя Петя. И с места в карьер:
– Прищучили вас, а я говорил: скажите, мол, от меня.
– Не слушали… Смеялись-обзывались. – Мишка перестал реветь, но не мог успокоиться, всхлипывал и фальцетил на гласных. – Убить обещали… Серёгу.
– Ну, не бойся… Успокойся. Не за пару же костей. Ведь это тоже пацаны, так, наваляют, чтоб не блукали по чужим территориям.
– Там драка на кулаках, у старшего кровянка пошла.
– Ну что же вы как зверята, а? Меры не знаете. – Дядя Петя в брюках с подрубленными штанинами и майке навыпуск пополз к выходу. – Ну, давай, помогай: дверь открой, подержи, щас я выберусь, спустись к коляске, держи её крепко.
Он с разгона на двух верхних ступеньках заскочил в коляску, оттолкнулся от перил и выехал на дорожку, не останавливаясь, заорал:
– Прыгай ко мне, вместо ног есть место…
Мишка изловчился, удачно заскочил в коляску, прижался к обрубкам ног хозяина. Почувствовал сильный запах пота, иногда, когда дядя Петя наклонял голову, несло перебродившей брагой. Но стало весело: сильные руки работали беспрерывно, рычаги набирали скорость, коляска подъезжала к повороту забора. Мальчик забыл про брата, дядя Петя так походил на отца, которого Мишка почти не помнил. В картинках памяти остались аптекарская палка, нешагающая нога, большая сильная рука отца, согнутая в локте, на которой мальчик висел по несколько минут. А тому хоть бы что, даже не уставал.
* * *Дядя Петя буквально врезался в пацанов. Они не ожидали такого поворота событий, бросились врассыпную, уходили низом оврага, даже не останавливались, отбежав на безопасное расстояние. Инвалид орал во всю мощь лёгких:
– Ну, Сювель! Ну, сучий сын, погоди! Я тя предупреждал. Шкуру спущу и скипидаром намажу, гадёныш!
– А ты догони, культя хренова… – запыхавшись, огрызался старший группы по кличке Сювель. Он остановился, упёр руки в бока, пытался удержать возле себя дружков. Где там! Они, видимо, так боялись инвалида, что перебежали дно оврага и, не останавливаясь, начали подниматься на противоположную сторону. – Я точно тя урою, чёртов инвалид. Не посмотрю, что ты в танке горел… Уснёшь пьяным – башку отрежу.